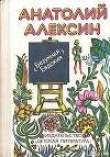Текст книги "Четверо в дороге"
Автор книги: Василий Еловских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
11
А теперь о Сычеве...
Свидетелем тех событий я не был. Узнал обо всем позднее. А было так. Примерно так...
...Сычев плакался на судьбу. Когда мальчишкой бегал, старуха-цыганка пророчествовала:
– Бо-ольшим человеком будешь, помяни меня. И родимые пятна на грудях, и карты о том говорят.
Попадись ему эта старуха сейчас, изувечил бы.
Простой сторож, ниже, кажется, и опускаться-то некуда. Правда, дом – полная чаша: одних перин пуховых с полдюжины. Не раз говорил тому, другому соседушке: лежу – будто плыву по воде морской, каждая косточка на весу. Стулья венские, зеркало купеческое во всю стену, ковры, часы с боем, горка, смастеренная по наилучшему образцу. А огородище какой! Хо-хо! Огород-то, можно сказать, и кормит. Питается не хуже, чем в ресторане: мясцо три раза в день, и водочка не переводится.
Но это еще не главное. «Главное» в земле зарыто, в старинном медном кувшине с великолепным страусовым горлышком – в музеях чудо такое не увидишь. Тридцать пять золотых пятирублевок, серьги и кольца золотые. «А медных монет не счесть. Пятирублевки с фронта привез, серьги у цыганок на хлеб выменял в голодуху. А медяки старик один задарма отдал. Бери, говорит, кому они теперь нужны. О, еще как будут нужны! Кувшин в огороде закопал – десять шагов от бани к югу. Наверху грядка с луком, внизу – золотишко.
И бумажные деньги припрятаны. Советские. Об этих деньгах женка знает, о золоте – нет.
С базара деньжонки-то. Там ладненько получается у него. При других порядках купцом бы стал. А что, и стал бы! Почему нет? Хватка есть, вкусы покупателя знает. Ну, вот такая картинка... Весна. Грязина, лужи, слабый дождик. Топает по базару мужичок, из кармана горлышко поллитровки выглядывает, поблескивает. Торопится мужичок, ищет закуску славнецкую. Тут и подзывай его, тут и подсовывай редисочку крупную, ядреную – сколько хочешь отвалит.
С этой бы хваткой Сычеву да в старую порушку!.. Жил бы как у Христа за пазухой.
Знал бы в те давние годы, что победят большевики, отдал бы им и душу, и тело. А так ли? Не-ет, этот новый мир чужд ему. Чужд. Тело – да, но только не душу.
Когда-то он хотел шагать «в ногу со временем». Да уж больно трудно – ямы, ухабы, кочки, болотины на дороге. Сперва-то, при царском режиме, торопко пошел было, а потом покачиваться, спотыкаться начал, падать. А теперь так и вовсе задним ходом, как рак...
Как они головы поднимают, эти нынешние активисты. Посмотрите на Шахова или Ваську Тараканова. Шахов – начальство, костюмчик – шик и голос генеральский. Васька шляпу напяливает, при галстуке. А ведь отцы их в заплатах, в рваных обутках ходили, клички имели. В царскую пору отец Васькин на вечерках хвастался перед девками: «Мясцо в зубах застряло, выковырять надо». Смотрите, мол, какой богатый, мясо жру.
Летом спел Сычев пьяному Тараканову частушку, с подковыркой частушку, с антисоветским душком. Так у Васьки глаза от злости кровью налились, как у быка в драке, чуть не убил. Долгонько с синяками ходить пришлось, прятался, когда Ваську видел.
С утра до ночи – работа. Только после обеда поспит часок да во время дежурства у магазина вздремнет. Дремал. Сейчас уже не будет дремать. Два раза заставали спящим на посту. Последний раз ночью осенней. Где-то ставни печально поскрипывали, тяжко и болезненно постукивали отрывающиеся от кровли листы железа – шумы, нагнетающие тоску и сон. Видел во сне всякие приятные вещи: курорт южный, белые шикарные виллы, кипарисы и себя, купающимся в морских волнах. Потом он командовал пароходом. Почему пароходом, бог его знает, – никогда не мечтал о капитанстве. Проснулся от удара в плечо. В лицо ему светили фонариком, и начальнический бас гремел:
– Как вы смеете спать? Как вы смеете?!
Освободили от должности, сторожем уже никуда не берут. Спросит насчет работы – «приходите завтра с документами». А назавтра другая песня: «Свободных должностей нет. Очень сожалеем...» Значит, справки навели и ни о чем, конечно, не сожалеют.
Стал чернорабочим в механическом цехе. В другие цеха не взяли. Шахов взял.
С годик поишачим. А потом... потом видно будет. Жаль, Мосягин сбежал. А может быть, в одиночку-то и лучше...
Придя на утреннюю смену, Сычев начал разыскивать профорга, надо было встать на учет. Горбунов работал в ночную. Сычеву показали на мужчину крепкого телосложения, который, азартно размахивая руками, что-то рассказывал пожилому токарю.
«Оратор», – не без иронии подумал Сычев.
Резковато, требовательно прогудел гудок. Горбунов пошел к выходу. Сычев несмело окликнул его.
Пожимая руку, Горбунов улыбнулся. Сычев подивился: до чего сильно улыбка изменяет, красит грубое лицо профорга.
– Документы с собой?
– Так вот они. – Сычев вытащил из кармана пиджака профсоюзный билет и учетную карточку. – Вот они, документики-то, хи-хи!
Горбунова удивил идиотский смех незнакомого человека.
– Смешинка в рот попала?
И тут вдруг (как часто все же в нашей жизни появляется это, хотя и простое, но со зловещим оттенком слово), вдруг лицо у профорга вытянулось, стало настороженным, сердитым, огрубленным и опасливым. Горбунов глянул на руку Сычева, глянул так, будто это была не рука, а змея гремучая, и уперся взглядом в ухо рабочего.
– Сыми-ка шапку, мил человек, – сказал тихо, почти шепотом.
– А что такое?
– Сыми!
– Чего тебе?
– Сыми, говорю!
– Да ты чё?
– Ну! – Он грубо содрал шапку с головы Сычева, коротко усмехнулся, лицо сделалось торжествующе злобным. – Иди-ка сюда! – Потянул Сычева в сторону, подальше от станков и людей. А почему потянул, и сам не смог бы сказать: уж ему-то чего было таиться.
– Ну-ну, сдурел что ль или выпил?! – Сычев откинул руку Горбунова. – А ишо профорг.
– Неуж это ты? Глазам не верю. Бог ты мой! Ты ведь! В самом деле ты. Т-ты!! Чудеса! Как в сказке. Ха-ха-ха! – Хохотал он прямо в лицо Сычеву. – Здравия желаю, ваш-ше бл-лагородие! Надо же!..
– Чё ты плетешь? Ну чего ты плетешь-то? – Сычев говорил быстро, хрипловатым грубым голосом, по-шарибайски окая – изображал простака.
– Хотя ведь ты был не офицером, а унтером – нижний чин. До благородия не дотянулся. Но каким унтером! Всем унтерам унтер. А ишо говорят, будто чудес не бывает.
Сычев матюкнулся.
– ...с ума сошел, что ли? Ты чего тут комедию разыгрываешь? За кого меня принимаешь? Какого черта!..
– Изменился. Сгорбился и почернел. И усов не стало. А каким молодцом-то был, ух! По-пал-ся!! – Последовала грубая бессмысленная брань. – Попался, гадина!!!
Станки громко, монотонно гудели. У входной двери завывала автомашина, и Сычев едва понимал тихий, озлобленный и шипящий говор профорга.
– Ой-я!! Оно славно так... Хи-хи!
Горбунов будто не слышал идиотского смеха.
– Ишим не забыл? Помнишь, как в подвале?.. А?! А помнишь на окраине Ишима, у скотского кладбища... ночью?..
– К воздуху бы, в поле... – тараторил Сычев, не глядя на Горбунова.
– У скот-ско-го кла-дбища, – уже громко, раздельно и четко повторил Горбунов. – Залпы. Ночи три или четыре были залпы. Мы с тобой хор-р-ошо все это помним, оч-чень хо-рошо! Тюрьму ты охранял по всем правилам. Как и положено у Колчака. Не вздумай вилять, гад! Не виляй, слышь! Слышишь? Я тебя навек запомнил, сволота! Морда другая стала, а ухо – попробуй-ка спрячь. Оно у тебя аккурат наполовину отсечено. Я ишо тогда в Ишиме подумал: «Наш рубака промахнулся, надо б по башке». Молчи уж! Еще бормочет чего-то. И два пальца у тебя наполовину отрублены. Полного пальца нет – бывает, а наполовину – редко.
Секунды две-три Сычев молчал, не двигаясь, будто застыл, онемел, потом скривил рот, но хохотать не стал, а сказал приглушенным, напряженным голосом:
– Я не расстреливал. Я никогда никого не расстреливал, слышишь? Никогда! Пусть отвечают те, кто убивал. Ой-я! Я ж болен, господи! Меня ж силком... Разве ж пошел бы к ним. Колчак всех забривал. Один я, что ли? Как я мог не пойти, интересно? Ну, побоялся, испугался... В Новоуральске все знают, что я служил. А я и не скрываю. И не думаю скрывать, да. Не один я из шарибайцев. И у нас в цехе двое... двоих, знаю, служили. Назаров Иосиф и Душкин.
– Раз-бе-рем-ся! По морде ты меня тогда съездил, сволочь. И в брюхо пнул. Хотел к офицеру на допрос вести, а я не быстро вставал, ноги отказывали.
– Ну, этого не было. Ты чё? Чё ты, в сам-деле? Ой, будто молотками по голове. Круги...
Сычев стал приглушенно смеяться.
– Знать, служба охранника с ума свела тебя. Вот уж воистину: гора с горой не сходится... Если б сказали, что такое случится, не поверил бы ни за что. Поблек ты, а каким молодцом был.
Фразы последние Горбунов произнес совершенно спокойно, будто спрашивал: «Ну, как, ничего поработалось?»
– У нас будет еще дли-и-инный разговор с тобой.
Он шагнул на Сычева, как на пустое место, и вышел во двор.
Сычев, в который раз скользнул тревожным взглядом по цеху: каждый занят своим станком. Подросток-слесарь, поспешая к конторке, пнул какую-то железяку.
Из бешеного потока мыслишек мгновенно высветилась одна: «Это может стать гибелью».
Сычев не помнил Горбунова – много их было. История с Горбуновым сама по себе не страшна: мало разве за Колчака воевало. Простой унтер. Тюрьму охранял. И что? Уж куда послали. Солдат есть солдат. Ударил?.. Тоже не так страшно. И надо доказать еще, ударил ли. И в Ишиме он действительно никого не убивал. Экая беда – был колчаковским солдатиком. И вообще, ведь документов никаких нет, колчаковцы умно сделали – уничтожили свои документы. Сычев узнал об этом с год назад, совсем случайно, когда лекцию слушал. Дома поллитровку водки на радостях осушил. С того вечера облегчение почувствовал, будто десяток лет с души сбросил. А то все годы страшился, думал: вот-вот за шкирку возьмут. Когда ночной ветер кровлей стучал, на крыльце шебаршил, ставнями поигрывал, Сычев болезненно вздрагивал: «Не идут ли?!» Придурковатого изображал из себя: много ли с такого возьмешь. Тронутых в тюрьму не садят. Сперва трудно было без конца комедию строить, потом привык; на людях нет-нет да и разразится идиотским смехом, спорет чушь. Подмечал: иным нравится глупей себя человека видеть и весть о его странностях разносить по миру.
Колчаковских документов нет, и времена те уже далеко-далеко в прошлое ушли. Можно бы и «излечиться», но, поразмыслив, Сычев решил: не стоит, пущай за придурка считают, не помешает. Ему умных должностей не надо. И слава умника ни к чему.
Не раз честил себя: черт связал с колчаковцами. Нашел кому служить. Будь вы!.. Подыхающие шакалы, пьянчуги, развратники. Да и вообще, что армейская служба... В царскую пору прапорщик получал почти столько же, сколько хороший токарь или литейщик. Да и поручик – ерунду какую-то... Тоже – офицеры? Лакей больше насбировал, а с доктором, инженером и сравнивать нечего. С лакея какой спрос – «эсплуатируемый», доктору и инженеру при любом строе почет. А скажи-ка «офицер», да еще белый – ох-хо-хо!! Даже на унтера вон как наступал, чуть не сглотнул.
...Если начнут копаться, то, пожалуй, докопаются, нынче умеют. Его унтер-офицерская пора – ерунда, легкий насморк. Это потом уже, в Омске, Сычева в офицеры произвели (в тяжкую для себя пору Колчак в либерала играл – из плебеев офицеров делал). И тогда... Та пора уже не насморк, а болезнь смертельная – дураком был, дурацкие дела делал. И лекарства против той болезни нету.
Нету!
Сычев ринулся к выходу.
Горбунов, остановившись неподалеку от цеха, прикуривал. Его лицо, слегка освещенное горящей спичкой, казалось жестким.
На заводском дворе полутьма, сырая, ветреная. Людей не видно. Из цехов доносятся шум машин, пронзительный свист, беспрерывное грохотание, слышатся резкие удары о металл – из каждого цеха свои звуки. Крепкий, острый, ни с чем не сравнимый запах завода бьет по носу, он неприятен Сычеву. Тускловатые лампочки раскачиваются от ветра. Тени заводских корпусов нервно шарахаются из стороны в сторону, пугая Сычева.
– Слушай!.. – Сычев положил руку на плечо Горбунова. – Не говори, бога ради, никому. Они ж силком меня.
Горбунов дернул плечом, сбрасывая руку.
– Разве ж я бы пошел...
– Незаметно было, что силком...
– Не говори, слушай. Ну, ошибся, может, в чем-то немножко. Темный, неграмотный был. Какого хрена я понимал. – Мелькнула спасительная мыслишка: Горбунов – пришлый, откуда знать ему, кто грамотен, кто неграмотен. – Стока лет уж прошло. И разве я один...
– Разберутся, кому надо.
– Да мало ли людей служило у белых.
– Разберутся.
– Да в чем разбираться-то?
– Раз-бе-рут-ся!
– Ты... ты ничего не докажешь.
– Посмотрим.
Многословный Горбунов говорил сейчас коротко, резко.
– Посадить хочешь? – Спросил зло и тут же залепетал быстро, жалко, тихо, как бы про себя:
– В темноте-то глаза болят, уши закладыват.
– Отстань, мне с тобой и говорить-то противно. Плетет, не знай чего.
Горбунов пошел. Сычев дернул его за руку.
– Послушай!.. – В голосе Сычева слезы.
– Уйди!
– Ну, послушай же, бога ради!
– Отстань, говорю! Ты понял?
– Одну минуту...
– Э-э-э!..
Лицо у Горбунова в тени, глаз не видно, но Сычев чувствовал ненавидящий, вперенный в него взгляд.
– Ты в конце концов должен меня выслушать, товарищ Горбунов.
– Какой ты мне товарищ, шваль колчаковская! – Сказал спокойно, сплюнул и, подняв воротник, зашагал быстро, сердито.
Сычев схватил кирпич.
12
Труп Прохора Горбунова нашли возле штабеля кирпичей, привезенных для новостройки, метрах в ста от механического цеха.
Это было делом неслыханным. Никогда на заводе не убивали людей. Самый отпетый уголовник, самый злостный буян утихал на заводе. Завод – святыня. Работают рядом два недруга, не разговаривают, мечут сердитые взгляды, но и только... А как выйдут из проходной – в драку.
По заводу поползли слухи: убил Горбунова Мосягин. Катя охала:
– Смотри, чтоб и тебя...
Но я уверен был: тут не мосягинских рук дело. Уж он бы в первую очередь со мной разделался.
Однако лучше быть настороже. Я оглядывался, когда шагал по темным переулкам.
В ноябре Сычева посадили, как-то все же докопались до него. Заставили раскрыть тайники с золотишком, бумажными деньгами советскими и документами, в которых указано было, что он, Сычев, не как-нибудь, не случайно, не шутейно, а по-настоящему, верой и правдой служил их превосходительству адмиралу Колчаку, в маленьком, но все же офицерском чине прапорщика: «На передовых позициях проявил храбрость...» Выяснили, что антисоветские лозунги на здании клуба и на заборе возле разрушенной церкви тоже он писал.
Жена у Сычева была тучной, болела. В больницу бы, а он: «Лежи, лежи, отдыхай, доктора-то быстрей угробят». Кормил ее салом, супами жирными да селедкой, тем, что вредно людям тучным и больным. Приучал к браге и пиву: «Для облегченья пренепременно стакашек-другой пропусти перед едой». Катя говорила: «В алкоголика превратил... Развестись боялся. И ждал смерти ее. Видно, что-то выведала...»
Как разоблачили чекисты Сычева, не знал никто, а вот как встретились Сычев с Горбуновым, что говорили они, о чем мечтал Сычев, о том заводские узнали. Говорят, на диво откровенен был Сычев напоследок, в разговоре со следователями. Я услышал обо всем этом от Василия. Новости зять узнавал раньше других. И не потому, что был охоч до них. Нет. Просто люди тянутся к сильному человеку, а приятней всего подойти с какой-то сногсшибательной новостью.
Меня вызвал в конторку Шахов.
Он что-то быстро старел. Лицом потемнел, толстые губы вроде бы еще сильней выпячиваться стали.
– Послушайте, Степан Иванович...
От него как будто вином попахивает. Невероятно! Чтоб Шахов и в рабочее время... Я подошел поближе. Так и есть, пахнет. Но держится великолепно... Только в глазах болезненный лихорадочный блеск. Вовсе стали сумасшедшими глаза, даже смотреть неприятно.
– Скажите, вы жили рядом с Сычевым?
– По соседству.
– Почему же вы мне ничего не сказали о нем. Это ж такая гадина. Такой подонок! Кругом черный.
– Еще черней бывают. А что я должен был сказать?
– Вы же знали, что он оформляется к нам на работу.
– Знал, конечно.
– И ничего не говорили.
– Ну, а что я должен был говорить?
– Да как же?..
– Ну, а все-таки что?
– Положим, вы не знали, что он колчаковский офицер и каратель – это ясно. Но вы, надеюсь, видели, как он жил, какой вел образ жизни. Спекуляция, торговля на базаре... Хапанье...
– Своим торговал.
– «Своим»... Он все, все подчинял единой цели – обогащению. Контра есть контра. Будто не видели. И Мосягин, дружок Сычева... Он ведь и к вам ходил.
– Знаете что?..
– Что?
– Давайте, не будем. Хотите пришить мне какое-то дело? Не выйдет! Бесполезное занятие, Егор Семеныч.
Шахова, видать, раздражали мои ответы, впился диковатыми глазами-буравчиками, вот-вот просверлит.
– Никакого дела вам никто пришивать не собирается. Но закрыть двери в цех для врагов вы обязаны по долгу службы. Вы понимаете, какие идут разговоры? «В механическом контра!», «Убийцы!», «В механическом шайка шпионов и диверсантов». Хотя какие они шпионы? Ужас! Уж на что Сорока... зря не скажет... И тот: «Что у вас там такое?! Кого вы подбираете? Куда смотрите?» И так это подозрительно глядит. А на пленуме райкома... Побывали бы вы на пленуме. Сколько там было разговоров. Весь город... А я... Разве я один виноват. Есть же помощник начальника цеха, старший мастер, мастера, бригадиры... Профорг, комсорг. А отвечать должен только я... Будь оно все проклято!!! У меня, обязательно у меня! Везде успей, за всеми угляди.
Он говорил уже как бы сам с собой, качал головой и горестно морщился. Но я в ту минуту не чувствовал к нему жалости.
Спорить бесполезно, лучше уйти. Закончилась утренняя смена, в конторку заходили рабочие. Подошел Василий. Я повернулся, но Шахов остановил меня:
– И еще вот что, товарищ Белых...
Не по имени-отчеству, а «товарищ Белых». Скверный признак.
– Скажите сменным мастерам, что завтра в два часа дня совещание. По ряду вопросов. И, видимо, надо нам... проверить новичков. Понаблюдать...
Он говорил вполголоса. Но Василий, стоявший невдалеке, услышал и пробасил:
– Это что, слежка?
– А вы зачем сюда прибыли? Идите!
Я онемел: Шахов всегда дружески, весело, даже с некоторой восторженностью смотрел на Василия. Значит, крепко горечь и всякие опасения въелись в его душу.
Назавтра начальник цеха, уже трезвый, сказал мне:
– Совещание проводить не будем. Это так я...
Под вечер, проходя мимо станка, на котором когда-то работал Мосягин, Шахов проговорил:
– И все же не пойму, как вы не смогли раскусить этих негодяев? Ведь вы их знали. Хорошо знали. Что, не так?
Мне и самому стало казаться, что я слепец. Проглядел, прошляпил, сделал ужасную ошибку, не предупредив Шахова. А размышляя об этом бессонной ночью, подумал: нет, не слепец. Я видел в них только то, что должен был видеть. Они не были со мной откровенными. Они не могли быть со мной откровенными.
Нет-нет да и кто-нибудь спросит в городе: «Слушай-ка, а это у вас там...»
Тяжело!
Мосягин мне, в общем-то, был понятен – прост, как репа. А Сычев... Я всегда относился к нему настороженно, смутно чувствуя в нем чужого, но разве мог предполагать...
Люди легко верят в глупость человека, так уж устроены. От того, видимо, что многие слишком умными хотят казаться. Человек говорит, что хочет быть здоровым, преуспеть в работе, получить получше квартирку, жениться на красивой девке. И не слышно, что кто-то очень уж хотел поумнеть.
Вспоминая встречи с Сычевым, я хулил себя: «Ни капли проницательности. Глаза жестокие, неподвижные – змеиные. Видел же. Видел! Длинный нос над губой насмешливо свесился». Фу, какие мысли! Будто насмешливость – преступление. Он не был со мной откровенен, вот в чем дело. Играл, всю жизнь играл. А тяжело, наверное, все время играть. Хотя однажды... Купив дом в двадцать втором году, пришел ко мне с поллитровкой: «Давай, хи-хи, за соседство!» Выпил я, почему не выпить. Молчит, говорю я один. Когда опьянел, сказал: «На кой те в цехе ишачить?» – «А куда же, соседушка?» – «Приобрети-ка лошаденку и в деревню. Закупи того, сего и – сюда. А здесь продашь. Ларек заведи. Пока ларек, а там и лавку. Все к старому идет, милок, разве не видишь. Все, как прежде, все та же гитара... – пропел он. – Купцы и буржуи опять выплывают, разве не видишь? А много ли их осталось-то на белом свете, русских буржуев? Вот и успевай». Нет, говорю, такое дельце не по мне. Снова захихикал и стал плести несуразицу.
Так он понимал нэп. Все время рвался в нэпманы, да не везло. Подался за пушниной в Сибирь, вернулся месяца через два еле живехонек – избили вогулы. Построил из досок ларек на рынке, а он сгорел вместе с торговыми рядами в засушливую осень. После пожара исчез, шатался неведомо где, бросив жену, дом, и вернулся, когда кулаков начали ссылать на север.
«Ты его сосед». Так оно, формально-то. А в действительности и сосед, и не сосед. Сычев словно за крепостной стеной жил. Уральский рабочий прост. Вот к примеру... Идет человек по улице. Слышит, в одном из домов голоса громковатые, люди явно навеселе. Распахивается окошко:
– Куда направился, Степаныч (или Иваныч, Федорыч)?
– Да по делу тут. На базар заглянуть решил.
– Заходи.
– А чё у тебя? – хитрит Степаныч, будто ничего не понимая.
– Да зайди на минутку.
А какая уж там минутка! Если компания, так большая. Если угощают, так радушно. «Ну хоть маленькую еще опрокинь. Хоть один стакашек пропусти. Держите его, бабы! Ну ты, ей богу, обижашь нас всех, Степаныч».
Снова шагает по улице Степаныч. Еще одно окошко открывается:
– Здорово! Куда потопал? Погоди-ка, я с тобой.
Как одна семья. Все запросто.
С Сычевым запросто не получалось. Волчье-то мурло все же высовывалось, а я не углядел. Обводил всех вокруг пальца и не переигрывал: не круглого дурака изображал, а так, слегка придурковатого, на которого порой что-то находит.
Дивились люди: как мог в рабочей среде вражина появиться? Сычев не был заводским. И батьку его тоже, бывало, на завод арканом не затащишь, всю жизнь – старателем. По лесам, по горам, возле речек золотишко искал. В одиночку. Много не находил, жил не лучше заводских, но думку о богатстве имел. Имел такую думку. Да только не вышло.
В декабре неожиданно для всех арестовали Шахова. По заводу слух потянулся: «Начальник-то механического, Шахов-то – враг народа. Слыхали?» Отмахивались, думали, разыгрывают: «Не может быть!» – «Мо-о-жет. Он уже там... за решеткой». – «Ну мало ли! Разберутся!» – «Уже разобрались. Уже!..» – «Да, не может того быть. Ты же видел, какой он, как старался, как говорил...» – «Э-э-э, милок, шпиены, они завсегда приспосабливаются, чтоб их за самых настояшших людей, понимаешь ли, принимали».
Как иногда бывает, начали наплетать на человека, подозревать его в грехах, не совершенных им, вспоминать, что «вот он однажды...» – «А помните, было как-то?..» Оскорбление подозрением – самое тяжкое оскорбление. И это слухи... Не знаешь, что предпринять, с кого потребовать ответа. Сплетни о Шахове гнездились в заводской конторе и, подобно чуме, быстро, незаметно проникали в цеха.
В механическом не верили, что Шахов – враг. «Ошибка какая-то».
Ночью ко мне работник НКВД Евсей Токарев заявился. У ворот бойкая лошаденка. Сели в кошевку, поехали.
– Зачем ты меня везешь, Евсеюшка? – спрашиваю.
– Дело есть, Иваныч.
– А все ж таки, зачем? У меня грехов против власти нету.
– Не положено рассказывать. Приедешь – узнаешь.
– Не все ли одно, теперь или потом. Ну, посуди.
– Не могу.
– А ты через «не могу». Нас же никто не слышит. В таком-то деле, знаешь, ожидание хуже пытки.
Снег ледяной лицо колет, не снежинки – острые иголки с неба сыплются. Когда шел с вечерней смены, снежинки казались мягкими, а ведь понимаю – те же, все от настроения: красивое может показаться некрасивым, веселое скучным и наоборот. Тьма кромешная на улице, будто вымерло все. В ухо Евсею сую губы, шепчу – допытываюсь. Деликатненько: не в моих интересах злить парня.
– Ну, скажи.
– До чего ж ты прилипчивый, Иваныч.
– Никто ж не услышит.
Молчит.
– Как приедем, все одно узнаю.
– Вот пристал! Насчет Шахова разговор пойдет.
Тихо сказал, переспросить пришлось. Чего боится, чего таится?
Шахов! Да, о чем же больше могла пойти речь. Пока мы ехали – дороги с полчаса – я все думал о Шахове.
Не прост Шахов. Поначалу обмишулишься: по-бабски руками размахивает, а когда говорит с рабочими, слова шарибайские употребляет. Вроде, свой парень. Но это игра, простачок только с виду. С инженерами уже другой – сдержан, солиден, простонародных словечек нет, сразу видно – интеллигент. Простота, она в моде была, многие руководители старались казаться попроще, демократичнее – каждый на свой манер.
Хотел слыть добрым, чутким: «Уж если просят помочь – помогу». «За мной должок не останется». И, вправду, помогал. Но!.. Верно говорил Василий: «Шахов этот себе на уме. Ты, мол, товарищ Тараканов, пренепременно выступи на собрании. И завком пренепременно прохвати. Что они для отдыха рабочих сделали? Бьюсь, бьюсь, а договориться не могу. Видал, куда гнет? Хочет, чтобы сказали: только он, он лишь... а другим начхать...»
Шахов думал о людях постольку, поскольку без. них, как и без машин, цех ничто. Сделать больше других, лучше других; о механическом должны говорить. И, действительно, о нас много говорили, часто писали, хотя механический цех далеко не основной на заводе, и до ЧП нахваливали взахлеб. Все знали, к кому Шахов чувствует симпатию, к кому антипатию, а к кому безразличен. Первый любимчик – Василка Тараканов. Я был неприятен Шахову, особенно поначалу. А может быть, мне только так казалось: неприязнь к себе всегда сильнее ощущаешь и, бывает, заблуждаешься, относя к неприязни случайную грубость, холодный – не только на тебе – взгляд. Ловко выступал с трибуны. Перед зеркалом тренировался: встанет, как есть, в полной форме и начинает перед самим собой ораторствовать, жесты, гримасы, интонации отрабатывать. Артист, да и только. Аплодировали ему бешено. Женщины, те порой аж слезу пускали от умиления. Рабочие любопытствовали: «А правда ли, что тренируетесь вы речу говорить?» Что ж, ораторское искусство – самое наисложнейшее.
Помощником взял себе вялого, безынициативного, робкого человека. Не человека, а человечка. Хотел иметь бледную тень, чтоб ярче выглядеть самому. Я, вот, в старости пытаюсь и никак не могу вспомнить лицо, фигуру того помощника – безликая личность, ни рыба ни мясо. Был он у Шахова навроде секретаря. Прием не новый: многие карьеристы делали так.
Окна в кабинете раскрывал настежь в дни холодные – рисовался: смотрите, какой закаленный.
Вспомнил... За два дня до того, как приехал за мной Евсей, пришел в цех директор Сорока. Позвал в конторку мастеров и трех рабочих, которые постарше. Заговорил о новых станках, а потом, как бы между прочим, спрашивает, что мы думаем о Шахове. «Только давайте, ребята, совершенно откровенно». А у ребят волосы седые.
Закрякали мужички:
– Тут, паря, тако дело...
– Не знаем, чё и думать, пра...
– Его объявляют врагом народа. Я не имею права обо всем этом вам говорить, товарищи. Но мы все коммунисты...
– Ничего, – твердо сказал один из стариков. – Говори, Яков Осипыч.
– Ну так как?..
– Не верим мы в это дело, – сказал я.
Все закивали:
– Ну, может, оплошку каку-то сделал.
– Мало ли!.. И сразу за шкирку.
– А ежели насчет Сычева... откудов мог он знать?..
– Враг... так нельзя. Это уж – прошу прощения.
Сорока вздохнул:
– В общем, товарищи, все мы думаем одинаково. С недостатками человек, что уж! Были выверты, всякие выверты были. Себя без конца выпячивал. Напоминать любил, что руководитель он. «В цехе моем». В той или иной мере все дела цеховые подчинял своим личным интересам. Так ведь! Думаю, что Миропольский лучше знал производство, чем Шахов, а многим казалось – наоборот. Слава у Шахова превышала его способности и знания. Да!.. Что еще? Себялюбив, как и многие интеллигенты первого поколения. Посмотрите на него на улице. Никого не видит и не уступает дороги. По-королевски... Нос кверху. Все в этом человеке хаотично перемешано – и светлое, и темное. Природа, видимо, собиралась создать гениальное творение, да что-то помешало ей, забросила работу в начале пути. Не без греха человек, что говорить. Но ведь!.. На недостатки ему никто по-настоящему не указывал. Заводские хвалили, родные смотрели, как на бога. Вот и... И при всех этих неблаговидных качествах огромная энергия. М-да!.. Работоспособность необычайная. А ведь человек больше оценивается по количеству добра, содеянного им... Я думаю, товарищи, надо действовать. Я поговорю с секретарем райкома. Сегодня же.
Конечно, я ничего не сказал о Сороке, когда мы с Евсеем сидели в неумеренно теплом и тихом кабинете его.
– Ты заметил, Иваныч, какие глаза у этого Шахова?
– Ну?|
– Страшные. В кино шпионов и диверсантов с такими глазами показывают.
– Да уж!.. В кино – артисты... Чего ты!
– И что? Ведь они настоящую жизнь изображают.
– Да зря ты, слушай. Ну какого лешего по глазам определишь.
– Не говори! Глаза – зеркало души, Иваныч. Зеркало, это еще старинными учеными сказано.
– Мутное зеркало-то. Сильно нервный человек еще виден. Взгляд у него, как бы тебе сказать-то, тревожный и болезненный вроде бы. С предмета на предмет перескакивает. Мать у меня была такой. Ну... блудливого и подловатого мужичка по сальным глазкам иногда узнаешь. Они у него поблескивают, как сапоги у хорошего солдата. А шпиона или там вредителя... Хо!!
Евсей понял, видимо, что с «зеркалом души» его не туда повело и перескочил на другое:
– Смотри, сколько страшных случаев. Двое рабочих, Тараканов и Мосягин, ломали станки.
– Но разве можно их сравнивать? Ты чего?
– Да, да, да!.. С Мосягиным, конечно, дело ясное. Туманно с Таракановым.
– С Таракановым?
– С Таракановым.
– Да ты что? – Я старался говорить душевно, будто предо мной сидел наипервейший друг.
– Что?
– Какой он вредитель?
– Постой! Никаких выводов мы пока не делаем. Я хочу только выяснить, станки он ломал?
– Да ведь как ломал?
– Ломал, я спрашиваю?
– Ну, ломал. Только не весь станок, а шестеренки. Деталька маленькая.
– Знаю, знаю. Не так уж маленькая.
– И это ж не нарошно, Ну, можно сказать, халатность или там ротозейство, но уж никак не вредительство.
– Подожди, говорю, насчет вредительства.
– Ведь только на центровых... И только шестеренки. Станки, понимаешь, такие. А на других станках – никогда. Что ты! И надо еще посмотреть, подходит ли тут слово «халатность», хотя я и сам не раз обвинял в этом Тараканова. Все это, знаешь ли, не просто. Совсем не просто. Особенно в оценке действий передового рабочего.
– Вот мы и разберемся.
– Да тут и разбираться нечего. Какой ты!..
– Это тебе кажется, что нечего. И какой я? А? Ну говори! Зятя отстаиваешь?