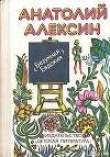Текст книги "Четверо в дороге"
Автор книги: Василий Еловских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
«Зятя». Слово тяжелее кнута бывает.
Евсей смотрит исподлобья, не мигая, изучающе. Наверное, кажется сам себе проницательным, всевидящим, все понимающим человеком, этаким Шерлоком Холмсом. А где уж!
– Да ты что, Евсей? – улыбаюсь, хоть и не хочется улыбаться.
– Я вам не Евсей! Я для вас товарищ Токарев. В лучшем случае – товарищ Токарев. – Евсей поднял вверх палец, вскочил, громыхнул стулом и забегал по кабинету. – Ваш Тараканов ездил в область. На нас жалуется. Да! Он, видите ли, решил, что новоуральские чекисты действуют незаконно. Ошибаются. Он, Тараканов, не ошибается, а все мы ошибаемся. Мы, видите пи, неправильно арестовали Шахова. Мало ему разговора в области, вчера укатил в Москву. Но там ему почистят мозги. Уж там ему дадут! С Таракановым этим мы еще разберемся. Мы с ним, с голубчиком, раз-бе-рем-ся!
О том, что Василий уехал в Москву, не знал даже я. Но это, в общем, походило на него: работать, так работать, протестовать, так протестовать. Шел напролом. И это не только, точнее, не столько от личной храбрости... Мне думается, Василий был лишен чувства опасности, вообще-то необходимого человеку. Казалось ему: все и всегда будет хорошо. Только хорошо. С другими может быть и плохо, но не с ним. В истории бывало удивительное: квеленький, пугливый, вздрагивающий при свисте пули воин, считавшийся трусоватым, спокойно принимал смерть – расстрел, виселицу. Дивились люди. А храбрец, почитаемый всеми, перед самой смертью вдруг неожиданно впадал в панику, ноги у него подкашивались от страха, он молил врагов о пощаде. И это казалось непонятным. Не хочу сказать, что Василий – трус, нет, вовсе нет, но чувство опасности ему было неведомо. Его избивали (налетали группой, один где осилишь), он не раз тонул, попадал под автомашину и под копыта лошади, а однажды, у всех на виду, был сбит бодливой коровой и долго плевался и матерился от великого стыда и огорчения.
– Двоих рабочих у вас станком прижало, когда они этот станок с грузовика снимали. Один сломал ногу, а другой... – Евсей подскочил к столу, полистал бумажки. – Другой, Носов его фамилия, да – Носов, помер в больнице. Вот! А потом подростка покалечило. И, наконец, убийство профорга, передового стахановца Горбунова. И все это за какие-то полгода. Слишком уж страшная, очень уж, знаешь ли, подозрительная цепочка тянется. Не так ли, товарищ, Белых? А?! Возможно... – Евсей зачем-то понизил голос – Возможно, тут и следы Миропольского. Да! По документам не совсем ясно, кто он, этот Миропольский, из каких он. Да и Шахов избрал кулачку, из лишенцев. А ведь суть одна – зарегистрировался или не зарегистрировался.
«А ведь я слегка робею перед ним». Мысль эта рассердила меня, и я сказал почти сердито:
– Зря ты насчет кулачки. И насчет Миропольского зря.
– Выясним.
– А если из богатых?.. Вон Коровины...
Старик Коровин был до революции купцом. Маленькая лавчонка на рынке. Сам с женой торговал, никого не нанимая. Но все одно эксплуататор. Старик в политику не вдавался, вообще ничего кроме своей лавчонки не знал. А двое его сыновей стали большевиками. Расстреляны белыми. В Новоуральске есть даже улица Коровиных.
– Ты, Белых, революционеров Коровиных не трожь! – Таращил глаза Евсей.
– Да и у Ленина, говорят, отец дворянином был, – не унимался я. Мне почему-то хотелось сейчас возражать Евсею. Возражал неторопливо, спокойно, находя в этом какое-то непонятное удовлетворение. – Дзержинский из шляхтичей. Тоже из дворян, только из польских. И Маркс, и Энгельс, знаешь ли, не из простых. Ты чего это пишешь-то? – встревожился я.
– Записываю, а вы сейчас подпишете.
Смотрел я на него и думал: «Эх, Евсей, Евсей! Славный ты парняга. Только у прокатного стана стоять бы тебе, а не за чекистское сложное дело браться».
Но не сказал этого. Разобидится. А что проку...
Я хорошо знал Евсея. Он мне даже дальним родственником по жене приходился. Мальчишкой прибегал: «Покажи, как змейки делать». Биография у него стопроцентная пролетарская. Очень подходящая биография: все деды и прадеды – рабочие, ни один из родичей не скапустился, на вражью дорогу не повернул. Сам Евсей лет десять прокатчиком был. Хорошим прокатчиком, ничего не скажешь. Старательный, но простоватый и дубоватый. К тому же малограмотен. Видимо, когда принимали его на работу эту, биографию только и просматривали. А надо бы узнать, как он, мил человек, в душах человеческих разбирается, умен ли?
Еще разок ездил я туда. Догадывался, что и других возили. Видно, хотелось Евсею к врагам народа Шахова притянуть.
Как меняется человек, когда наваливаются на него неприятности: в те дни работал я только в цехе, дома – опускались руки. Как во сне. Жена ворчит: «Ступеньки на крыльце прохудились», «В бане кто-то стеколко выбил, вставил бы, лешак тебя дери!». А я будто не слышу. Иду с работы, дивлюсь: «Когда это полуметровые сосульки на крышах появились? Морозина и сосульки». Сказал Кате. Та посмотрела как-то странно: «Дня три таяло. Ты чё?» В кармане одна спичка осталась переломленная. Закуривая, чиркал ее с замиранием сердца... Нервы...
Глянул в зеркало. Батюшки, что со мной?! Совсем старым выгляжу, щеки натянуты, как приводной ремень, выражение губ скорбное – что-то иконописное появилось в лице, самому себе неприятное; еще бы нимб над головой – и святой угодник готов.
Уже перед Новым годом к другому следователю вызвали. Сидит маленький горбоносый человек, волосы черные с синеватым вороньим отливом, глаза проницательные, понимающие. Жесткий, сдержанный. Грамотный. И не русский, это я по говору его понял: слишком уж правильно, слишком уж гладенько говорил, ни одного простецкого рабочего словца. Как по газете шпарил.
Этот, горбоносый, быстро разобрался, все по своим местам расставил, как пешки на доске шашечной, – с толковыми людьми легко.
Позднее я узнал, что Евсея убрали из НКВД и сделали простым милиционером. С треском убрали. Думаю, немалую роль в этом сыграла поездка Василия в Москву.
И вот Шахов в цехе.
– Выпустили? – спрашиваю.
Вид у него помятый, пришибленный. И глаза другие – потухшие, бегающие, уже не так въедаются, что-то нервозное в них. Суетлив стал. Не быстр, как прежде, а суетлив. Не отвечая на мой вопрос, бормочет сердито:
– Черт-те что!..
Мне было жаль Шахова. В январе его перевели в контору завода на неприметную должностишку. Первое, что я услышал оттуда: Шахов расточает женщинам комплименты. Намекали на дон-жуанство, а фактов не приводили и привести не могли, потому что – я в этом уверен – хотел он нравиться не как мужчина. Прилаживался: какая девушка не любит слушать медовые речи. И здесь характер свой выказал, сатана! Главбух завода, баба бывалая, дошлая, выразила эту мысль предельно кратко, пренебрежительно махнув рукой: «А-а! На словах только».
Встретил меня у проходной. Вижу – обрадовался:
– О, кого вижу! Как дела, как здоровье?
Между разными разговорами признался, что хотел когда-то избавиться от меня.
– Но это вовсе не от того, что я злопамятен, боже упаси! Не подумайте. Мне казалось – вы тормозите работу. И сгоряча я... Истинно: сколько живешь, столько и учишься. Сознательный грех – полный грех, а ненамеренный – полгреха.
– Женаты?
Я знал, что он не женат, но почему-то захотелось спросить.
– Н-н-нет! Тут, знаете... Как бы сказать-то... – Замялся что-то. – В конторе у нас целое бабье царство. Днем наговорюсь, наспорюсь так, что вечером смотреть на женщин не могу. Ей богу! Не такие уж они ангелочки, эти представительницы прекрасного пола. Две – так форменные тигрицы. И в глазах блеск звериный, Хотя вроде и басенькие. Почему любят женщин, к примеру, военные? Потому, что в армии женщин нету. Это точно! Не смейтесь.
«Философствуй, философствуй... Я ведь понимаю, что все думки у тебя об Ане».
Аня незадолго перед тем уехала на Кубань, и Дуняшка говорила, что «Шахов шибко тоскует, грызет его совесть».
Он сильно изменился. С рабочими уже не подделывался под рабочего, на улице не задирал по-дикарски голову. Гимнастерку с отложным воротничком на пиджак с галстуком заменил. Голос стал мягче, не было в нем прежней категоричности и металла.
Ему начали поручать все наиболее трудное, неприятное: что-то раздобыть на стороне для завода, аварию ликвидировать, что-то организовать, провернуть, протолкнуть. И снова человек на виду. Сорока уже не смотрит на него угрюмо, изучающе; иногда с улыбкой, с хитрецой скажет: «Так! Вы считаете – нельзя. А что думает Чапай?» – и смотрит на Шахова.
Перед войной Шахов стал начальником технического отдела завода. А в конце войны работал в главке, на больших должностях. Говорил мне: «Знаете, а ведь я не просился в столицу». Было так... Приехала комиссия из Москвы, похвалила работу технического отдела, и вскоре Шахова перевели в главк. Проситься не просился, а поехал с радостью. Я видел его перед отъездом: на месте глаз-буравчиков два светлых огонька, теплых, ласковых огонька. С грустью посматривал на далекие заводские трубы, выступавшие из-за гор, как бы вырастающие из них. В Москве он женился на Ане, сумев-таки разыскать ее.
Умер Шахов легко, красиво: в командировке, где-то в Сибири, после пуска завода; там он, как говорят, заправлял всей работой. Выступил с длинной горячей речью на митинге, вышел из проходной и свалился замертво.
Дуняша и зять Василий погибли на фронте. Василию посмертно звание Героя присвоили. Сейчас о нем все знают в Новоуральске. Портрет его в клубе висит в галерее героев-шарибайцев. Серьезным, деловым и каким-то слишком уж интеллигентным выглядит Васек на портрете. Брошюру о нем написали. Прямо ангелочком выведен он в той брошюре. Ребятишки в школы меня приглашают: «Расскажите о Герое Советского Союза Тараканове, вы его знали». Еще б не знал. На тебе!... Рассказываю. Самое хорошее, конечно. Ну, а что было у Василки плохого, о том ребятишкам не рассказываю, – зачем?
Вскоре после войны померла жена. Это случилось душным, сумрачным июльским днем.
На завод тянулись и тянулись платформы с машинами, станками и агрегатами; росли стены корпусов новых, а старые здания расширяли. Новые разнокалиберные заводские трубы прокалывали темное небо. Они стояли, как большая семья. Кучкой. Две самых длинных – папаша, мамаша и поменьше – детки. В стороне, над цехом ширпотреба, поднималась низенькая кривоватая трубенка-сирота. Клубы черного дыма, сливаясь с облаками, неслись и неслись над городом. Все дни тогда вроде бы облачными, хмурыми были. Бывало, забредешь далеко в горы, в лес. Завод уже черт те где. Ни дорог, ни тропинок. Кругом деревья, кусты. Птицы поют. От крепкого запаха трав и цветов, а они на Урале шибко пахучие, аж пьянеешь слегка. И раз – будто по носу двинули: нанесло вдруг резким, едучим, все побивающим запахом завода. Здорово пахучим был дым заводской.
Еще не старые, веселые сосны, что возле Новоуральска росли, начали к удивлению шарибайцев хиреть. Засохли нижние ветки, потом оголились, облысели стволы. Вверху оставались жалкие, уже не зеленые, а какие-то темно-серые, грязные кроны. Но постепенно и они усохли, и стоял этот мертвый лес, будто после пожара. Выдержал лишь молоденький соснячок, тому хоть бы что – рос, густел, добавляя к крепкому заводскому запаху свежий дурманящий запашок хвои.
Так было...
В шестидесятых годах завод «перевели на газ». Теперь из труб лишь белый дымочек ползет, легонький, игривый, как от домашней печки, растопленной для сладких пирогов. Очистился воздух, улетучились едучие запахи. И бывшие шарибайцы диву даются: небо-то над их заводом какое чистое, какое голубое, да какое бездонное – благодать! Когда-то кусты и трава возле завода были грязными, пыльными, задымленными, зелень не зелень – не поймешь. Лишь после ливней, на час, на два растения и дома обретали свежую, яркую окраску, а потом опять – как за грязным стеклом. Теперь же и белые цветы в сквере у завода остаются белыми. Светлеет завод – веселее на душе.
Тело дряхлое, слабое, с палкой хожу. Сосна, из которой мне будут домовину делать, наверное, уже срублена. Но – вот чудно! – есть в глубинах души моей что-то молодое, детское, пожалуй, даже. Нет-нет да и пронесется какой-то неуловимо веселый, радостный вихрь, замрет сердчишко на мгновение от восторга, когда вспомнится вдруг что-то давнее-давнее и хорошее.
Сильней всего высвечиваются в памяти моей беспокойные фигуры Василия и Шахова. Так оно и должно быть.
Думаю: то далекое время показало, кто чего стоит, оно как бы оголило душу каждого. А в легкие времена что... В легкие времена человек не виден, душа и сердце его за многими замками закрыты, запрятаны, зри – не узреешь.
Странно, но тоскую я шибко по гудкам заводским. Иные нервные люди не переносят гудков, вздрагивают, морщатся, даже уши затыкают. А я слушаю с удовольствием. Было в гудках что-то резкое, грубоватое, но свое, родное. Привык к ним. И как не привыкнешь: в постели, на улице, в огороде, в лесу, у реки, днем и ночью – везде доносился до меня в детстве, в молодости да почти что всю жизнь этот протяжный, басовитый мощный сигнал.
Нет теперь гудков, ликвидировали за ненадобностью, перед войной еще, часы сейчас есть у всех, зачем сигналить о сменах.
Разные они были, гудки, у каждого завода свой! У нашего шарибайского – степенный, до предела низкий, ровный, неторопливый гудок. Слышишь его спросонок, и будто кто-то любящий, кто-то близкий и серьезный втемяшивает: «Вставай, дескать, пора уже, пора! Так и так вставать надо, куда ж денешься». У соседнего станкостроительного завода гудок вялый, сонный, недовольный слегка: «Буди вас, заботься о вас, о лодырях, что у меня дел кроме этого нету, а? Нету?!. Ну, скажите, нету?! Чё вы?!» А еще у одного завода, что от нас в шести километрах на высокой горе, гудок бойконький, звонковатый, задиристый был, будто у быстроногой беспокойной молодухи голос: «И что вы спите, окаянные черти?! Ну, что, что вы спите?! Вставайте, вставайте, вставайте же, будь вашу!..»
Очень разные они были, гудки, но все призывные, зовущие...
РАССКАЗЫ
ЗА УЖИНОМ
Поезд пришел около восьми вечера. Нормировщик деревообделочного комбината Ложкин с трудом разыскал дом заезжих, занял койку и пошел ужинать.
Чайная была еще открыта. Ложкин сел за столик в центре длинного зала и, близоруко щурясь, стал протирать запотевшие очки.
Было шумно. У входной двери подвыпившие парни что-то горячо доказывали друг другу. Слышался неприятно хрипловатый баритон:
– Ты меня знаешь? Нет, скажи, ты меня знаешь?
Кто-то совсем рядом говорил неторопливо и убеждающе:
– Ежели смотреть по совестливости, то Палашка больше виноватая, чем Андрюшка.
Буфетчица накачивала пиво из бочки. Между столиками бегали официантки. Их лица казались Ложкину белыми бесформенными пятнами. Тщательно протерев стекла, он надел очки и вздрогнул: напротив него сидел Илья Ильич Хлызов, управляющий трестом, полный мужчина лет под сорок, с розовыми щечками, круглой плешиной на затылке и строгими внимательными глазами. Хлызов был в темно-сером, безукоризненно сшитом костюме, с которым хорошо сочетались белая сорочка и светло-серый галстук. «Вырядился, будто в театр», – подумал Ложкин. Ему вдруг стало стыдно, что на нем старая солдатская гимнастерка, которую он всегда надевал в дорогу. Но он тут же утешился: управляющий есть управляющий, а он, Ложкин, работник простой.
До этого Ложкин только раз видел Хлызова – с полгода назад на совещании. В огромном кабинете управляющего трестом, обставленном мягкой и большой, будто для слонов, мебелью, все выглядело внушительно. Хлызов, не выходя из-за стола, произнес речь. Говорил он грамотно, дельно. Ложкин подумал тогда: «Силен мужик, но шибко сурьезен. Как жинка с ним живет?»
Подошла официантка. Она достала карандаш и раскрыла блокнот.
– Мне котлету и стакан чая, – сказал Ложкин.
Хлызов, не обращая внимания на официантку, поджав губы, внимательно рассматривал меню. Можно было подумать, что в руках у него не меню, а какой-то важный документ, который надо несколько раз прочитать, после чего основательно подумать и только тогда принять окончательное решение. Девушка нервно вертела карандаш, но сказать что-либо боялась – слишком уж важный вид был у посетителя.
Вот Хлызов пригладил волосы и заговорил:
– Э-э... Давайте закажем. Какие у вас есть закуски? Сельдь сосьвинская с луком. Грудинка. Икра кабачковая. Огурцы соленые. Грибы. Грибы какие? Грузди? Так и надо было написать – грузди. А то грибы бывают разные. Сильно засолены? Маленькие, большие?.. А не червивые? Запишите: одну порцию груздей. И пусть подберут помельче. Если принесете плохих, заставлю унести обратно.
Он наклонил голову над меню, отчего у него ясно обозначился второй подбородок с дряблой кожей, и, почмокав губами, снова заговорил:
– Принесите мне жареную нельму. Э-э... с жареной картошкой.
– С нельмой – пюре, а жареную картошку подают с бифштексом, – деловито пояснила официантка.
– Я не люблю пюре. Попросите повара, чтобы, положил с нельмой жареную картошку, а разницу я доплачу. Так... Что тут еще?.. Какао, кофе, компот, чай. Дайте какао. Только... остудите немного. Попрошу также пятьдесят граммов меда. Ну и, пожалуй... – Хлызов еще раз посмотрел меню. – Пожжа-луй... – произнес он медленно и строго, – больше ничего не надо.
Официантка облегченно вздохнула и ушла.
Тяжелыми движениями руки Хлызов отодвинул судок и вазу с бумажными салфетками. Судок стал в центре стола, а ваза оказалась возле Ложкина. «Эта штука мне, конечно, не помешает, – подумал Ложкин. – Для котлеты и чая места хватит, но все же почему она должна быть у меня под носом?»
Он переставил вазу на середину стола. Хлызов приподнял брови, хотел что-то сказать, видимо извиниться, но не извинился и нахмурился.
«Уж не узнал ли меня?» – снова подумал Ложкин и поймал себя на том, что думает об этом с некоторой тревогой. Куда он приехал? Видимо, тоже на лесозавод – единственное предприятие в этом махоньком рабочем поселке. Ложкину почему-то не хотелось встречаться с Хлызовым на заводе.
У Хлызова были поджаты губы, от носа к подбородку шли глубокие морщины, придававшие лицу его выражение недовольства. Это выражение Ложкин подметил у него еще в городе, на совещании. Тогда он подумал, что у Хлызова какие-то неприятности по работе. А что сегодня?
К столу подошел паренек в рабочей спецовке и спросил у Хлызова голоском, похожим на девичий:
– Меню можно взять?
Хлызов слегка кивнул головой.
– Берите, – ответил Ложкин.
– Сколько сейчас времени?
– Что? – переспросил Хлызов.
Ложкин поморщился: зачем переспрашивать? У Ложкина часов не было, а ходики, висящие возле буфета, показывали десять минут третьего.
– Скажите, пожалуйста, сколько времени? – Голос у паренька стал нерешительным, и сам паренек, кажется, был готов убежать или провалиться сквозь землю.
Хлызов помедлил и ответил очень недовольным голосом:
– Двадцать семь десятого.
Когда официантка принесла тарелку с грибами, Хлызов погрозил ей пальцем:
– Я же просил маленьких груздей. А вы мне принесли каких? А?..
Ел он, впрочем, с большим удовольствием, неторопливо, широко разевая рот. Вилку держал в руках крепко, будто боялся, что она вырвется.
Принесли нельму с жареной картошкой и котлету.
– Грибки у вас, надо отдать справедливость, хорошие, – сказал Хлызов. – И картошка жареная, по всему видать, не плоха. Мы все же договорились с вами. Ну, а нельма пережарена. Суховата. А сухая она не вкусна. Не так ли? Очень прошу вас, милая девушка, заменить рыбу.
Официантка, не сказав ни слова, принесла другую порцию нельмы, поставила на столик какао и чай.
«Какая сговорчивая», – подумал Ложкин, чувствуя, как в нем растет раздражение против соседа. Он допил стакан чая и начал отсчитывать деньги. Хлызов пил какао и холодно посматривал на него.
– Расплатимся? – спросила официантка. Она была чем-то обрадована и мило улыбалась, чуть-чуть оголяя белые зубы. Ее черные большие глаза ярко блестели под длинными ресницами. Девушка была хороша – хороша своей юностью, простотой и какой-то детской наивностью. Даже подчерненные брови не портили ее свежего лица. Почему-то думалось, что она подкрасила их так, ради минутной забавы. Она, кажется, не умела сердиться и была очень доверчива.
– Какая вы сейчас симпатичная! – сказал Хлызов. – Веселая, и ямочки на щеках. Ну что же, что же вы стесняетесь?
Он говорил медленно, манерно. И улыбался. Морщины, которые тянулись на его лице от носа к подбородку, приобрели форму дуг. Улыбка казалась искусственной, как у плохого актера.
Хлызов взял официантку за руку.
– С вас девяносто четыре копейки, – торопливо проговорила она.
«Он с ней так, а она улыбается, – удивился Ложкин. – Надо же!»
Вставая, Хлызов сказал:
– Завтра вы нас должны накормить еще лучше. Поняли? Смотрите!
И он опять погрозил девушке толстым пальцем.
В раздевалке Хлызов был хмур. На его лице снова появилось выражение недовольства. Он неторопливо надел пальто с воротником из серого каракуля, шапку из такого же меха, сунул под мышку щегольскую папку с замком «молния» и пошел к выходу. Люди уступали ему дорогу.
Ложкин вышел вслед за управляющим. Хлызов повернул влево, а Ложкин вправо.
Пройдя шагов пять, Ложкин обернулся и сердито проговорил вдогонку Хлызову:
– А подь ты к черту!..