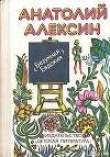Текст книги "Четверо в дороге"
Автор книги: Василий Еловских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Люди не могли подолгу сердиться на Шахова. Ругнутся и – забыто. В голосе Прохора я не чувствовал озлобления. Проша даже улыбался.
На другой день, зайдя в контору, я услышал, как Шахов говорил в телефонную трубку:
– Можем рекомендовать на курсы слесаря Горбунова. Профорг, стахановец. Член партии. Вы его должны знать. Ну, с грамотешкой у него, действительно, не того... Но это умный, развитый человек. И хороший общественник. Зачем же на такие курсы посылать мальчишек? Жаль! Жаль! По-моему, он бы вполне подошел.
Зять отмечал день рождения. «Знаете что, позову-ка я Шахова». Тоже оригинал: никто из рабочих не осмеливался звать в гости начальника цеха. Василий и сам не верил, что Шахов придет, и позвал так, для шика: смотрите, какой я. Но тот пришел. И пил, – поменьше Василия, побольше меня. Держался запросто. Спьяна Василий ему «тыкать» начал, говорил с ним грубовато, критикнул за что-то. Шахов – ничего, улыбался. Это приятно удивило меня.
Закончив работу, я вышел из цеха. Иду к проходной, и кажется мне, что все еще слышу шумы станков и гудение моторов – суровую цеховую мелодию, в которой есть все же своя напевность.
По дороге работница бежит, спотыкается, взлохмачена, руками размахивает, глаза дикие. Кричит неживым каким-то голосом:
– Пожар! Пожар!!!
В первое мгновение я на мартен глазами стрельнул, хотя никакого пожара там быть не может.
Горели склады цеха ширпотреба, расположенные на краю заводской территории, у тына, за которым густо стояли вплоть до Чусовой деревянные избенки рабочих. Маленькие склады маленького второстепенного цеха. Огонь охватил всю ветхую постройку из пересохших бревен и досок, пламя проело крышу и рвалось в окна – исчезнет, покажется, исчезнет, покажется, будто кто-то неустанно оттягивает его внутрь. Дым мечется над складами и, гонимый ветром, застилает цеховые корпуса, черную прокопченую землю, наносит слабый, но непривычный здесь, на заводе, и потому тревожный запах костра. Слышится зловеще нарастающий треск горячего сухого дерева. Люди суетливо бегают, громко и нервно кричат. Все кому-то подают команды. Пожарников нету.
Страшно было видеть эту суетливую, будто пьяную толпу на заводе, где все слаженно, заранее определено.
Юркий подросток-рабочий, выкрикивая что-то непонятное, нелепо подпрыгивая, – можно подумать, что рад пожару, – укрыл голову плащом и ринулся через дверь в огонь. Визгливо, испуганно закричала женщина, матюкнулся мужчина, Подросток тут же выскочил, таща кровать (цех ширпотреба среди прочих изделий выпускал кровати). На него опять закричали.
Но паренек был, видимо, самолюбив и не очень сообразителен. Ему нравилась эта роль – он в центре внимания. Пренебрежительно махнув рукой: «Эээ!», парнишка снова исчез в огне. И – не появился. Я схватил ведро с водой, вылил на себя и бросился за мальчишкой. Когда выливал воду, увидел Шахова и Василия – они бежали сюда. Много людей бежало, со всех сторон.
Огонь хорош в домашней печи, привычно и приятно смотреть на него в мартеновском цехе. А когда пылают деревянные здания... Я нырнул в это страшное море. Помню, в миг тот беспокоило меня почему-то только одно: как бы не выжечь глаза, сохранить глаза, ни о чем другом не подумал. Обдало адовым жаром, едучий, удушливый дым ударил в рот и в нос; я споткнулся – доска, бревно? Нет, что-то мягкое; нащупал ногами неподвижное тощее тело парнишки, приподнял и потащил, задыхаясь, напрягаясь от ужаса, чувствуя, что воздуха нет, почти нет, – лишь раскаленный дым. Куда-то не туда побежал – стена, пылающая стена. Сверху, на теле, огонь, а внутри – глыба льда от страха: «Пропал! Неужели пропал?!!»
Закричал что-то самому себе непонятное, несуразное, дикое, лишь бы кричать, кричать, дать знать о себе, взбодрить себя. Бросился в другую сторону, огонь и дым раскаленной свинцовой оболочкой закупорили горло, прикрыли меня всего – сверху, снизу, с боков и давили. Я почувствовал, что горю. Весь! На плечах и руках жгучая боль. Такой же болью резануло по спине. Мальчишка вывалился из рук. Конец! Я не сказал себе «конец», я ничего не сказал ни вслух, ни про себя, а просто почувствовал всем существом своим, понял, что погибаю, что меня уже нет, сжался, пошатнутся вперед, назад и – все.
Очнулся, когда огонь уже потушили, и пожарники в касках рылись в золе среди полуобгоревших бревен. Поташнивало. Дышу, как загнанная лошадь. Нестерпимо жжет спину, плечи, руки и лицо. На теле пузыри.
Пахнет гарью, одеколоном и – что удивительно! – хвоей. Когда дунет ветер с гор – слышу только запах хвои. Почему-то обострилось обоняние.
Оказывается, когда я потерял сознание, в огонь бросился Шахов, схватил меня и парнишку, побежал, упал, и тут подоспел Василий.
Шахов, парнишка и я лежали рядом, возле обуглившихся, еще испускавших холодный дым, построек. На лицах и на руках у нас повязки. Рядом стоял Василий в непривычной для него вялой позе, покуривал, посматривая на нас, Чуб его, такой пышный, крепкий, начисто сгорел, остались мелкие кудряшки, темноватые от копоти, похожие на волосы негра. Шныряли туда и сюда какие-то женщины.
Нам с Шаховым пришлось полежать в больнице.
Трижды за свою жизнь ложился я на больничную койку и всякий раз, выздоравливая, чувствовал наплыв необыкновенной животной радости, наполнявшей всю мою душу. Радости, которая рвалась наружу, которую не хотелось утаивать. Я начинал много, горячо говорить, беспричинно смеяться, улавливая изучающие взгляды все понимающих врачей. Подарки, забота, особое внимание – от этого было даже стыдновато: ведь я сейчас здоровее здорового. Чистейшие, веселые палаты, только бы свадьбы устраивать. Почему так: здания больниц почти всегда светлы и веселы, а контор – нередко унылы, мрачны?
Лежишь и думаешь. О чем-нибудь да думаешь – уж так устроен человек. Это только кажется, что бывают минуты, когда ни о чем не думаешь. Вроде бы не думал. А ну-ка вспомню, «Что это на стене – черное пятнышко или муха?» «Интересно, насколько часто здесь красят двери? Белешеньки». «Не прогуляться ли мне по коридору?»
Больше думал о Шахове. Он был рядом, перед глазами.
Приглядываюсь. Не человек – машина: в двенадцать ночи засыпает, в шесть утра на ногах, ни позже на минусу, ни раньше на минуту. Полна тумбочка книг. Технических. Другие лежат, ходят, рассказывают байки, отдыхают. Этот, как в школе, что-то высчитывает, читает, записывает. Палата стала цеховой конторкой – и мастера, и рабочие тянулись сюда. Всякий разговор сводился на заводские дела.
Пришла Аня.
Улыбается виноватой вымученной улыбкой. И эта улыбка обращена не к Шахову, а почему-то ко мне.
Шахов будто засыпает. Спросит что-либо о ее житье-бытье, о заводе и опять как изваяние. Странно! Ну и пара!
– Приходите, захватывайте с собой ребят и девчат.
«Не хочет, чтобы приходила одна». Этим он уже оскорблял меня.
На следующий день она пришла с большой оравой. В палату завела их медсестра, говорливая, набожная женщина. Набожная-то набожная, а посты, как сама говорила, не соблюдала и вдобавок к этому – любительница сбрехнуть. «Подковыривала» деловитого Шахова:
– Райская жись тут у вас.
– Так оно! – в том же тоне отвечал Шахов. – Ведь мы не врущие, не болтающие, пост соблюдающие.
Сейчас медсестра сказала:
– Вот он, орел!
– С подпаленными крылышками, – добавил Шахов.
Все засмеялись этой наивной шутке. И уже не могли утихнуть. Сколько сидели, столько и смеялись. Молодые!
Шахов старался показать, будто Аня для него ничего не значит. Такая же, как все, одинаковая. Наивная хитрость. Ведь видно было, что она для него и он для нее значат больше, чем кто-то другой. У него убыстрялась речь при разговоре с ней, деревенел голос. И смотрел на нее не так, как на всех. Она выглядела грустной, обиженной. Уходила последней. Сказала Шахову с пренебрежением:
– Эх, ты!
В больнице он был другой. Не чинодрал. Не позер. Раньше, поговорив с Шаховым, я нередко раздумывал, правильно ли вел себя. Вспоминал, что сказал Шахов, что сказал я, каким было выражение его лица, каковы интонации голоса. Противно, утомительно! В больнице эти навязчивые мысли не кололи меня.
Я стал смотреть на Шахова немного по-другому. Думал: в чем-то нехорош, да, но и хорошего в нем все же немало. Вспоминал слова Василия: «У нас два Шаховых. Один на заводе, этот хужее». Только почему же он так с Аней?.. Мелковат во взаимоотношениях с ней. Прятаная любовь. Мелко, гадко!
10
Когда-то люди скучать-грустить любили, песни жалобные пели, тягучие, бесконечные, слушаешь – и такая, бывало, тоска берет, хоть волком вой.
Теперь же грусть не признавали, вроде бы даже. И не потому, что не было причин для нее, были причины – всякое случалось. А просто считали грусть чем-то отжившим. Это, мол, мелкобуржуазная расхлябанность, от гнилой интеллигенции. А грусть, она ведь разная бывает, иногда и не враг, а друг. Порой взгрустнется от песни, от фильма интересного, от воспоминаний или просто так, не поймешь от чего. Молодыми мы с Катей любили по берегу Чусовой ходить. Катя говорила: «Грустно мне, хоть реви, а пошто – не знаю». Лишь телята да бесштанные ребятишки готовы все время подпрыгивать от восторга. Те, кто агитировал в тридцатые годы за вечное веселье, тоже, я думаю, грустили иногда, но пугались этого хорошего чувства, скрывали его.
Замечал я: теперь люди плакали и горевали реже. Значит, меньше причин для горя. И старых драк, когда жители одной улицы перли, крича, махая кулаками, палками и кольями, на другую улицу, калечили друг друга и убивали, тоже не стало. Рабочий понял, что драка – проявление слабости: видишь ничтожество свое и начинаешь сопротивляться, бушевать, себя показывать – дескать, вот я какой, пужайтеся, мужики!
На собраниях, совещаниях – их в те годы проводилось на заводе великое множество – подолгу, порою нудно и утомительно, говорили о трудовом напряжении. И так расписывали, расхваливали напряжение это, будто все успехи лишь от него зависели. Отчаянно критиковали друг друга – «критика – движущая сила». Да, порядок нужен. Шарибайцы в старину были немножко анархичны, несобранны. Но рабочего нельзя, как лошадь, вести в узде, все время заставлять что-то делать; он начнет подсознательно сопротивляться силе и уж тогда – шиш – выработки высокой не жди. Я видел в царскую пору, как дрянно работали солдаты и арестанты. Конечно, там из-под палки, а тут – другое, несравнимое, но все же чувствовал я в трудовом напряжении тридцатых годов, в беспрерывной говорильне и ругне что-то тягостное, лишнее, даже вредное. Легко работать без постоянного нажима, когда к тебе полное доверие. Надо бы нам тогда на заводе более умно агитацию вести.
Шахов тоже поклонялся «трудовому напряжению», как монах богу. Мне казалось, что нелегкая эта обстановка нравилась Шахову. Он прямо-таки наслаждался ускоряющимся ритмом, порой не шибко-то разбираясь, нужно ускорение или не нужно.
Несомненно, Шахов хотел казаться энергичным и одержимым. Мол, ничего кроме завода не вижу, даже недосыпаю, не ем вовремя. Заводом живу. Весь отдаюсь работе. Гляньте, какой у меня усталый вид. И выгляжу я куда старше своих лет.
Я усмехался про себя: «Притворщик!» Потом понял: тут была не только игра.
Дуняшка рассказывала, заливаясь от хохота:
– Слушайте, что было сегодня... Зашли мы (назвала двух подруг), в столовку. Глядим, подскакивает к буфету Шахов. Как с цепи сорвался. Взял бутерброд и еще что-то. И раз-раз, будто не в рот, а в мешок картошку бросает. Куда, думаем, торопится? В цех? Только был там. Вышли мы из столовой. Шахов обгоняет. На всех парах. Девчонки и говорят: «На свидание». Интересно: начальство и – на свидание. Хи-хи! Я б не побежала за ним, да девчонки... Особенно эта... По-моему она немножко того... втюрилась в Шахова. Где он, там и она. Хоть и прыскает в кулачок, а видно ведь, что сама не в себе. Ладно, думаю, поможем тебе кое-что прояснить. Вдогонку за ним. Влетает Шахов в квартиру. А мы издали... окошко-то большое.
– Вот дуры! – хохотнула Катя.
– Подожди! Сбрасывает с себя пиджак, галстук и так это, будто на нем горит все. Сбросил. Плюх на диван и голову книзу, заснул не заснул – не поймешь. Зачем бежал, спрашивается?
В больнице я удивлялся, как быстро ел Шахов даже горячую пищу. Небрежно отправлял в рот ложку за ложкой. Вредное дело! В первый день я, сидя с ним, тоже быстренько сунул в рот ложку с супом и... обжегся.
Шахов давно уже вошел в ускоренный ритм. А человек подобен машине: какую скорость дашь, такая и будет – ив цехе, и дома. Будто заведенный: работаешь быстро, ешь быстро, говоришь быстро. Возвращаясь домой, всех обгоняешь. Было и со мной такое. С полгода. Приду с завода, внушаю себе: «Не торопись, некуда. Некуда! Отдыхай!» Нет, будто кто понужает, подталкивает. В душе постоянная, болезненная нетерпеливость, желание все время что-то делать, куда-то бежать. Особо сильная нетерпеливость одолевала меня почему-то в парикмахерской, где я сидел как на шильях. Тягостное чувство. Жена говорила: «Обжигается, а глотает, что за человек!» Это было унизительно – в ритме жизни подражать начальнику. Стал сдерживать себя: получая приказ, старался отвечать неторопливо: «Хорошо, хорошо». Чувствовал при этом даже внутреннее удовлетворение: «Бегай, бегай, мальчишка, а я сделаю спокойно...» Я уставал от ускоренного ритма, который упорно насаждал в цехе Шахов. Для меня эта ускоренность была в общем-то чужда, для Шахова – органична.
Ну, ускоренный ритм – это еще не беда. Беда у Шахова была в другом. И это «другое» появилось недавно.
Начальник цеха в конторке торопливо перелистывает какие-то бумаги.
Входит парень-фрезеровщик.
– Егор Семеныч! Что это такое?.. Соседушка-то мой, Тарасов, пьянехонек. Аж пошатывается.
Я спрашиваю:
– Почему говоришь начальнику цеха, а не мастеру? В крайнем случае – мне.
Впрочем, последнюю фразу я произнес скорее для себя – Шахова и фрезеровщика в конторке уже не было.
А потом Шахов ходил смотреть на разбитое стекло в окне, о чем сообщил ему ученик токаря. Подростки любят жаловаться «самому большому начальнику». Тут еще и желание поговорить с начальником цеха.
А ведь сам когда-то говорил мне: не увязай в мелочах. Не сразу понял я, что он был прав. Но понял. А теперь он начал подменять мастеров.
Что-то с ним происходило неладное.
Раньше Шахов избегал общих рассуждений и, уж если выходил на трибуну, говорил дельно, умно – заслушаешься. Теперь же стал обрастать пустыми, звонкими словами. Может, от неуверенности, от желания казаться шибко правильным: неприятности, обрушивавшиеся со всех сторон, могли сбить уверенность даже с такого человека.
Выработка продукции в цехе по-прежнему росла на два-четыре процента в месяц. Районная газета писала о механическом: «Здесь наблюдается неуклонный рост по всем показателям».
Изменился старый цех. Допотопную трансмиссию, при которой бесчисленное количество приводных ремней загромождало пространство и мешало размещать новые машины, убрали; к станкам поставили моторы. Новые станки привозили чуть не каждый день.
– Замечаю я, чем лучше работаешь, тем больше ругают, – сказал мне Шахов задумчиво. – А если будешь кое-как выполнять план – заживешь спокойненько, работенки немного, чэпэ нету. И, главное, зарплата та же. Зарплата-то та же будет в любых условиях. Но мне противны люди с рыбьей кровью. Плохо вот, что без чэпэ никак не обходимся. Бьют, будто кувалдой по башке.
Но это были цветочки... Всамделишние беды надвинулись неожиданно, как горный обвал. Сентябрьским утром двух рабочих прижало станком, когда его снимали с грузовика: одному сломало ногу, другой – умер в больнице, не приходя в сознание. Все получилось из-за спешки, из-за гонки сумасшедшей. Почти тотчас наплыло другое ЧП: покалечило токаря-подростка. Прогнал он первую стружку, начал вторую, наклонился над станком... Иглистая поверхность детали захватила косоворотку парня и с чудовищной быстротой и силой стала накручивать на себя...
Столько ЧП. Это страшно. Не в старой России.
Помню, старики рассказывали нам, мальчишкам, как один рабочий упал в расплавленный металл, только что вылитый в ковш.
– Схоронили его? – спросил я.
– Чего говоришь-то? Ну чего от этого человека могло остаться? Вот чудила!
– А чё начальству было?
– А ничё.
По заводу поползли, зазмеились тяжелые, недобрые слухи. Создали первую (их было потом три или четыре) комиссию по расследованию ЧП, куда включили и Миропольского.
– Еще легко отделались, – говорил мне Миропольский. – Набрали мальчишек, кое-как подучили и поставили к станкам.
ЧП с подростком произошло ночью. А в утреннюю смену вытворил грязное дельце Мосягин – сломал центровой станок; их в обдирке и оставалось-то всего-ничего. Нарошно сломал. Хотел сломать. Полетело, порушилось все, так что слесари-ремонтники потом, ругаясь и отплевываясь, дня три колдовали над станком.
Поглядел, поглядел я и говорю:
– Что же ты наделал, человече?!
– Да, не выдержал нагрузки станочек. Шибко хреновый. Все дрянные станки надо выбрасывать к лешему, я лично так думаю, Иваныч. Переводите меня на «ДИП».
Он, как всегда, стоял по-солдатски – руки по швам, смотрел кротко, а краешки губ его книзу ползли, и опять мне казалось, что Мосягин усмешничает.
– Ты же нарошно сломал станок.
– Страсть хотелось побольше выработку дать, – отозвался он спокойно, будто не понимал моих слов. – А может быть, и рекорд бы!.. А чё!..
– Ты же нарошно сломал его, говорю тебе.
– Чё-чё?!
– А то, чего услышал.
– Что значит «нарошно»? Ты чё говоришь?
– А это значит, что ты хотел, чтобы станок сломался. Хо-тел! И думал: все будет шито-крыто.
– То есть, как это хотел?
– А уж не знаю, как.
– Зачем мне хотеть?
– Это тебе видней.
– А твой зятек, Васька Тараканов, тоже хотел, а?! Скока разов он центровой станок ломал, а? А как поставили на «ДИП» – порядочек, любо-мило смотреть. Так что давай не будем... Ты меня не любишь, знаю...
«Изо всех сил старается казаться спокойным, но какая-то натяжка все же есть, видно, что притворяется. Вон и пот на лбу... Хотя причем тут пот?»
– Тараканов не хотел. И у него только шестеренки. Шестеренки – чепуха. А у тебя...
Мосягин хохотнул. Почти натурально хохотнул. Вот артист!
– Ну, едрит твою! Ваську надо на руках носить, а других поносить. Не выйдет, товарищ Белых! Не выйдет! Я тоже хочу дать выработку большую, я не хужей других-прочих.
«Не те слова, не та интонация. Все одно вижу голубчика».
– Хватит, Мосягин! Вы специально сломали станок. – Мне хотелось сказать пограмотнее, официально, а не получалось: волнение, злоба всегда лишали меня языка, я начинал говорить торопливо, сбивчиво, совсем не так, как нужно бы.
– Да ты чё, в сам-деле?! Как я могу специально? Дал поболе обороты и он сломался. Чё ты в сам-деле, елки-палки?
– Давай, кому другому втирай очки.
– Чё плетешь? Ну, чё ты плетешь-то! Надо же!..
– А вот мы посмотрим.
– Чего?..
– Кто плетет, а кто не плетет – посмотрим.
– Ты... ты, мастер, говори, да не заговаривайся. Никто не позволит грязнить людей. Ты чё прешь на честного человека?
– Что натворил, бог ты мой!
– Пойди, выпей воды. Заболел, видно.
Говорил неторопко, даже увереннее, чем в начале беседы, и я подивился его самообладанию.
Подошел сосед Мосягина. У этого человека все было средненьким: средний возраст, средний рост, средняя выработка, не отстанет и вперед не выскочит – незаметный.
– Правильно, Иваныч.
Ох, как Мосягин зыркнул на него:
– Прикуси язык, жаба ротастая!
Аккуратненькой чистенькой тряпочкой Мосягин степенно, старательно обтирал станок, на котором и так не было ни пылинки. Лицемер!
– Хватит! – не выдержал я.
– Чё гаркаешь! – Мосягин не отводил от меня взгляда, в глубине маленьких глаз его нарастал острый холодок, и зрачки как бы заострялись. А еще говорят, стыд глаза колет.
Я вызвал Шахова.
– Все это не случайно, Егор Семенович. Вот смотрите, какую стружку взял. Видали! В два-три раза больше, чем обычно.
– Да откудов ты взял? – взвинтился Мосягин. – Не слушайте его, Егор Семеныч. Он вообще седни прет на меня чё-то. И не знай, зачем ему это надо. Не слушайте, бога ради!
– Подождите, Мосягин!
– Да чё он прет.
– Подождите!
– Не буду я ждать.
– За-мол-чи-те!!
– Победитовая пластинка резца полетела. Почти вдвое против обычного увеличил подачу и обороты.
– Нет!
– По-мол-чи-те! Сколько раз вам говорить?
– Я хочу работать по-настоящему! – закричал Мосягин, размахивая руками. – Чё мне заниматься тянучкой.
Явно приспосабливался к Шахову, используя даже «тянучку».
– Не сразу выключил станок. А сколько-то времени вдавливал этот изнахраченный резец в деталь, когда она еще вертелась. Вот, гляньте на резец. Вот, пожалуйста. Видали?.. И посмотрите, что в коробке скоростей.
На лице Шахова выражение ненависти и брезгливости, он сбоку исподлобья метал на токаря злобные взгляды.
Мосягин, кажется, понял, наконец, в какую яму подпал: сник, насупился, завздыхал; рубаха высунулась из штанов и нелепым пузырем торчала на животе. И это у Мосягина, прилизанного, аккуратненького.
Шахов всегда его недолюбливал, начальнику цеха по душе были буйные, энергичные люди.
Как-то странно подергивая плечами, Митька отворачивался в сторону. А Шахов будто прирос к полу, смотрит на Мосягина, смотрит, наклоняя голову, – так делает курица, когда хочет склевать незнакомую ей букашку. Поднял руку и уже было опустил ее на станок, но торопливо отдернул.
Когда мы шли по цеху, Шахов спросил горько и удивленно:
– Как он мог пойти на такое? Зачем?
– Вообще подозрительный тип.
– Придется создать комиссию, хотя и так все ясно. Трудно будет расхлебать кашку эту... – Он скорбно покачал головой, крякнул: – Дня три назад заявление приносил, просил отпуск без содержания. А я отказал. И без того людей не хватает.
– Ясненько: станок на ремонте – токарю дают отпуск.
– Но он же совсем недавно был в очередном отпуске. В июле, кажется.
– Да, да! Он ездил на юг и привез фруктов. Мой сосед Сычев на базар его вишни таскал. Вот ведь, разные вроде бы люди, Мосягин и Сычев, а спелись.
– Значит, не разные.
– В июле чего... Настоящие-то фрукты сейчас вот... Аккурат бы...
Начальник цеха со злостью плюнул:
– Негодяй! Мерзавец! Тут не только коммерческие планы, скажу я вам. Душонка вражья. Весь завод разрушит во имя своих эгоистичных, кулацких интересов, ублюдок! Кулачина! И здесь волчьи зубы скалит. Втихомолку... Подлость человеческая, как впрочем и доброта, многолика.
– Если б не отпуск, не сломал...
– От этого не легче. Я уверен: он чувствовал удовлетворенность не только коммерческого, так сказать, порядка. Что теперь будет, бог ты мой! В механическом окопался вредитель.
Шахов грязно выругался, долго стоял молча и потом, сгорбившись, скованной монашеской походкой зашагал по цеху.
Подошел слесарь.
– Слышь, Иваныч! Мосягин попросил меня станок отремонтировать. Но чё-то слишком здорово набедокурил, пьяный, что ли?
– Нет, к сожалению. Станок пока не трогай.
– «К сожалению,»? И почему «не трогай»?
Выслушав меня, слесарь сердито изжевал папиросу и выплюнул.
– Кошмар какой! Резца я не видел. Он его, наверно, уже куда-то запроторил.
– Шахов приказал ему ничего не трогать.
– Резца нету, это точно. И меня, сволота, с ремонтом торопил. Вот вляпался бы!
Члены комиссии долго колдовали над станком – присматривались, примеривались, советовались с одним, другим. Не успели они сказать окончательное слово, как Митька Мосягин исчез из города. Убежал ночью, когда сыпал беспрерывный нудный студеный дождик и дома были укутаны сонной тьмой. В комнате его ничто не указывало на поспешное бегство, дьявольскую аккуратность он проявил даже и в эти минуты: ни соринки, ни пылинки, все разложено по своим местам. На столе записка: «Имущество общежитское оставляю в целости и сохранности. Никогда не был я вором и чужую собственность уважаю, не в пример некоторым протчим. Кто вселится, пущай не боится, что потревожу. Меня пусть ищут те, кому делать неча, потому как все одно не найдете. Не ваш Мосягин».
Люди по-разному реагируют на неудачи и неприятности. Шахов начал утрачивать свой ускоренный ритм – уже не так быстро бегал, стал более многословным, более тихим и даже охрип слегка.