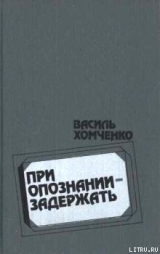
Текст книги "При опознании — задержать"
Автор книги: Василий Хомченко
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
– А какую дочку вы выбрали своей, так сказать, вечной спутницей?
– Гапочку, Иван Федосович, самую красивую.
– Ну и хорошо, – Кабанов слез со стола, повеселевший, довольный, подошёл, топая толстыми ногами, к Потапенко, пожал ему руку. – Поздравляю, поздравляю. – Он радовался, так как сватал за сына среднюю дочь купца.
– Вот вы и родичами стали, – засмеялся Давидченко. – Поздравляю вас обоих. Кстати, Иван Федосович, я вспомнил анекдотик. Значит, так. Пришла к прокурору старуха с жалобой на соседку – та ей дулю показала. А прокурор и говорит, что за дулю не судят. «Не судят? – удивилась старуха. – Так на же тебе, пан, дулю и тебе, панок писарь, дулю». И сам захохотал, пополам сложился от хохота.
Богушевич взял портфель – была самая подходящая минута, чтобы расстаться с Кабановым, – и вышел во двор.
Извозчик – человек старый, седой, – надвинув брыль на глаза, дремал. Богушевич сел в бричку на нагретое солнцем кожаное сиденье. Извозчик дёрнул вожжи, и они тронулись со двора.
Когда выехали за город, извозчик снял брезентовую куртку, и Богушевич увидел на грубой суконной рубахе медаль за оборону Севастополя. Она повернулась оборотной стороной, и можно было прочитать вычеканенные слова: «Не богу, не мне, но имени твоему».
– Мне её сам его высокопревосходительство адмирал Нахимов вручил. За храбрость и ногу, – объяснил извозчик, заметив, с каким интересом глядит на медаль следователь. – За какую ногу, спрашиваете? А вот за эту. – Он ударил по правой ноге кнутовищем. – Деревяшка тут.
День нахмурился, солнце лишь изредка пробивалось сквозь серые тучи. Дул ветер, он должен был разогнать тучи, очистить небо. Дождя в дороге не хотелось. От ветра качались кроны верб, листья мерцали то зелёным глянцем, то серой матовостью. С тополей, росших вдоль дороги, слетали поблекшие, пожухлые листья. Чтобы укрыться от ветра, Богушевич поднял над головой брезентовый верх.
– Вот вы медалью моей интересуетесь, – начал извозчик, – а я вам скажу, что не надо было мне её давать. Зачем же награждать за то, что людей убивал? Больше убил, больше и награда. Я не давал бы за войну ни медалей, ни крестов. Не по-христиански это.
– Вам дали за защиту отчизны. За ваш героизм.
– Оборонять родину нужно, разве я против. А вот убивать не нужно и на войне.
– Тогда неприятель тебя убьёт.
– И ему не надо меня убивать, и он же человек.
– Я уже слышал что-то в этом духе, – сказал Богушевич – ему показалась любопытной философия извозчика. – Читал у одного графа. Скажите, а вам поручик граф Лев Толстой не встречался на войне? Он тоже под Севастополем был.
– Графьев да князьев там много воевало. И убивало их наравне с солдатами-мужиками.
Извозчик ни разу не стегнул коня кнутом, а если нужно было подогнать, чмокал, дёргал вожжи или легонько хлопал по крупу кнутовищем.
– Я вам расскажу, если слушать будете, как я француза убил, – обернулся к Богушевичу извозчик. – Сошлись мы в штыки. Как бежали в атаку, так кричали во все горло. А сошлись и перестали кричать, так тихо стало, аж жуть на душе. Нас, русских, меньше, а французов больше. Кто-то уже кого-то колет, кто-то падает, проколотый штыком. Топот, лязг ружей, да стоны, крики смертные… Страх божий. А я иду на французика – рыжий такой, молодой, усики торчат, шея тонкая… Он на меня идёт со штыком, а я – на него. Выбрали в той бойне один одного, присмотрели. Сошлись, надо же колоть, а мы глядим друг на друга и глаз отвести не можем, ни он, ни я. Ему страшно, и мне страшно. Глаза молят: не убивай меня и я тебя не убью. У французика глаза стылые, как ледышки. Ясное дело, и у меня такие были. Я шевельнусь, он вздрагивает. Я вбок шаг ступлю, он туда же. По-христиански нам бы разойтись, и остались бы мы оба в живых. Может, и разошлись бы, так кто-то из наших как крикнет: «Охрименко, глянь назад!» Глянул я назад, а там другой француз на меня идёт. Я отскочил в сторону и, уж не знаю как, этого рыжего штыком в живот. Само собой вышло. Он упал. Я – на другого. А мной заколотый лежит, глядит на меня, а глаза спрашивают: «За что меня убил? Я же просил, не коли, давай разойдёмся». Я потом как ума решился. Хотел закричать: «Братцы, что делаете?» А закричал только: «Братцы! Братцы!» – и как колол, кого колол, не помню. А потом, когда французы отступили, наш офицер перед строем меня похвалил, мол, показал другим пример героизма… – Извозчик посмотрел на Богушевича, слушает ли, интересно ли, увидел его потемневшее лицо и стиснутые губы.
– Это страшно, – согласился Богушевич. – Я вас понимаю.
Дальше ехали молча, но вот извозчик снова заговорил:
– Я вам притчу про медаль расскажу. Интересная. Вызвал один царь мастера и велел отчеканить три разных медали. Одну – воинам за храбрость, вторую – сановникам да министрам, третью – хлеборобу, пахарю. Сколько золота на какую надо – самому мастеру решать. Заперся мастер у себя в кузнице, стукал там, стукал и через некоторое время упал перед царём на колени. «Вот, ваше царское величества, три медали». И поднёс самую богатую да красивую – для пахаря. «Он нас кормит и поит в поте лица своего, хлеб, который он растит, всему голова. Так пахарю и главная награда». Дал потом медаль для воинов – крест, а на нем слова: «Не убивай, не проливай крови человеческой, нет тому оправдания». Достал из мешка и третью медаль – чугунный кружок на железной цепочке. Прочитал царь надпись: «Трутню – кто не работает, тот не ест». Вот что я, пан, слышал, а могло такое быть или нет, не знаю.
– Притча поучительная, интересная, – сказал Богушевич и с уважением и симпатией посмотрел на извозчика. Понравился он ему, умный мужик. И философия его насчёт войны (сам же, разумеется, придумал притчу) народная, здоровая философия. Ему, калеке, хорошо знакома война с её античеловеческой моралью – убей и победи. Убивай и тогда, когда все твоё нутро, разум, душа громко протестуют. Рассказанная извозчиком сцена встречи с французом – глаза в глаза молят: не убивай – потрясла до боли, представилась в мельчайших подробностях… В последние годы Богушевич все чаще стал задумываться над этой заповедью – не убий. В молодости с её романтическими порывами, с запалом, с нетерпеливым стремлением к борьбе верил, что только оружием, силой, «смертью смерть поправ», можно завоевать на земле справедливость и сделать счастливым все человечество. Теперь же сомневался в этом. Если берут в руки оружие, значит идут убивать. Но убивают не самого тирана, а таких же простых, ни в чем не повинных мужиков-солдат, отнятых силой у матерей и детей. Стреляют на войне не в тирана – императора, хана, султана, шаха, короля, не в того, кто послал армию на чужие земли, чтобы предать их огню и мечу, не в того монарха, который из своих подданных тянет жилы. Приходится стрелять в тех, из кого монарх тянет жилы, кого отнял у матерей и одел в солдатские шинели…
Задумался, и пришло на память не такое уж далёкое прошлое из собственной его жизни, когда он там, у себя на родине, тоже взялся за оружие. Был один случай, который припомнился теперь с радостью. Тогда Богушевич вместе с небольшим отрядом повстанцев спрятался возле дороги в засаде. Ждали казаков. Богушевич пристроился около берёзы, ружьё положил на развилку ветвей и с воинственным задором ждал неприятеля, горя желанием поскорей с ним встретиться. Он был в засаде самым крайним, и стрелять первому надо было ему. И вот послышался глухой конский топот. Ехал небольшой разъезд, авангард колонны, всадников двадцать. Синие мундиры, красные лампасы, пики. Ехали и пели: «Рубим хлопов мы сплеча, дают хлопы стрекача». Впереди всех ехал молоденький казак с пшеничным чубом; беспечный, не подозревающий об опасности, он думал, верно, о чем-то своём, молодом, весёлом, и улыбался своим мыслям. Ствол винтовки Богушевича нацелился в этого казака, прямо в лоб, палец лёг на спусковой крючок и начал медленно его нажимать. Ещё немного и грянет выстрел, зальётся кровью это весёлое чистое лицо, голова с пшеничным чубчиком, свисающим на лоб. И палец замер. Чем ближе подъезжал разъезд, чем явственней был виден молодой казак, тем больше расслаблялся палец. Богушевич понял, что не может убить этого беззаботного молодого казака. Кто-то из повстанцев злым шёпотом ругнул его – чего ждёт, почему не стреляет, он же первый в цепи, ему первому и стрелять. И Богушевич выстрелил, но уже не целясь. Конечно, пуля не попала в казака. Тот только вздрогнул от страха, поспешно стал доставать из-за спины ружьё… Началась перестрелка, короткая, паническая, одного повстанца ранило в руку, он закричал от боли. Напугались и казаки и повстанцы. Казаки кинулись назад по дороге, повстанцы – в лес. Богушевич, вбежав в лесную чащу, перекрестился: «Спасибо, Матка боска, что не дала мне убить человека…»
История эта возникла в памяти мгновенно, как вспышка молнии. Чтобы воспоминания не увели ещё дальше, отсек их одним махом. Заговорил с извозчиком.
– А как же царь порешил с тем мастером-кузнецом? Покарал или наградил?
– Велел кузнецу сковать железную медаль в полпуда да повесить себе на шею. – Извозчик повернулся к Богушевичу. – Коли по правде, так и вам бы носить чугунную медаль. Вы же не пахарь. А сами небось Станислава имеете.
– Если по правде, может быть, и так, – засмеялся Богушевич. – А вы, Охрименко, стреляный воробей, хитрец.
– Стреляный, правда ваша, а вот хитрости во мне нет. Какой же я хитрый, коли грамоте не учен, – сказал он и схитрил: вывески, как заметил Богушевич, он читал бегло. – Вот кабы я гимназию или лицей окончил, был бы хитрый…
Богушевич был рад, что ему попался такой извозчик, побеседовать с ним интересно. Дорога длинная. Однако долго ехать вдвоём не пришлось. Как только оставили позади слободку, к бричке подбежал и на ходу влез в неё надворный советник Масальский, член окружного суда. Усевшись поудобнее, поздоровался и попросил его подвезти.
– Повезло мне, вот уж повезло, – радостно заговорил он. – Добрый день, гутен таг… мне недалеко, до усадьбы Горенко. Извините, что, так сказать, нахрапом влез, – не нашёл извозчика. Не против? Ну и зер гут, как говорят немцы-колбасники. Как живётся-можется вашему шляхетскому высочеству?
Масальский, понятно, был под градусом. На нем новая, с иголочки, триковая пара, новые лаковые туфли. Обточенные, отполированные заострённые ногти блестели так же ярко, как перстни и кольца на пальцах. Ему под сорок, а лицо, как у юноши. Такое впечатление, будто тело его в своём развитии остановилось на восемнадцати годах – делается старше, но не мужает. Кажется, таким неестественно моложавым Масальский останется до преклонных лет. Непоседливый, вёрткий, вспыльчивый, он легко обижался, но так же быстро отходил. И это его свойство тоже словно сохранилось в нем с детства. До недавнего времени он, немец по матери, поляк по отцу, повешенному в шестьдесят третьем году в Вильне за участие в восстании, был лютеранином. Год назад принял православие и из Казимира Адамовича превратился в Кирилла Андреевича.
Масальский всегда был несимпатичен Богушевичу, и он старался пореже с ним встречаться, а тем более не вступать в споры. Масальский их очень любил и был мастер вовлекать в них других.
Темы для дискуссий брал высокие – вера, государственный строй. При встречах с Богушевичем обычно выбирал предметом беседы католицизм, который он считал самым диким и кровавым из всех христианских вероучений. Ругая католичество, ругал и поляков за то, что они приняли его, а не православие и откололись от прочих славянских народов. «Вот вы ответьте мне, ясновельможный пан, – приставал он к Богушевичу во время таких дискуссий. – Почему поляки не захотели жить в мире с Русью? Зачем лезли на её земли? Кричали: „Польша от моря до моря! От Балтийского до Чёрного!“ Россия кровью истекала, защищась от жёлтых орд, разной жёлтой сволочи, а польская шляхта ей с запада нож в спину, в спину. Почему? А из-за гонора своего шляхетского. Проше паньства… Сабелька на боку. Мазурка… На пузе шёлк, а в пузе щёлк. Солому жрёт, а хвост – трубой. Работать же паны не любят, белорусы да украинцы на них горб гнули. И что осталось? Где их „от моря до моря“? А все из-за веры их, из-за католичества».
И часто, будто бы в шутку, спрашивал, скоро ли Богушевич примет православие. «Католики же – инквизиторы, самая это мрачная, кровавая религия. Мильонов двенадцать, не меньше, сожгли на кострах и замучили в тюрьмах. И ты признаешь такую веру», – упрекал он.
Вот и теперь Масальский не долго молчал. Заёрзал на сиденье, круто повернулся к Богушевичу, поглядел на него с усмешкой.
– Послушай, ясновельможный, зачем тебе такие шляхетские усы?
Богушевич не ответил, решил не связываться с ним, не вступать в пустые пререкания, не портить себе нервы, молчать.
Вместо Богушевича откликнулся возчик.
– Усы, как у запорожца.
Но Масальский не обратил на него внимания.
– Слушай, коллега, – наклонился он к Богушевичу, – а ты знаешь, чего я еду. О, брат, это целая история. Меня ждёт встреча. Объявился дядюшка, мейн онкель. Возвращается из Сибири. Тоже Масальский, родной брат моего фатера.
Богушевич хмуро молчал.
– И тебе не интересно, кто мой дядька? И почему он оказался в Сибири? Он – твой земляк, из-под Белостока. В шестьдесят третьем трепыхался. Независимую Жечь Посполиту хотел отстоять. Воевал за римскую веру и шляхетскую Польшу. Дурни, на кого подняли сабли? – Масальский почмокал языком, покачал головой. – И что завоевали? – придвинулся он к Богушевичу, ждал ответа. – Один брат, мой фатер, получил петлю на шею, другой – сибирскую каторгу. Ну, чего брыкались, шляхтичи несчастные?
На этот раз Богушевич не выдержал:
– И это вы про своего родного отца? Кощунство.
– Кощунство? А то, что оставил нас, маленьких, сиротами не кощунство? Зачем? Что ему надо было? Панствовать захотел? Он был с таким же гонором, как все они, – махнул он рукой на запад. – Каждый поляк хочет стать паном, а каждый пан хочет быть крулем, королём. Три дня хлеба не ел, а в зубах ковыряет, растак их мать!.. – выругался он. И ещё некоторое время ругался про себя, шевеля красными, точно намазанными помадой губами. А потом поднял вверх руку. – Пан Богушевич, я вижу – вы обиделись. Езус Мария, я же не вас лично имел в виду, хоть вы и католик. Прошу прощения, если задел ваше шляхетское самолюбие. Я забыл, что и вы – поляк, – солгал он.
– А может быть, я и не поляк, – сказал Богушевич и словно насквозь пронзил его колючим взглядом.
– Как же это, майн герр? Франтишек-Бенедикт Казимирович и не поляк?
– Католик, а католики есть и литовцы, и белорусы, и русские, даже немцы есть католики. А мои предки родились и жили среди белорусов.
– Какие ещё белорусы?
– А такие же, как украинцы, герр Масальский.
По тому, как решительно произнёс это Богушевич и поглядел на него, не скрывая неприязни, Масальский понял, что лучше помолчать, и затих. Сидел, положив нога на ногу, любовался лаковыми туфлями и чёрными шёлковыми носками. Однако долго молчать не смог.
– Франц Казимирович, а вы так и не поинтересовались этим каторжником Масальским, – снова повернулся он к Богушевичу, – и не спросили, почему я к Горенко еду. Мой дядька каторжник остановился у Горенко. А мне весточку прислал. Письмо написал… по-польски. Думает, я понимаю. Чудак.
Выехали на тракт. Он неширокий, только двум встречным возам разъехаться, с обеих сторон обсажен дубами. Ехали, как по зеленому коридору. Время от времени с дубов срывались жёлуди и падали на бричку. Немало валялось их и на дороге; они падали мокрые, не высохшие от росы, – примета близких осенних холодов. Листва на дубах ещё висела крепко, не осыпалась, не пожелтела даже. С ясеней и лип листья уже облетели. Извозчик поймал ясеневый лист, поднял вверх, показывая седокам, а потом долго любовался им, поворачивая в пальцах.
– Красиво умирает дерево, – сказал извозчик.
– Оно не умирает, а засыпает на зиму, – поправил его Масальский.
– Умирает. Каждый год умирает, а весной нарождается. А за жизнь свою листьями, как золотыми рублями, расплачивается.
– Мистика, – сказал, как хлестнул, Масальский. – Примитивная мистика простолюдинов.
– Золотыми рублями расплачивается за жизнь свою, – повторил Богушевич и коснулся плеча извозчика. – Спасибо.
– И вам спасибо, – не оглядываясь, закивал головой извозчик. Ясеневый лист он спрятал в карман.
Масальский принялся делиться последними губернскими новостями – за день до этого вернулся из Чернигова. Рассказал про планы уездного земства: собираются строить шоссейную дорогу, позлословил насчёт старого известного черниговского адвоката, который невероятно долго выступает в суде.
– Когда у него спросили, к чему такие длинные выступления, он ответил: «Чем дольше я буду здесь говорить в суде, тем больше времени мой клиент будет на свободе». – Масальский засмеялся, толкнул коленом Богушевича. – Как, майн герр, здорово?
«Хоть бы скорее уже до Горенко доехать, – думал Богушевич. – И такой пустозвон решает судьбы людей». Помянул недобрым словом и Кабанова: не задержал бы его – не встретились бы с Масальским. Так хотелось взять этого болтуна за узкие плечи, приподнять да пинком в зад… Извозчик будто почувствовал настроение Богушевича, стал погонять лошадь. Она побежала мелкой рысью, затарахтели колёса, и Масальский примолк. А если начинал по разумению извозчика неприятный для Богушевича разговор, старик, точно нарочно, принимался громко понукать свою конягу, чмокать, а то и сам начинал что-нибудь рассказывать. Но Масальского это не останавливало.
– Я вот припомнил, ваше ясновельможество, – повернулся он на сиденье, – как однажды у председателя суда господина Ланге философствовали о законе и роли судьи… Хотя разговор был приватный, неофициальный и все мы были немного под шафе, а все же ваша идея, я сказал бы, с прицелом на беззаконие. Помните?
– Не помню, – сухо ответил Богушевич; он и правда не помнил, что на каком ужине говорил.
– А я помню, – обрадовался Масальский, как школьник-фискал, подсмотревший нечто недозволенное у товарища. – Господин председатель утверждал, что только тот судья, прокурор, следователь превосходно исполняет свои обязанности, кто строго придерживается буквы закона, кто руководствуется только нормами законности. Так? А вы что говорили? А вот что: судья, мол, должен смотреть дальше закона, быть впереди официальных идей, должен предвидеть новые веяния в обществе и, если закон не отвечает новым идеям, новой морали, то его нужно обходить. Говорили?
– Может быть, и говорил. Что в этом крамольного?
– Так же думают и наши социалисты. Идеология якобинцев накануне якобинской диктатуры. Между прочим, я пишу научный трактат на ту же тему. Я думаю посвятить себя науке, попасть на кафедру университета… Так вот, кто есть судья? Судья есть человек, призванный проводить в жизнь законы и следить, чтобы все люди действовали согласно закону, – это положение красной нитью проходит через весь мой трактат. – Лицо Масальского загорелось, пухлые красные губы дрогнули в усмешке. – Дорогой коллега, не будете же вы спорить с тем, что судьи призваны стоять на страже государственности и законности и в своей деятельности руководствоваться только законом. Хорош он или плох, справедлив или несправедлив, исполнять его обязаны все. Мы – судьи, прокуроры, следователи – не можем нести ответственность за те законы, которые мы не принимали и не устанавливали. Так? Верно? Можно найти примеры и в истории. Вот во Франции судьи, служившие при королях, судившие по королевским законам, служили и судили по тем же законам и при якобинцах и при империи. Это наша работа, служба, про-фес-сия! Как у врача, у тюремной администрации, у палача, наконец. Палач рубил головы революционерам, а потом отрубил голову самому королю. А потом снова революционерам рубил. Диалектика природы!
– Судья и палач… Ну и сравнение, – раздражённо сказал Богушевич. – Палач – это механический исполнитель, он обязан исполнять приказы. А судья применяет закон к конкретному случаю. Всякий закон, даже хороший, демократичный, можно толковать по-разному. Вот честный, добросовестный судья и должен, применяя закон, учитывать не только его требования, но и общественные условия, идеи, сложившиеся в обществе и завладевшие им. Нельзя слепо применять нормы закона, каждую из них надо брать под сомнение – не устарела ли она, не противоречит ли общественной морали.
– Нет, – рубанул рукой воздух Масальский. – Закон не подлежит обсуждению, а тем более не может браться под сомнение. Это ж черт знает что было бы, если бы каждый судья, прокурор начали по-своему его толковать. Разве мы, блюстители закона, виновны в том, что нам приходится его применять, даже когда он устарел?
Богушевич замолчал и с досадой подумал: «Опять влез с ним в этот дурацкий спор. Сколько раз зарекался поддаваться на его шпильки, связываться с ним».
– Не понимаю вас, ясновельможный, – вскинул руки Масальский, – его излюбленный жест. – Если согласиться с вами, то что же это будет? Каждый станет сам определять закон и толковать его в свою пользу! Даже социалисты и те за порядок и законность.
– Господин Масальский, – оживился Богушевич, и глаза его загорелись. – Представьте, что социалисты пришли к власти. Что бы вы им тогда сказали? «Мы, мол, не виновны, что вас на каторгу посылали, мы исполняли закон. У нас такая профессия». Так? А знаете, что бы они вам ответили? «Вы защищали преступный (в их понимании) порядок, и его защита – преступление». И вас самих на каторгу.
Глаза Масальского округлились, застыли.
– Майн герр, вы хотите сказать, что и у нас якобинцы придут к власти? И у нас будет то же, что некогда во Франции?
– Этого я не утверждаю, я просто представил мысленно такую картину, – сказал Богушевич с усмешкой. – Порядок устанавливают те, в чьих руках власть, и устанавливают прежде всего для своей надобности, чтобы он им был выгоден. Для всех прочих, которых большинство, этот порядок – преступный беспорядок. Поэтому возникает протест – бунт, революция. Большинство хочет установить свой порядок… Вот об этом и напишите в вашем научном трактате.
– Ну, пан Богушевич, – хлопнул в ладоши Масальский, – не ждал я такого услышать! Да вы же – красный! К вам красная зараза пристала! – И отодвинулся от Богушевича, точно тот и правда был заразным.
– Это не я красный. Я привёл вам слова о государственном порядке Руссо. Думаю, вам не грех бы познакомиться с этим мыслителем.
Больше в спор не вступали, выговорились.
Впереди показались белые строения – это и была усадьба помещика Горенко. Повеселел Богушевич: наконец избавится от Масальского. Извозчик тоже оживился, стал понукать коня.
Вскоре подъехали к воротам. Масальский соскочил с брички, сказал:
– Премного благодарен, данке шён за то, что подвезли. Если я буду ехать, то милости просим, тоже подвезу.
Извозчик понял, что Масальский не даст ему денег, глянул на него так пренебрежительно-насмешливо, как глядит нищий вслед богачу, который проходит мимо, говоря: «Бог подаст». Масальский полез было в карман брюк, вытащил наполовину кошелёк, но сразу же спрятал обратно. А чтобы не подумали, что хотел достать деньги, похлопал по другим карманам, вынул платок и вытер нос. Извозчик зло буркнул что-то и начал поворачивать лошадь. В эту минуту где-то рядом раздался голос:
– Пан следователь! Куда же ты, стой!
Под навесом стояли двое – Горенко и неизвестный седой высокий мужчина с толстой суковатой палкой. Горенко – в полотняных штанах и вышитой рубахе. Он-то и окликнул Богушевича.
– Что же это ты, голубок, – начал, подойдя к ним, стыдить Богушевича, – завернул ко мне в имение и стрекача задаёшь. Обижаешь старика.
Франтишек поздоровался, сняв шляпу, но с брички не сошёл.
– Я очень спешу, пан Горенко, очень.
– Ну, голубок, не на пожар же!
– На пожар и спешу.
– А что сгорело?
– У Глинской-Потапенко конюшня.
– Тю-ю! Было бы о чем говорить… Слезай, слезай, голубок, не отпущу. На полчаса всего и задержишься.
Пока Горенко уговаривал Богушевича, Масальский, расставив руки, шёл к седому человеку – это, конечно, и был тот дядька, что вернулся из Сибири. Масальский шёл так, словно каждый шаг причинял ему острую боль (может быть, туфли жали), ступал осторожно, на всю ступню. Развёл руки для объятий и дядя, но с места не сходил. Худой, высокий, сгорбленный, похожий на кривой турецкий ятаган. Вот Масальский подошёл, однако обнимать не стал, а взял дядю за руку и пожал её. Дядюшка, ждавший, что тот его обнимет, даже растерялся, выдернул руку из руки племянника и сам обнял его, прижавшись щекой к щеке.
– Ну что ты, голубок, сидишь? – не отставал тем временем от Богушевича Горенко. – Пообедаешь у меня и поедешь. Мой кучер тебя и отвезёт.
– Оставайтесь, – сказал и извозчик – ему, видно, не хотелось ехать дальше.
– Пообедаете. Обед у меня – во!
И Богушевич согласился, слез с брички.
Но причиной тому был не обещанный обед, а желание поговорить со старым Масальским.
Горенко взял Богушевича под руку и повёл по дорожке, усыпанной плотно утрамбованной кирпичной щебёнкой. От этой красной дорожки во все стороны тянулись красные следы ног.
– Вы не представляете, как мне тоскливо здесь без культурных людей, – жаловался Горенко, зажав в кулак седой клинышек бороды. – Запил бы, так нет компании. И в карты не с кем поиграть. Книг полный шкаф, а читать не тянет. И к чему читать – и так все известно. Одно утешение, когда заедет культурный человек.
– А этот пан, – мотнул Богушевич головой в сторону старого Масальского, – как у вас очутился? Родственник ваш?
– Не родственник, не свойственник, но человек культурный. Больше десяти лет на каторге и в ссылке отгрохал и, хотите верьте, хотите нет, не научился материться. Вот это человек! Неделю у меня живёт и с утра до ночи сидит, уткнувшись в книгу. Даже обедать идёт с книгой под мышкой. Водки на дух не переносит. Не курит. Про карты сказал, что их надо запретить законом.
– Так как же он у вас очутился?
– С письмом от моей сестры Галины приехал, – ответил Горенко, наконец перестав дёргать бородку. – Сестра живёт в Чите, замужем за полковником. А Ян Масальский отбывал там последние годы ссылки, и сестра приглашала его, как культурного человека, к себе в дом. Приехал сюда, больше ехать ему некуда. Я узнал, что судья Масальский приходится ему племянником, и послал ему весточку. Теперь старику будет где дожить отпущенные богом года… Вам, пан Богушевич, будет с ним интересно поговорить. Вы ведь тоже культурный человек.
Подошли к двухэтажному белому дому. Две помпезные колонны подпирали треугольник фронтона, на котором рельефно вылепленные задастые амуры целились из луков в пространство. Веранда была застеклена стёклами оранжевого цвета. Там сидела маленькая женщина в чёрном чепчике и чёрной шали и читала. Снаружи она казалась чёрной мушкой внутри янтаря.
– Моя супруга, – показал на веранду Горенко, – читает французские романы и грезит о рыцарской любви.
…Вчетвером они вошли в зал-столовую, где уже был накрыт стол.
– Прошу, господа, садитесь, – гостеприимным широким жестом указал Горенко на кресла.
Богушевич сел рядом с Яном Масальским. На столе – графины, штофы с водкой, настоенной на разных травах и кореньях, наливки, квас. Стол богатый, хватило бы на дюжину гостей. Горенко расстегнул воротник рубахи, потёр нетерпеливо руки.
– Ну, панове, – сказал он, – приступим к делу. Никто никого не подгоняет, никто никого не неволит, но будьте добреньки, уважьте хозяина – пейте и ешьте. Кто и не может пить, все равно пейте. А то одному мне неудобно и некультурно нализаться, не хочу, голубки, свиньёй показаться гостям, если они как стёклышко.
– Пан Тарас, – часто и тяжело дыша, слабым голосом сказал Ян, – неудобно без хозяйки пировать. Пригласите её.
– Обойдётся, – сморщился Горенко. – Женщинам в мужской компании делать нечего. Была бы это чужая жена, пригласил бы… Прошу, панове, наливайте себе, кому что по вкусу. Ну, а ты, голубок, чего сидишь? – обернулся он к Богушевичу. – Выпей, чтобы все жилки прочистились. – Он держал в руке полную рюмку и неосторожно обмакнул в неё кончик бороды. – Ещё сам не выпил, а бороду напоил, – засмеялся он. – Ваше здоровье!
Старый Масальский не стал ждать, пока все выпьют, принялся за еду. К напиткам не притронулся. Молодой Масальский поднял рюмку и любовался ею с таким выражением, словно перед ним не рюмка, а золотой слиток.
Ели, пили, разговаривали. Ян Масальский, как заметил Богушевич, ел очень бережливо, аккуратно. Когда откусывал хлеб, подставлял под ломтик ладонь и осыпавшиеся крошки кидал в рот. Низко наклонялся над тарелкой, чтобы не капнуть мимо. Привычка, приобретённая во время голодной жизни на каторге. Шея у него длинная, худая, острый кадык торчит.
Подвыпивший уже Масальский-судья сказал:
– Дядя Ян, а пан следователь вам земляк и по вере католик. Из ваших, из поляков.
Тот глянул не на Богушевича, а на племянника.
– «Из ваших», – сердито передразнил он. – А ты сам уже не из наших?
– Ну, дядечка, – не смутился Масальский, – вы же знаете мою родословную по матери.
– Кирилл Андреевич, – нарочито громко обратился к нему Богушевич, – передайте, пожалуйста, вон тот графинчик.
Теперь уже Ян перевёл глаза на Богушевича.
– Почему это он Кирилл Андреевич? – спросил он.
Богушевич не ответил, уставившись в тарелку, молча ел.
– Казимир, – обратился дядя к племяннику, – твой отец Адам назвал тебя Казимиром, почему же ты Кирилл Андреевич? Ты что – от отца отрёкся?
– Панове, голубки мои, – воскликнул Горенко, приходя на выручку растерявшемуся Масальскому-младшему. – После все выясните. А теперь давайте звякнем чарками и споём нашу старую запорожскую. Он встал, ещё шире распахнул ворот рубахи и запел оглушительным басом:
Не хилися, явороньку,
Ще ты зелененьки.
Не журися, казаченьку,
Ще ты молоденьки.
Масальский-младший тоже встал и, подняв рюмку, подхватил песню жидким тенорком.
Гей, гей, козаченьку,
Ще ты молоденьки.
Однако пел он и махал руками скованно, словно на нем был не новый триковый костюм, а тесная, неудобная кольчуга.
– Дорогой дядечка, – сказал он, окончив петь, потому что тот все ещё ждал ответа. – Я все тебе потом объясню.
Горенко с Масальским-младшим запели другую песню, а Богушевич с Яном разговорились.
– Так вы из наших мест? – спросил старик.
– Из Гродненской губернии, а родился под Вильной.
– А я – под Белостоком. Простите, пан, как ваше имя?
Богушевич назвал себя, рассказал, в ответ на расспросы старика, о своих родителях, о Вильне, гимназии, теперешней службе.
– А я уже не увижу свой край, – вздохнул Ян, и острый кадык его дёрнулся, глаза погасли.
– Почему, уважаемый пан? Это же ближе, чем до Сибири. Возьмёте и съездите.








