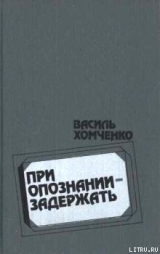
Текст книги "При опознании — задержать"
Автор книги: Василий Хомченко
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Богушевич ещё раз – это уже третий – подошёл к пепелищу конюшни. Сгорело все дотла, остались кирпичные опоры фундамента да головешки. Опор этих двенадцать. Они стояли чёрные, закопчённые, засыпанные пеплом, однако целые. Все, кроме одной, угловой, там, где, по словам свидетелей, была мастерская Соколовского. Эта опора была разрушена – на земле лежали лишь куски её. Ещё одно доказательство взрыва. А взорвалось то, что изготовлял у себя в мастерской Соколовский, – гремучий студень. Книгу по химии и тетрадь с рецептами изготовления динамита Богушевич спрятал к себе в портфель, однако не для присоединения к делу о поджоге и не для передачи жандармам. Взял, чтобы при встрече передать Соколовскому и поговорить с ним про все. Богушевича удивляло, что Соколовский так неосторожно, чуть ли не на самом виду, держал свои записи. Верно, считал, что в этом глухом углу мало кто обратит внимание на его занятия химией.
Понял теперь Богушевич, кто такой на самом деле эконом Соколовский: бежавший из тюрьмы виленский корнет Силаев, которого ищут жандармы. Нахлынули на него воспоминания, жгучие, тревожные: бои, отход через лесные дебри, атака конников, рана в ногу и спасение… И со всем этим был связан он, Силаев, молодой корнет, а теперь эконом Соколовский…
Богушевич походил по двору, хотел отделаться от воспоминаний, от того давнего, горького, а они не отпускали. Вернулся к себе в комнату, сел возле раскрытого окна. Услышал во дворе тарахтение колёс. По мягкому тарахтению догадался, что едут на рессорной четырехколесной коляске, подумал, что возвратился Соколовский. Выбежал из комнаты на крыльцо.
И правда, увидел четырехколесную коляску с откидным верхом, но сидел в ней уездный жандармский ротмистр Бываленко и неизвестный Богушевичу штатский. Правил вахмистр. Богушевич сразу догадался, с какой целью они сюда приехали, защемило сердце. Остановился, точно наткнулся на преграду. Бываленко и неизвестный сошли с коляски, приложили руки к фуражкам.
– Кто дома? – спросил Бываленко. – Эконом тут?
– Пани Глинская, – ответил Богушевич. Про Соколовского умолчал.
– Добро. А вас, господин следователь, какие дела сюда занесли? – И объяснил штатскому: – Это наш участковый судебный следователь, господин Богушевич.
– Пожар, – ответил Богушевич и показал на пепелище.
Штатский поздоровался за руку, назвался Антоном Генриховичем Брантом и спросил не очень доброжелательно:
– Вы не ответили, эконом тут?
– Не интересовался, – так же неприязненно сказал Богушевич – ему не понравился ни сам Брант, его недоверчиво-высокомерный взгляд, ни тон его вопроса.
На крыльцо вышла Одарка, засияла, увидев ещё троих незнакомых мужчин, открыла двери, пригласила в дом. Повела в залу.
Штатский остался. Был он дородный, усатый, с бакенбардами и бритым подбородком – под государя-императора Александра. На груди блестела надраенная бронзовая медаль: «За усмирение польского мятежа». «Может, и меня „усмирял“, – подумал Богушевич, хотел было порасспросить вахмистра, но тут его позвал Бываленко.
Хозяйки в зале не было, все сидели вокруг стола, ждали. Бываленко осведомился у Одарки насчёт Соколовского и, когда услышал, что тот в городе, растерянно взглянул на Бранта. Оба развели руками.
– Что взял с собой? Как долго там пробудет? – закидали они Одарку вопросами. – На своей лошади поехал?
– Сегодня к вечеру приедет. Подождите, – с охотой ответила Одарка.
– Говорят, он хороший столяр – делает красивые шкатулки? – поинтересовался Брант.
– Мастер их делать, – заулыбалась Одарка, – цветочками да кружочками украшает.
– А куда он их девает, коробочки эти? Продаёт? И теперь их в город повёз? Шкатулки.
– Не видела, может, и повёз.
Бываленко и Брант снова переглянулись и развели руками. Что означает этот жест – догадаться было нетрудно: боялись, как бы Соколовский не убежал. Вдруг он проведал, что его выследили, и больше сюда не вернётся? Богушевич хорошо знал Бываленко, у того все мысли и желания сводились к одному: поскорей дослужиться до пенсии, не споткнуться по службе. Все, что делал, делал осторожно, с оглядкой, лишь бы не повредить карьере. Он намного старше Бранта, полный, одышливый.
А Брант – франт: высокий, статный, в темно-синем бархатном пиджаке, светло-голубом пикейном жилете, в мягкой пуховой шляпе, которую он держал на колене. Брант сидел, положив кулаки на край стола. Широкий, тяжёлый лоб, казалось, давил на лицо, сплющивал его, может быть, поэтому подбородок выдавался вперёд, а губы были тонкие, стиснутые. Разглядывая Бранта, Богушевич подумал, что у этого человека ум побеждает душу, господствует над ней.
Одарка сходила за хозяйкой. Вернувшись, сказала, что та выйдет через двадцать минут.
Брант снова стал расспрашивать Одарку о Соколовском: чем тот занимается, кто к нему приезжал, как часто отлучается из поместья, получает ли что-нибудь по почте? Одарка рассказывала подробно и по-прежнему охотно, с радостной улыбкой, называя Соколовского только по имени-отчеству.
– Они, Сергей Миронович, вечерами читают. В Конотоп ездят – то в банк, то в магазин. Сюда к ним никто ни разу не приезжал. Даже жена его ни разу не бывала. И ни в кого Сергей Миронович не влюбляется, одну жену любит.
Бываленко заусмехался, а Брант нахмурил брови.
«Они будут производить обыск, вот для чего я им нужен, – думал Богушевич. – И почему я не просмотрел все его бумаги, не отпер ящики? А Брант этот и есть тот кузен Клары Фридриховны, о котором говорил Потапенко… Ах, знал бы ты, Сергей, кто тебя здесь ждёт! – вздохнул Богушевич – жаль было ему Соколовского. – Хоть бы ты не приезжал…»
Вошла хозяйка. Мужчины встали. Простукала костылём до своего кресла, села в него с помощью Одарки, положила на стол лаковую круглую табакерку. Бываленко и Брант поцеловали ей руку. Бываленко она знала, а Брант назвал себя.
– Рада, очень рада, – закивала хозяйка головой, действительно радуясь гостям. – Это вы из-за пожара приехали? Давно надо было, давно. А то вот он, – показала рукой на Богушевича, – никого под арест брать не хочет. Говорит, что не подожгли, а само загорелось, окурок кто-то нечаянно бросил будто бы… – Она разговорилась, и её не останавливали, делали вид, что внимательно, с интересом слушают и верят ей. – Я говорю, что это в отместку мне, что мужики мне мстят. Начали с конюшни, а потом и все поместье сожгут, а меня повесят. Все они – пугачевцы. – И стукнула костылём о пол.
– Могут, – согласился с ней Бываленко. – Мужики есть мужики. А скажите, пани, кроме мужиков знаете кого-нибудь, кого можно было бы подозревать в противозаконных действиях?
Старуха не сразу поняла, о чем её спрашивают. Затрясла головой, повязанной чёрным платком, ухватилась за костыль, подняла, подержала и не стукнула, тихо поставила на пол.
– А то нет? Все они хотят моей гибели.
– У вас же в поместье работники тихие, бога боятся, законы уважают. – Бываленко умолк, кинув быстрый взгляд на Бранта. – Эконом хорошо ведёт хозяйство… А скажите, мы его сегодня дождёмся?
– Приедет обязательно. Одарка, когда ему было велено приехать?
– А вечером, – ответила та, лишь на момент оторвав взгляд от Бранта. С той минуты, как он вошёл в залу, она не спускала с него своих красивых глаз.
– Приедет. Если бы все так заботились о хозяйстве, как мой Сергей Миронович! Только вот с мужиками он слишком добрый, как и этот вот пан, – укоризненно глянула она на Богушевича и сжала сухие, морщинистые губы. – Уж до чего добрый пан следователь. Ночью ходит по полю, конюха моего учит, что надо про пожар говорить…
– Неправда, пани Глинская, – резко прервал её Богушевич. – Выдумка это.
– Слышали? – удивилась она такому категорическому отклику, словно приглашала Бываленко и Бранта тоже удивиться. – Потому и не хотите найти поджигателей.
Богушевич встал и, не скрывая обиды и неприязни, вышел из залы. Он ещё успел услышать, как старая барыня сказала:
– Гордый какой! А вот я на него в окружной суд жалобу напишу.
В комнате он кинул в портфель свои вещи и поспешил из усадьбы на дорогу. Решил перехватить там Соколовского и предупредить о жандармах.
– Ах, если бы ты сегодня не приехал! – проговорил он вслух.
В имении делать ему больше было нечего. Все, что нужно, сделал. Постановление о прекращении дела напишет дома: виновные в умышленном поджоге отсутствуют, пожар произошёл из-за неосторожности кого-то из дворовых работников. Он бы и не возбуждал это дело, если бы не жалоба Глинской-Потапенко прокурору. По закону частная жалоба должна разбираться следователем.
Богушевич шёл лесом; было тихо, не слышалось птичьего пения, шума деревьев, словно природа прониклась его настроением и примолкла, чтобы дать ему возможность что-нибудь придумать. Но сколько ни думал, ничего определённого не решил, только все поглядывал в ту сторону, откуда ждал Соколовского.
Вечерело. Заходящее солнце притухло, покраснело. Богушевич сел на траву на обочине дороги. Трава осенняя, жёсткая, усыпанная кое-где занесёнными из леса листьями. Собрал в горсть несколько листков, пожухлых, сухих, поднёс к лицу. Пахло осенью, увяданием, смертью всего живого, что родило лето. Умирают растения тихо, без стона и вздоха, без протеста, словно понимая, что их смерть нужна для продления жизни других растений, довольствуясь отпущенным им сроком, и тем, что выполнили свой долг перед природой… Вот бы и люди так умирали, осознавая, что их смерть необходима для жизни других людей. А ведь есть же люди, что просят у бога смерти. Да и сам он не раз в тяжёлые минуты, когда непосильным бременем давила тоска, спокойно думал о смерти. Умереть, думал он тогда, это избавить себя от тех житейских бед, чёрных дней, неудач, унижений, которые сыплются на тебя и невыносимо отравляют жизнь. Когда было особенно горько, невольно вспоминался кто-нибудь из умерших знакомых. «Завидую тебе, брат, – думал он в отчаянии, – не знаешь ты ни страданий, ни боли, ни обид, не видишь противных тебе людей…»
Богушевич тряхнул головой, посмотрел вокруг, удивился, что им овладели такие мрачные мысли. Что это? Предчувствие беды, смерти? Чьей, чужой? А может, своей?.. Встал, пошёл по дороге, глядя на паутинку, которая, зацепившись за рукав, вилась за ним свободным концом. Шёл, шёл, а паутинка все его не покидала.
«Почему я не взял фотографию Сергея?» – пожалел он.
Увидел повозку, запряжённую парой лошадей. Ехала она в город, в ту сторону, откуда он ждал Соколовского. Видно, какой-то помещик спешил в Конотоп. Не доезжая шагов тридцать, кучер придержал лошадей, а поравнявшись с Богушевичем, остановился. На дрожках, действительно, сидел помещик из Лясовки, владелец винокурни, отставной майор. Узнав, что Богушевичу нужно в город, предложил:
– Садитесь, мигом домчу. Только к Гарбузенко сперва завернём, должок за ним. На ярмарку еду, двух коней хочу купить.
«Завтра же в Конотопе ярмарка, – вспомнил Богушевич, – народу съедется!..»
Залез в дрожки с надеждой, что встретит Соколовского по пути.
…А на другой день, ещё третьи петухи не пропели, Богушевич уже оказался в Конотопе. На ярмарке в то утро все было так, как описывал некогда Гоголь… Народу наехало – видимо-невидимо! На ярмарочной площади и примыкавших к ней улицах стояли возы с распряжёнными лошадьми и волами. На возах и под ними спали крестьяне, привёзшие на продажу кто что. Вон цыганская повозка с крытым верхом – на ней, прижавшись друг к другу, вповалку спят цыганята, а сам хозяин с хозяйкой – под ней на земле… Спит парубок рядом с коровой, опутанной за рога вожжами, а чтобы корова не убежала, другой конец вожжей привязан к его руке… Ударил в нос резкий запах вяленой рыбы – это приехали из Крыма чумаки… Двое бродяг, конечно, оба мертвецки пьяные, лежат чуть ли не на самой дороге, и по свежим следам колёс видно, что их и не пробовали будить, а объезжали стороной. Одним словом, всякого сброду собралось, как это водится на ярмарках… Припоминая описанную Гоголем конотопскую ярмарку, Богушевич стал искать и москаля-бородача, который обязательно должен был тут быть. И нашёл – тот спал на разостланном пустом мешке, в сапогах, красной в белый горошек косоворотке, жилетке и картузе.
Идти к Соколовскому было рано. Конечно же, там ещё не вставали. Однако пошёл.
Окно в доме было распахнуто настежь, и, видно, сквознячком выдуло наружу занавеску. Она свисала, как белый флаг капитуляции. Не заперта была и калитка. Богушевич нарочно громко лязгнул задвижкой, чтобы в доме услышали, что к ним кто-то идёт. Но никто не вышел. И не отозвался, когда он крикнул в распахнутое окно. Богушевич вошёл в сени – на внутренней двери висел замок.
«Где же они? – удивился и встревожился Богушевич. Вернулся к окну, отодвинул занавеску – в комнате все стояло на своих местах. – Неужели на ярмарку с утра пораньше ушли?» Значит, не знают, что им угрожает. Богушевич быстро вышел со двора и заторопился на ярмарочную площадь.
А к площади – или к майдану, как её здесь называют, – подъезжали все новые возы, люди ехали издалека всю ночь. Выбирали место, распрягали волов, стараясь не шуметь, чтобы не будить тех, кто спит.
К ярмарке готовился весь город. В лавках подбавляли товара, в шинках и корчмах наготовили про запас всякого питья и еды. Во всех уголках майдана стояли полные бочки с пивоварен Гернера. На подоконниках лавок поблёскивали штофы, полуштофы, бутылки и «мерзавчики» – попробуй, казак, удержись, не зайди…
На свободном участке в городском саду бродячие циркачи собрали из щитов огромный шатёр для представлений. Афиша, где о нем говорилось, красовалась на стене Иваненковой лавки, приглашая посмотреть на разных магов и женщину без костей. «С разрешения городского начальства, – обещала афиша, – перед почтённой публикой предстанет факир и шпагоглотатель Ахмет Дарыбаз-оглы. Он же перепилит женщину на две половины…»
Вот-вот всколыхнётся майдан, начнётся ярмарка. То-то будет сегодня веселья, шума, гама, мордобоя, пляски, хохота и слез, удач и неудач…
И началось, как только солнце брызнуло лучами по вершинам тополей и осокорей, по пожарной каланче, крестам собора, крышам домов. Открылись шинки, лавки, кондитерские, задымились в них трубы, все сразу проснулись, как просыпается по сигналу армейской трубы войсковой лагерь. Явились на площадь полицейский надзиратель, урядник, члены санитарной комиссии, немного позже – торговые депутаты от городской думы… Следили за порядком, заставляли переставлять возы, лотки, освобождали дорогу для пешеходов. Загудела ярмарка, загудел и Конотоп. Крики – кто кого перекричит, мычание коров, ржание лошадей, щёлканье кнутов, кукареканье, гогот гусей, кряканье уток, жалобные звуки лиры и кобзы, песни слепцов и нищих… А пахло как! Дёгтем, яблоками, жареным салом, чесноком, сластями, дешёвым одеколоном – это выбрали бойкое место цирюльники, лязгали ножницами, зазывали к себе, предлагали сделать парижскую стрижку. Там, где продавались ткани, толпились женщины. Мальчишки-разносчики шмыгали повсюду со своими лотками, где лежали горками бублики, баранки, медовые пряники, а на них – рой мух. А игрушек сколько выставлено – свистульки, пищики, глиняные соловьи, кони, оловянные солдатики, пистолеты, куклы, матрёшки… Возил среди людей свою тележку и мороженщик в белом, с жёлтыми пятнами фартуке, потел и этим фартуком вытирал нос и пот с лица.
– Лафит! Портер! Вина для дам! Прошу! – кричал, сидя на пороге своей лавчонки, торговец-инвалид без одной ноги. Уцелевшая нога обута без носка в белую лаковую туфлю.
К нему подошёл урядник Носик, спросил:
– Как живёшь, Пронька?
– Как видишь, – ответил тот. – Лучше кому другому помереть, чем мне жить.
Послышались звуки гармони. Шёл тот «москаль», что спал недавно на пустом мешке, продавал гармоники.
– Из самой Тулы привезены. Люди православные, покупайте музыку для души и сердца.
И запел, подыгрывая сам себе:
Слава богу, понемногу
Стал деревню забывать.
Полбутылки стало мало,
Стал бутылку выпивать.
Носик, встретив Богушевича, поздоровался с ним, сказал:
– Любуетесь, ваше благородие, народом? Хороший праздник. Только вот все продают, а никто не покупает.
– Что нового? – спросил Богушевич просто так, чтобы о чем-нибудь спросить.
– А ничего. Вот за порядком смотрю.
– Все по-старому, значит. Ничего нового. Даже холеры и той нет.
Урядник шутки не понял, на лице – страх.
– Что вы, какая холера, ваше благородие! Тьфу, тьфу! – и отошёл за возы.
Уже попадались пьяные. И, как заметил Богушевич, пили не в шинках, не покупную горилку, а самогонку, свекольную да пшеничную. И, в общем, правду сказал урядник – больше было среди крестьян продавцов, чем покупателей. Навезли столько пшеницы, что конотопцам и за год не съесть. Живности, привезённой на продажу, хватило бы на каждый конотопский двор. О, сколько богатства на возах да в лавках, только деньги давай, а денег-то и нет. Много лет спустя, увидев то же самое в Вильне, Богушевич запишет: «Торговля, сельское хозяйство, промыслы – все у нас есть, не хватает только, во-первых, денег, во-вторых, денег, в-третьих, денег… Крестьяне едят кашу и блины со шкварками, но не имеют денег – ни копейки. Ходят по городу, облизываются, смотрят на витрины магазинов, но ничего не покупают… Стонут, еле ноги волочат, но умирают без докторов; женщины латают свитки, мужчины сами по вечерам зашивают дратвой сапоги… Словом, никому ни копейки…»
Вот почти так было и на конотопской ярмарке.
Соколовского и Нонну Богушевич на площади так и не встретил и снова пошёл к ним домой. На этот раз он их застал.
– А, Франц Казимирович, прошу. Входите, – обрадовался Соколовский его приходу. – Очень хорошо, что заглянули. Рад, очень рад.
Борода у него аккуратно расчёсана, волосы блестят, разделены на пробор. Он в чёрном костюме, белом галстуке. Этот торжественный наряд в такую рань удивил Богушевича, до сих пор он видел Соколовского только в одной одежде – полотняном пиджаке, картузе, сапогах и со всклокоченной бородой, в которой всегда что-нибудь торчало: соломинка, былинка сена. Ещё больше удивился Богушевич, когда, войдя в дом, увидел Нонну в белом нарядном платье и фате.
– Где это вы были? Не венчаться ли собрались? – спросил Богушевич.
– Венчаться. А ходили к отцу Паисию. Сказал, что ещё рано, – ответила Нонна, растерянно-беспокойная. – Пойдёмте к нам свидетелем.
– В таком виде? – показал Богушевич на свои запылённые туфли, мятые штаны. – Вы, правда, в церковь? – спросил он на этот раз Соколовского.
– В церковь, в церковь. Под венец веду молодую жену, – нервной скороговоркой ответил тот. – И идти надо как можно быстрей. – Достал из кармана часы, глянул. – Уже пора…
«Тебя жандармы приехали брать! – чуть не крикнул Богушевич. – А ты под венец идёшь. – Не крикнул, удержался, побоялся за Нонну. – Чего это он так заторопился. Может быть, узнал про все?»
– А я только что из Корольцов, – сказал Богушевич. – Пожар расследовал.
– Ну и что? – поправляя перед зеркалом галстук, спросил Соколовский.
– Причину пожара знаю. Нашёл.
– Какая же причина?
– Пожар начался от вашей мастерской, где делались… шкатулки. От взрыва. Взорвался гремучий студень.
Пальцы Соколовского застыли на галстуке. Несколько секунд он так и стоял, неподвижно, как окаменелый. Повернувшись к Богушевичу, застыла на месте и Нонна, вперив в него синие встревоженные глаза.
А Богушевич и ещё больше ошарашил их. Достал из портфеля тетрадь с химическими записями, книгу по химии, положил на стол.
– Взял у вас в комнате. Пропорции динамита тут записаны точно.
Соколовский раскрыл тетрадь, ответил сдержанно, с дрогнувшей улыбкой:
– Это не доказательство. Просто я интересуюсь химией.
– Не доказательство? Ну, так их найдут жандармы, которые сейчас в Корольцах. За вами приехали. Вчера. Ждали, когда вернётесь. А я сюда поспешил. Чтобы предупредить вас. – Последние слова он проговорил тихо, участливо. Сел на кушетку, жестом руки пригласил сесть и Соколовского. Тот присел. – В Корольцы приехали ротмистр Бываленко и незнакомый в гражданском платье, назвался Брантом, – рассказывал Богушевич. – Думаю, что они все ваше жильё уже обшарили.
Глаза Соколовского застыли, погасли, губы побелели.
– Вам, Сергей Миронович, нужно спасаться.
– Выследили, – сказал Соколовский с жёсткой усмешкой и стукнул себя кулаком по колену. – Вынюхали.
– Вы – Силаев? – спросил Богушевич. – Которого ищут? Бывший корнет, служили в Вильне?
– Силаев, – спокойно ответил тот, – и мы с вами, Франц Казимирович, уже встречались.
– Да, встречались.
– В Вильне, у пана Шней-Потоцкого, у которого была красавица-дочь Ванда.
– Была такая.
– И в Августовских лесах, недалеко от Сувалок. Цыганский табор помните?
– Не забыл. И благодарен вам, Сергей Миронович.
– Из тех, влюблённых в Ванду, запали в память вы и Зигмунд Минейка.
– На каторге был Зигмунд. – Богушевич встал, встал и Соколовский. Стояли, глядели друг другу в глаза, словно проверяли, не ошиблись ли они, было ли все это на самом деле.
Глубокая тишина, воцарившаяся в доме, придавила их троих такой тяжестью, что они даже ссутулились, точно и правда им лёг на плечи реальный груз. Богушевича охватили воспоминания, словно молнией осветившие то далёкое, трагичное время, разбередили сердце. Его сковало оцепенение, связало все тело. Пережитое, вспомнившееся теперь, все вытеснило, изгнало из души, осталась одна пустая оболочка, как остаётся пустая куколка, когда из неё выведется гусеница.
Вспомнилось все подробно и ясно, и вместе с воспоминаниями вернулись былые чувства – боль, страх смерти и отчаяние… За одну минуту то далёкое прошлое промелькнуло у него в голове.








