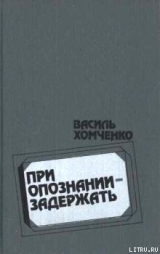
Текст книги "При опознании — задержать"
Автор книги: Василий Хомченко
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
В четверг Богушевич пришёл на службу поздно, в одиннадцатом часу. Помогал по дому Габе, играл с Туней. Девочка ни за что не хотела отпускать отца. Сказку ей рассказал, стишки прочитал, поиграл на гитаре. Она и сама потренькала, да не просто так дёргала струны, а играла, ухватив за хвостик какую-то мелодию, скорей всего ею же и сочинённую. И голосок у неё сильный, и слухом бог не обидел. Богушевич давно уже это заметил. Не раз проверял её способности. «Туня, а ну повторяй за мной», – говорил он и запевал: «На веники наломаю белую берёзу. Ой, люли, ой, люли, белую берёзу». И Туня с серьёзным видом, старательно – чтобы вышло получше, точно повторяла мелодию. Франтишек говорил Туне, что когда она вырастет, он купит ей фортепьяно. Он действительно намеревался учить её музыке, раз есть у неё дар божий. Радовался Франтишек способностям дочки и гордился ею – в него пошла, ничего не скажешь, и голос хороший, и слух.
Только отпер свой кабинет, как вошёл делопроизводитель Давидченко. Его давно не мытые длинные волосы лоснились, висели отдельными прядями. Первое, что он обычно рассказывал при встрече, были анекдоты. Вот и теперь, поздоровавшись, начал с этого.
– Франц Казимирович, новый анекдотик про суд. Умора… Значит, так… К мировому приходит по вызову подсудимый мужик и приносит огромный кол. Судья спрашивает, зачем он пришёл с колом. Мужик отвечает: «А мне адвокат сказал, чтобы у меня в суде были средства защиты». – Сам захохотал и даже обиделся на Богушевича, что так равнодушно отнёсся к анекдоту.
– Что сегодня за почта? – спросил Богушевич.
Давидченко вынул из принесённой под мышкой папки бумагу, подал её Богушевичу.
– Отношение из жандармского управления.
Это было уведомление жандармерии о розыске опасного государственного преступника, бежавшего из тюрьмы. Уведомление было размножено губернской полицией и разослано по станам и участкам. Этот преступник находился в подследственной тюрьме по обвинению в принадлежности к террористической группе революционеров-народников, изготовлял взрывчатку и хранил её у себя на квартире, обеспечивал террористов бомбами. Он со своими соучастниками готовил убийство высоких государственных чинов. Имя его – Силаев, Сергей Андреевич, бывший офицер, корнет, служил в кавалерийском полку, дворянин, возраст – сорок лет, награждён за участие в боевой кампании, ушёл с военной службы по собственному желанию. Не женат. Было дано и описание внешности: рост выше среднего, волосы темно-русые, лицо продолговатое, сухощавый. Особых примет нет. Сообщалось, что, на основании некоторых данных, преступник может скрываться в одной из Малороссийских губерний – Киевской, Полтавской, Черниговской. В бумаге предписывалось жандармским и полицейским чинам проверять всех лиц, прибывающих в их местность, требовать у них документы и, если такое лицо вызовет у них подозрение, учредить за ним слежку и наблюдение. В случае опознания – задержать на месте и уведомить ближайшее жандармское управление…
– Бомбометателя ищут, – с усмешкой сказал Давидченко. – Только бумагу переводят. Что ему тут у нас делать? Да и как ему тут жить у всех на глазах, когда у нас в Конотопе все друг друга знают. Он уже давно – фью, ищи ветра в поле, в Финляндии или Англии. – Давидченко повернулся, чтобы уйти, да вспомнил: – Франц Казимирович, вчера вечером, когда вас не было, заходил Кабанов, спрашивал, поехали ли вы в Корольцы, поджог расследовать.
– Сам знаю, когда мне ехать.
– Велел, чтобы ехали немедленно.
– А это уж как управлюсь, – самолюбиво сказал Богушевич. Настроение испортилось. Сколько же можно подгонять да подсказывать, где и чем ему, Богушевичу, заниматься. Он же следователь и имеет свои права, свои обязанности, сам себе голова, и эти мелочные подсказки, поучения, требования только раздражают и мешают работать. Богушевич, однако, не хотел обострять отношения с Кабановым, так как понимал, что товарищ прокурора не из-за каких-то особых причин или неприязни к нему так себя ведёт – просто он ревностный чиновник, службист, за бумагами и буквой закона не видит человека. Рвение его направлено на пользу службе, он уверен, что в его обязанности входит постоянно учить и контролировать подчинённых. Кабанов ценил Богушевича как следователя, ставил его высоко, поручал сложные дела. А как к человеку относился с недоверием, руками разводил: не тем он занимается, стихи вон пишет, романы читает, эва, сколько книжек навыписывал и накупил. Как это – следователь, а пишет стихи? Зачем? Значит, не служба ему главное, а рифмоплётство… Тому, кто привык равнять всех на свой салтык и имеет чёткое воззрение на то, каким должен быть чиновник, трудно вообразить себе человека с иными интересами, помимо служебных, особенно если это интересы творческие. Значит, он не такой, как все, белая ворона. Было уже однажды, что, выговаривая Богушевичу по службе, Кабанов сказал: «Сударь мой, Франц Казимирович, это в своей поэзии вы можете творить, что хотите, а тут нельзя. Тут нормы закона, не размахнёшься». Сказал вроде бы благожелательно, с весёлой, добродушной улыбочкой, а Богушевича за живое задел.
Давидченко топтался возле стола, то и дело откидывал волосы, сползавшие на лоб, усмехался, потирал руки – не терпелось рассказать ещё один анекдот.
– Как соберусь, так и поеду. Увидишь Кабанова, так и передай, – сказал Богушевич Давидченко. – А теперь иди, не топчись здесь, анекдот потом расскажешь.
– А мне что? Как желаете. – Делопроизводитель повернул к дверям, согнул длинное, худое тело, чтобы пройти, не стукнувшись о притолоку, на пороге остановился, засмеялся, видно, тому анекдоту, что хотелось рассказать, и вышел.
Богушевич снова начал перечитывать предписание жандармского управления. Прочитал, задумался… Бежал из тюрьмы преступник. Невероятно. Один, без помощи единомышленников, из Владимирской тюрьмы не убежишь. Значит, помогали… Офицер, дворянин – и революционер. Что привело его к революционерам? Богушевич слышал в общих чертах об этих революционерах-народниках, знал, что их цель – вооружённая борьба с царём, хотят заставить его отречься от трона в пользу народной власти. Слышал и о том, что одни народники – за террор, другие – за пропаганду в народе. Богушевич симпатизировал им, ценил их за смелость, за то, что посвятили себя борьбе, отказавшись от личных житейских благ. Но не принимал их разумом, особенно революционеров-террористов. Кидать бомбы в какого-то, пусть высокого чиновника, правителя, чтобы запугать других чиновников, – пустая затея, опасный и варварский способ. Убьют одного, а другой, который станет на его место, возможно, будет ещё более жестоким и неумным. И народ осуждает террористов, не идёт за ними, боится их, проклинает… Агитировать крестьян, поднимать на всеобщее восстание – тоже мало толку. Ну, положим, взбунтуются при особых обстоятельствах, а пообещай им прирезать земли – и бунту конец, бунтари бухнутся на колени, покаются. Вера в доброго царя-батюшку ещё очень сильна в народе. Крестьяне думают, что царь просто не знает про их горе и нищету, все это будто бы скрывают от него злыдни-чиновники…
Думая так, Богушевич жалел и террористов-революционеров, и пропагандистов, взваливших на свои плечи опасную ношу. Плоды их борьбы не видны, вся их жизнь – лишь жертвы и муки. Встряхнуть и разрушить царский трон, самодержавие с его армией – невозможно, те же самые мужики в солдатских мундирах пойдут – и идут – усмирять бунтовщиков. Богушевич вспомнил шестьдесят третий год… Не поднялось же тогда крестьянство на бой, хоть и звали его бороться за землю и волю. Собрались лишь небольшие отряды, а рассчитывали создать мужицкую армию. Хорошо помнит он и свой приход в отряд. Явился на место сбора, где, как ему говорили, должно было сойтись несколько сот повстанцев, и застал всего с полсотни кое-как вооружённых людей. Да и тех после половина осталась. Многие крестьяне, особенно православные, так и заявляли: «Не пойдём против царя-батюшки, он нам волю дал от панов. А бунтуют паны-поляки, не хотят землю отдавать мужикам». Восстание, не поддержанное крестьянами, захлебнулось, не пошло дальше западных губерний.
Не так давно, будучи в Чернигове, случайно познакомился с молодым московским студентом, и тот доверчиво признался Богушевичу, что «идёт в революцию». Был с ним длинный дружеский разговор, были споры. На вопрос Богушевича, верит ли тот сам, что возможно завоевать народовластие, студент ответил: «Не верю, но надо же что-то делать, надо всколыхнуть Россию, народ, вбить людям в голову, что есть борцы, которые ведут их к воле и счастью. Взбудоражить их, заставить протестовать, бунтовать, а не терпеть, как быдло, издевательства. Пусть бунтами ничего не завоюешь, но чем больше будет этих бунтов, тем скорее наступит всеобщая революция. А мы, революционеры, идём первыми, идём на смерть. Пусть мы сгорим в огне революции, зато осветим дорогу народу и пламенем наших сердец возжжём надежду на лучшее будущее». Сказано было с пафосом, но искренно, было видно, что студент готов пойти на каторгу и даже на смерть. А был этот юноша из весьма богатой сановной семьи, а не какой-нибудь вечно голодный, бедный, как церковная крыса, разночинец.
– Если нет смысла сейчас бунтовать, что все-таки делать тем, у кого болит за народ сердце? – сам себя спросил вслух Богушевич. И задумался, забыв, что его ждут судебные дела, служебные бумаги, на которые нужно немедленно отвечать. – Может, действительно, правы те, кто утверждает, будто все изменится само собой. Есть революция и есть эволюция. Как нельзя приблизить рождение ребёнка – отпущенный для этого природой срок не сократить, – так нельзя ускорить развитие общества. Постепенно все наступит само. Становится все больше и больше образованных людей, в деревнях открываются школы, больницы, богадельни, приюты для сирот. Идут в университеты разночинцы и даже дети кухарок. Сильнее стала промышленность, строятся фабрики, заводы, железные дороги. В вольные сибирские края едут малоземельные крестьяне, из некоторых деревень половина переселилась. То, что вчера было запрещено законом и моралью, сегодня дозволено. Не сравнить же порядок и режим, которые были пятьдесят, даже тридцать лет назад, с теперешним, хотя строй тот же самый – царский. Законы установлены такие, о каких при Николае Первом только мечтать можно было: Судебное уложение, Уложение о наказании… Суды присяжных. Многие нормы этих законов останутся и в будущем, когда на смену самодержавию придёт народная власть. Но нам-то что делать – сидеть и ждать? Ждать, пока все само изменится к лучшему?
Богушевич встал, вышел из-за стола, подошёл к окну, взглянул на посаженную им берёзку, словно ожидал от неё ответа. Берёзка молчала, не шелестел ни один листок, стояла тихо, словно стыдясь, что не может ответить ему.
– Стоишь, детка, молчишь, – усмехнулся Богушевич. – Что тебе до моих думок и тревог. Вырастешь большая, выше дома. Век у вас, у берёз, долгий, ты ещё дождёшься великих перемен и хорошей поры. Только какая тебе разница, хорошо или плохо живёт народ на этом свете.
– Народ, народ… А что такое – народ? – задумался Богушевич. – Народ – это объединение отдельных людей. Он складывается из конкретных личностей – меня, Параски, Серафимы, бондаря, царя, Кабанова, министров… Значит, служить народу – это служить конкретному человеку, любить его? Любить ближнего – такая заповедь есть и в христианстве. Не таить зла на врага своего, прощать ему грехи его и перед богом, и перед людьми. Гуманная заповедь, добрая, только, положа руку на сердце, кто её исполняет, кто следует ей по велению души? Лишь в притчах это и видишь, вроде того, как старец-пилигрим, когда грабитель все у него отобрал и его избил, крикнул ему вдогонку: «Сын мой, не иди по этой дороге, там каменья острые, ноги побьёшь». Красивая притча, христианская, так и должно быть, если любишь человека и прощаешь ему грехи его. Только вот встретишь ли такое среди реальных людей? А ведь встретишь.
Богушевич вспомнил вчерашний случай, и сердце больно кольнуло. Муж убитой Параски Степан кормил на крыльце своих детей и, увидев Серафимину дочку, глядевшую на них из-за плетня голодными глазами, покормил вместе со своими. Конечно, делая это доброе дело, Степан и не помышлял о том, что исполняет христианскую заповедь, доброта его природная, свойство характера.
Порядок в государстве, думал Богушевич, – все, и плохое, и хорошее, что выпадает людям, зависит от них самих, а не от бога. Нет более великой силы в отношениях между людьми, чем доброта, сострадание, готовность помочь другому, поделиться последним, желание облегчить страдание ближнего. Представь себе, вдруг все люди, начиная с царя и до последнего бедолаги-батрака, стали честными, справедливыми и добрыми. Цель каждого – не нажиться за счёт другого, а поделиться лишним. Как бы изменилась тогда жизнь, расцвели люди, побогатели духом! Не было бы тогда преступлений, не понадобились бы ни следователи, ни суды, а на тюрьмах висел бы замок и белый флаг… Расчудесно было бы!
– Расчудесно было бы! – повторил Богушевич вслух и хлопнул ладонью по столу, по тем бумагам, которыми должен был заниматься. И сразу опомнился – черт знает о чем думает, философствует. Глупости все это, голубчик, фантазии. Люди за сотни тысяч лет не подобрели и равными не стали и ещё за тысячи лет не изменятся. Нет на свете равенства. Даже козявки одна другую пожирают. А в лесу деревья разве друг с другом вровень растут? Казалось бы, бог каждому дереву дал волю, а вон же, все они разные. Одно до неба достаёт, а другое гибнет в тени этого высокого…
Наконец он стряхнул с себя эти тяжкие мысли и фантазии и стал прикидывать, что ему нужно сделать по службе в первую очередь. В дверь стукнули, тихо, несмело. Он крикнул, чтобы входили. Дверь приоткрылась, просунулась голова в чепце и повязанном поверх него платке.
– Паночку, можно?
– Заходите, пожалуйста. Я вас вызывал?
– Вызывали, паночку.
Женщина переступила порог и бухнулась на колени. Ещё не старая, а волосы, выбившиеся из-под платка, седые. Лицо осунувшееся, бледное.
– Паночку, родненький, – запричитала она, – за что меня сюда притащили? Как перед богом говорю, невиноватая я.
Богушевич торопливо подошёл к ней, поднял с пола.
– Встаньте, я не собираюсь вас в тюрьму сажать. Спрошу, что надо, и пойдёте домой.
– Ой, спасибо, паночку, – женщина схватила Богушевича за руку, успела поцеловать и села на стул, подставленный ей Богушевичем.
От этого поцелуя ему стало неприятно, стыдно.
– Кто вам сказал, что вас в тюрьму посадят? За что?
– Так если вы привели к себе, не к добру же это.
– Я вас вызвал как свидетельницу по делу Параски Картузик.
– Паночку, ничего я Параске не делала. Невиноватая я. И перстень её мне не нужен.
– Вот про это вы мне и расскажите. Ваша фамилия?
– Пацюк. Катерина, а по отцу Герасимовна. – На коленях она держала узелок, обхватив его обеими руками. Богушевич занёс в протокол все её данные, предупредил, что говорить она должна только правду и все сказанное тут обязана подтвердить на суде под присягой. Катерина, напуганная этим предупреждением, сползла со стула и снова брякнулась на колени.
– Паночку, дети же у меня.
Богушевич рассердился, чуть было не накричал на неё, да знал, что криком ещё больше напугаешь.
– Екатерина Герасимовна, – сказал он как можно мягче, – вы не в церкви, и я не икона, чтобы на меня молиться.
Она встала и, протянув вперёд руки с узелком, подошла к столу, с низким поклоном положила узелок перед Богушевичем.
– Паночку, гостинец вам. Родненький, я же невиноватая.
– А это что? – показал он на узелок.
– А сало и ветчинки кусочек.
– Заберите. У вас что, некому есть ветчину? У вас её слишком много?
– Откуда много… Детей четверо.
– Вот и отдайте детям. – Богушевич силком сунул узелок ей в руки. – А мне ваше сало не нужно.
Строгость, с которой он сказал эти слова, и сердитое лицо Богушевича снова насторожили и напугали Катерину. Она сжалась и, не сводя глаз с пана следователя, стала пятиться к стулу; присела, готовая вскочить и упасть на колени. Богушевич сердито сказал, чтобы сидела и не вставала. Спросил, что она знает про Серафиму и Насту.
– А ничего не знаю.
– Как же не знаете, жили по соседству, каждый день виделись, говорили. Что они за женщины, как относились к Параске?
– А никак, паночку, не относились. Параска сама по себе, Наста и Серафима сами по себе. Серафиму и Насту вы же в тюрьму посадили, дети без матери остались. Трое.
– Так и у Параски тоже трое сирот осталось.
Катерина перекрестилась, глядя поверх головы Богушевича в угол, сказала:
– Так Параска-то мёртвая, что с неё возьмёшь? А те две живые, вы живых в тюрьму. Зачем?
– Они убийцы. Человека ни за что убили. Понимаете, у-би-ли!
– За перстень.
– Он стоит копейки. Рублей пять, не больше.
– Ого, копейки. Я у Иваненки за тридцать копеек целый день горб гну.
Логика Катерины не удивила и не возмутила Богушевича. Люди с таким уровнем развития встречаются при разборе каждого дела. Логика забитого, тёмного, ограниченного человека, не способного воспринимать чужое горе.
– Ну, а вы за пять рублей убили бы? – спросил он. – Ту же Параску задушили бы за перстень?
Катерина всплеснула руками, острый носик её побелел, она быстро перекрестилась.
– Свят, свят… убить. И за мешок золота не убью.
– А вот они убили. Как же их в тюрьму не посадить?
Из показаний Катерины Богушевич узнал, что убитая и убийцы жили между собой в мире, ссужали друг друга солью, деньгами, бывало, и ссорились и мирились, ходили в гости. Тихо жили, по закону, исповедовали православную веру.
– А что ещё знаете по этому делу? Что ещё можете рассказать?
– Так все я рассказала, паночку. Что вам от меня надо, чего мучите, смилуйтесь. Ничего я не знаю. Не я убила Параску, я там и близко не была.
– Не мучаю я вас, а хочу, чтобы вы рассказали про Серафиму и Насту и про все, что знаете, а вы не хотите говорить.
– Боже, так я и думала, что вы про седло дознаетесь. Про это проклятое, поганое седло, чтоб оно сгорело! Чтоб у него, моего сыночка, руки отнялись, когда он то седло брал, чтоб черт его напугал…
Богушевич удивлённо и недоуменно поглядел на Катерину.
– Про какое седло вы говорите? Не понимаю вас, Екатерина Герасимовна. При чем тут седло?
– Все вы, пан, понимаете, все знаете. На то вы и учены, чтобы все знать. Мой сын Антипка гостил в Корольцах да и привёз оттуда седло. Говорит, в кустах нашёл.
«А ведь из конюшни Глинской-Потапенко действительно пропало седло, – вспомнил Богушевич. – Так, может, это оно и есть».
– Так прямо из Корольцов и приволок седло? – спросил Богушевич нарочито равнодушным тоном, словно это его совсем не интересовало. – А зачем ему седло?
– Вот и я ему говорю: на что тебе седло? Ты что, жёнку свою оседлаешь, как оженишься, скакать будешь на ней?
– Новое седло, хорошее?
– Куда там. Старое. Врёт, негодник, что нашёл в кустах. Разве седло потеряешь? Это ж не шапка, не кошелёк с деньгами, что можно с пьяных глаз уронить. Вот мой муженёк пошёл к портному кожух купить, а вернулся и без денег, и без кожуха. Потерял, говорит…
– Где оно теперь, седло это?
– А у нас на чердаке, в соломе, – сказала они тихо, как по секрету, подавшись вперёд. – Говорю: спрячь, дурень, чтоб люди не видели… Ну вот, паночку, и все про седло. А про Серафиму и Параску я тоже все рассказала.
– Что ж, спасибо и за это. – Богушевич молча, на отдельном листе записал то, что она рассказала ему про седло, потом спросил: – А как же ваш Антипка это седло домой притащил? На плечах? Путь неблизкий.
– На каких плечах? Брат мой Симон привёз на телеге.
– Симон, брат ваш? А фамилия его?
– Иванюк. Он меня старше, в Корольцах живёт. Я ж оттуда замуж в Конотоп вышла. Паночку, а на что вы это все записываете?
– Да так, чтобы знать фамилию вашего брата Симона.
До неё что-то дошло, заподозрила недоброе, острый носик побелел, глаза слезливо заморгали.
– Так это я, дурная, вон что вам наговорила, теперь Антипку и Симона посадите… – Растерянная, напуганная, Катерина заплакала.
Богушевич подошёл к ней, стал успокаивать.
– Послушайте меня внимательно, – дотронулся он до её плеча. – Про седло никому не говорите… Лежит на чердаке в соломе? Ну и пусть лежит. Понадобится – заберём. А так никто не должен о нем знать. Только не вздумайте продавать его. Ладно?
Катерина вытерла глаза фартуком, перестала плакать, молча закивала головой.
– Не станем продавать, не станем. Только не забирайте Антипку.
– Да не заберу я его. А теперь подождите, пожалуйста, в коридоре. Я вас потом вызову.
Катерина встала и кинулась к дверям.
Оставшись один, Богушевич достал из папки докладную исправника о пожаре, жалобу Глинской-Потапенко, объяснения, взятые становым у дворовых имения. Как указано в деле, сгорела упряжь на шесть лошадей и разный инвентарь. А седло, по словам конюха, исчезло ещё до пожара, хотя и в тот же вечер. Конюх не увидел его на месте, но помещице о том не сказал, думал, что она распорядилась его убрать. В тот самый день, как сказала Катерина, Антипка гостевал у дядьки в Корольцах… Все сходится, можно сказать, воры и седло найдены. Осталось найти причину пожара. Из разных объяснений видно, что конюшня загорелась изнутри, никого из работников там в этот момент не было. Выходит, поджёг кто-то чужой. Не умышленно, по неосторожности? Но что было делать вечером чужому человеку в конюшне? Может быть, искал что-нибудь, светил себе спичкой, солома и вспыхнула? А вором мог быть тот же Симон. Разгадка элементарно проста.
Богушевич даже улыбнулся – уж больно легко все распуталось. Ну, а если бы Катерина по неразумению не рассказала ему про украденное седло, не выяснил бы он, что оно спрятано у неё на чердаке? Что ж, бывают дела, при выяснении которых невероятно везёт следователю. Как в Нежине, при расследовании одного убийства. Подняты были на ноги следователи, полиция, врач, а убийцу найти не могли. И вдруг трехлетний ребёнок убитой женщины возьми и скажи: «А маму зарезал дядька Игнат и нож свой туда в скрыню кинул. А потом дядька Игнат плакал». Игнат был полицейским того околотка…
Богушевич написал приставу, чтобы тот с понятыми, оформив все, как положено, без особой огласки и шума забрал седло у Пацюков, а Антипа Пацюка прислал к нему в участок.
«Вот и хорошо», – радовался Богушевич, что так удачно началось расследование, конец ниточки сам попал в руки. Стукнул в стену, позвал Давидченко, велел послать курьера с запиской к становому.
– А курьер в бегах. Я его к Потапенко отправил. Алексей Сидорович почему-то не пришёл. Может, захворал. – Его тонкие губы кривила неприятная ухмылка, глаза плутовато бегали, стараясь уклониться от встречи с глазами Богушевича. – Я сам отнесу. Иду обедать, мне по дороге. – И вышел, читая на ходу бумагу.
Богушевич решил Катерину пока что не отпускать, а то пойдёт, одумается и перепрячет седло, да ещё и Антипку подучит, как и что отвечать следователю. Позвал её из коридора в кабинет, стал спрашивать про разные разности, только чтобы не молчать, – пусть думает, что пану следователю интересно её слушать.
– Хорошая осень стоит, – говорил Богушевич. – Тёплая, солнечная. Тыквы у вас хорошие уродились? А бураки? Ну, и славно, Екатерина Герасимовна. А Антипка в школе учился?
– Учёный Антипка, – повеселела Катерина. – Три года учился.
– А в шинок ходит?
– Паночку, кто ж из парней не ходит? Кто ж из них не любит горилки? Вы же тоже не прочь выпить и в шинке посидеть. Вчера же сидели.
«Ну и ну, – передёрнул плечами Богушевич. – Раз в год заглянешь к Фруму, и весь город знает. Ну и город».
Богушевич заметил, что Катерина была без узелка. Неужели оставила в коридоре? Спросил об этом.
– Паничу отдала. Сказал, что с вами поделится.
– Этому длинному, патлатому, что только что был здесь?
– Ага. Он сказал, что вы сами не возьмёте, боитесь, так он вам отдаст.
«Хапуга, негодяй, – возмутился Богушевич, – никогда своего не упустит, взяточник». Быстро вышел из кабинета, думая застать Давидченко в канцелярии, но двери были заперты. Вернулся сердитый, сказал Катерине:
– Как воротится этот панич, я его с вашим салом отправлю к вам. Домой принесёт.
Посидели ещё немного, поговорили. Богушевич, решив, что становой уже получил его бумагу и послал людей в дом Катерины забрать седло, наконец отпустил женщину.
Однако седло по-прежнему лежало у неё на чердаке. Давидченко сказал, что не застал пристава на месте.
А Потапенко на службу так и не явился. Может, и правда заболел. Нужно будет вечером его проведать.








