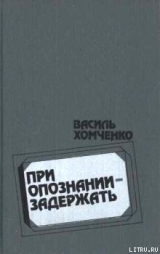
Текст книги "При опознании — задержать"
Автор книги: Василий Хомченко
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
ГЛАВА ВТОРАЯ
Двор и дом, где убили Параску Картузик, находились на самой дальней окраине города, фактически за городом – в Обручевке, возникшей после крестьянской реформы. Там, в мазанках, крытых соломой и камышом, жили до злосчастного часа убийцы и их жертва. Там же стоял кирпичный дом вдовы коллежского асессора Гамболь-Явцихенко, которая сдавала меблированные комнаты со столом одиноким жильцам. Туда и пригласил становой Богушевича с понятыми. В Обручевку ехать надо было через весь город.
Сперва урядник вёз Богушевича по Путивльской улице – самой широкой и длинной в городе. Здесь были лавки, трактиры, учреждения, пожарная часть с каланчой, лабазы купцов. По этой же улице проходил столбовой тракт, и потому мостовая была ещё больше разбита, чем на других улицах. Выбоины, глубокие колеи чернели со всех сторон. Богушевич сел рядом с урядником, тот, почтительно отодвинувшись, чтобы не задеть пана следователя, жался на самом краю сиденья, и его сабля свисала с дрожек и стукалась об обод колёса.
Был конец сентября, стоял тёплый солнечный день. Запах спелых яблок, слив, хлебов, сена, клочья которого валялись на дороге, втоптанные в землю колёсами и копытами, – запах ранней осени заполонил улицу да и весь город. Осень наступила на редкость солнечная. Видно, год, устыдившись поздней холодной весны и дождливого лета, старался исправиться, угодить людям. Улица ещё не высохла от недавнего дождя, в глубоких колеях там и тут блестела вода. В садах и вишняках перед домиками земля под деревьями была пёстрая от света и теней, как кожа змеи. Через плетни свисали ветви яблонь, тяжёлые от плодов, в одном месте, когда проезжали возле самого забора, сбили несколько яблок.
– Ваше благородие, муж Серафимы приходил в участок, просил платок ему отдать.
– Какой платок? – не сразу понял Богушевич.
– Ну тот, которым Серафима с Настой Параску удавили. Говорил, ещё женихом его покупал. Становой не отдал.
– И правильно, – буркнул Богушевич.
Миновали кирпичный дом с большой, на всю стену, надписью: «Магазин колониальных товаров купца Иваненко. Чай, какао, растительное масло, керосин». Возле распахнутых настежь ворот стояли два приказчика с ленивыми, сонными лицами и так же лениво смотрели на женщину в пышной юбке, с зонтиком над головой, подходившую к лавке. Носик погрозил приказчикам пальцем.
– Видали, ваше благородие? Выползли на улицу на баб глаза пялить, – объяснил урядник свой жест. – Знаю я их, жульё, на ходу подмётки рвут.
Выехали на Загребелье. Повернули в тихий, заросший травой переулок. Переулок узкий, заборы низкие – частокол из аккуратных тонких досочек и жердей, и дома не все мазаные, есть и бревенчатые и даже два кирпичных. Один дом, тот, с черепичной крышей и высоким чердаком, хорошо знаком Богушевичу. Тут живёт Потапенко, не раз приходилось у него бывать. Половину дома занимает жена управляющего имением матери Потапенко. Сам управляющий, Соколовский, живёт постоянно в Корольцах, хотя часто сюда приезжает, а жена почему-то осталась тут, в Конотопе. Это удивляло Богушевича, но он так и не собрался расспросить Потапенко.
– Стой, тпру! – Носик остановил коня, затем соскочил с дрожек, подошёл к воротам Потапенкова дома.
– Эй, хозяйка, откройте, можно вас на минутку? – И он постучал ножнами сабли по плетню.
На крыльце показалась молодая, высокая, ярко-рыжая женщина в красном сарафане, вышла за ворота. Это и была жена управляющего Нонна Николаевна. Богушевич и раньше с ней встречался, разговаривал, правда, коротко, на ходу, когда заходил к Потапенко. То были даже не разговоры, а обычные в таких случаях вопросы о здоровье и настроении. Его всегда поражали, восторгали её красивые, рыжие, как огонь, волосы – казалось, пламя полыхает на голове.
– Добрый день, – поздоровалась она высоким гибким голосом и насторожённо, даже тревожно стала переводить взгляд с Богушевича на урядника.
– Тут, пани-госпожа, – заговорил Носик, – его благородие становой велел мне спросить у вас, не приехал ли ваш муж, управляющий. Пристав интересуется насчёт пожара.
– Нет, не приехал, – сказала Нонна Николаевна, и насторожённость исчезла из её глаз. – А господину следователю тоже понадобился мой муж? – спросила она у Богушевича.
– Пока нет, но понадобится. А когда он тут будет? Хорошо бы мне с ним встретиться до поездки в Корольцы.
– Он должен приехать сегодня или завтра, и я обязательно ему скажу.
– Вот-вот, скажите, – подал начальственный голос и Носик. – И неплохо было бы, кабы пани нас яблоками угостила.
– Это, пожалуйста, – улыбнулась она. – Так, быть может, господин следователь в сад зайдёт?
– Благодарствую, некогда. Поехали, – сказал Богушевич уряднику.
Нонна Николаевна обняла себя скрещёнными руками за плечи, стояла, ждала. Носик, словно и не слышал, что ему сказал Богушевич, за вожжи не брался. Ясное дело, дожидался яблок. Тогда Нонна проворно вбежала в ворота, крикнула, чтобы погодили, и вскоре вынесла корзинку антоновки, высыпала её прямо в дрожки. Когда тронулись, на прощанье помахала рукой.
«Вот наделил же бог такой яркой прелестью», – восхищённо подумал про неё Богушевич. Ещё при первом знакомстве с Нонной он увидел, какая в этой молодой женщине кроется богатая энергия и решительность, и в то же время какая она по-женски слабая и внутренне ранимая, незащищённая, как она насторожена (вот и сейчас так же), с каким неприкрытым страхом в больших синих глазах встречает незнакомых людей, когда те входят в дом, как нервно, чуть приметно вздрагивает при этом её длинная шея. У Богушевича создалось впечатление, что Нонна ждёт от каждого человека какого-нибудь неприятного или даже страшного известия.
– Ваше благородие, – перебил его мысли урядник, – значит вы будете расследовать дело о поджоге? А вы знаете, что там бомбу взорвали? Террористы.
– Что-что? – повернулся к нему Богушевич. – Террористы взорвали бомбой конюшню? Такой важный государственный объект? – И не выдержал, засмеялся. – А откуда у нас взялись террористы?
– Зря насмехаетесь, ваше благородие, – обиженно проговорил Носик. – Если я малограмотный, так думаете – дурак? И я книжки читаю, хоть гимназий не кончал. Про Бову Королевича читал. Евангелие перед сном. Книжки люблю. А что бомбой взорвали, так то люди говорят.
Богушевич не стал больше спорить с урядником, убеждать его, что все это бабьи сказки. И тут же стал думать о чем-то ином. Но Носик не отступался.
– Вот вы не верите, – сказал он все так же обиженно, – а из Петербурга бумага пришла, что ищут террориста, который убежал из тюрьмы. Может, он как раз в нашем уезде и прячется. Кто знает.
До Обручевки было уже недалеко. На этой улице стояли обыкновенные деревенские хаты – и старые бревенчатые, и белёные мазанки. Носик, чтобы не молчать – это было для него невыносимо, – рассказывал о хозяевах тех домов, мимо которых они проезжали.
– Вот тут, – показал он пальцем на чистенькую мазанку, – живёт студент. Только теперь он не студент, а высланный из Петербурга.
– А за что его выслали?
– Бунтовал против начальства. А разве бунтовать полагается? Разве оно, начальство, их глупей, студентов? Учёные же профессора. Их надо уважать. Скажем, вы, ваше благородие, и я. Вы вон лицей кончали, а я? Три зимы в школу ходил. Как же мне бунтовать против вас или против своего пристава? Разве я вас грамотней, ваше благородие?
– Да перестань ты, – не стерпел Богушевич. – Зарядил: ваше благородие да ваше благородие.
– А вон там, – пропустив мимо ушей его слова, показал Носик на другую хату, – живёт вдова. У неё трое сыновей. Двух осудили, и они пошли по этапу в Сибирь. Один – мешочник, другой – рыболов.
– Как это «рыболов», – не понял Богушевич. – Рыбу ловит? Рыбак?
– Нет, на воровском языке рыболовами называют тех, кто срезает чемоданы с задков карет. Прицепится к задку, обрежет да тикать. А мешочник, или мешкопер – это уж самый последний, самый подлый вор: он у крестьян с возов мешки и торбы крадёт… Они же, все эти каторжники, воры и жулики, говорят на своём языке. Неужто вас этому в лицее не учили?
– Нет, не учили.
– А знать надо, а то будете слушать, что они говорят, и ничего не поймёте. Я же вот знаю. – Носик самодовольно усмехнулся, расправил плечи – хоть в этом почувствовал свой перевес над паном следователем. – Шкары – что такое? Не знаете. Штаны это. Кошелёк – лапотник… Голубятники – воры, что работают на чердаках. Похоронщики крадут в домах, где лежат перед отпеванием покойники. Марушники – на похоронах. Стекольщики залезают через окна, а дворники входят с парадного входа… Мойщики обкрадывают пассажиров в поездах. Понтачи собирают толпу каким-нибудь скандалом и очищают карманы раззяв. Клюквенники – церковные воры. Есть и хипесники, те обкрадывают гостей своих полюбовниц. И ещё есть разные…
– Интересно, – сказал Богушевич, и ему действительно было интересно.
– Послужите больше, все будете знать, ваше благородие.
Обручевка отделялась от города болотом и неглубоким оврагом, на дне которого поблёскивало заросшее камышом и осокой озерцо. Впритык к озерцу стоял тот самый дом вдовы коллежского асессора, где должны были ждать судебного следователя пристав и понятые. Немного подальше виднелась низенькая мазанка с одним оконцем на улицу; вместо двух стёкол в окне висело какое-то тряпьё. Богушевич уже был в этой нищенски убогой хате, мало похожей на человеческое жильё, и с облегчением подумал, что теперь заходить в неё не нужно.
Проехав ещё немного, Носик на ходу лихо соскочил с дрожек, остановил коня и протянул руку Богушевичу, чтобы помочь ему слезть. Но Богушевич не воспользовался его помощью, спрыгнул сам, пружинисто и легко.
Из двора вдовы Гамболь-Явцихенко вышли становой с бабьим, немного одутловатым лицом и два бородатых мужика с бляхами сотских на груди – понятые. Становой сказал, что разрешил передать в камеру Серафиме её дитя – грудное, его надо кормить. Богушевич поздоровался со становым и понятыми, те вытянулись перед ним по-солдатски. Ему надо было вычертить схему места преступления на дворе Серафимы. Двор этот был впритык ко двору Параски, делились они низким плетнём, который можно было просто переступить. Понятой отворил сплетённую из лозы калитку, и все вошли с улицы во двор. Дворик – типичный для всех здешних мест. Ходили серые куры и цыплята, что успели вырасти за лето, пахал рылом землю чёрный поросёнок. Сушились на кольях ограды жбаны и макитры. Гревшийся на солнце чёрный кот соскочил с завалинки, перебежал дорогу перед становым и сиганул на стреху небольшого хлева.
– Черт, чтоб ты сдох, брысь! – топнул на него становой, но кот так и остался сидеть на стрехе, всем видом своим показывая, как он доволен тем, что так ловко сделал тому гадость.
Выглянул из хлева чёрный пёс, тявкнул и, виляя хвостом, шмыгнул назад.
На двор из дома вышла вся в чёрном – чёрная душегрейка, чёрная юбка и чёрный платок поверх чепца – дряхлая, маленькая, сгорбленная старуха со свёртком под мышкой. Остановилась во дворе, взглянула на всех так, будто никого перед ней не было, встряхнула свёрток – это была чёрная постилка – и повесила на забор.
«Как нарочно все под один цвет подобралось, будто на похоронах, – подумал Богушевич, и на душе у него возник какой-то болезненный гадливый осадок. – И старуха в чёрном, и собака, и кот, и эта постилка, точно траурный флаг».
– Эй, бабка, есть кто в хате? – спросил её становой.
– Нема, – прошамкала она, глянула на него заплывшими глазками и пошла в дом.
Понятые вынесли из дома скамью, Богушевич присел на неё, положил на колени портфель, достал карандаш, бумагу, начал чертить схему двора. Задержал внимание на крыльце: на нем-то и задушили Параску среди бела дня, почти на глазах у прохожих – забор, низкий, с редкими колышками, не был помехой, с улицы все было видно как на ладони. Первым сюда, на место преступления, прибыл становой, увидел мёртвую женщину и бледных, отупелых убийц, обеих с детьми на руках: Серафима – со своим, Наста – с Параскиным. Становой сразу же отправил Параску в больницу в надежде, что она ещё, возможно, жива и врачи спасут её. Становой рассказывал все это Богушевичу, показывал, где и как лежала убитая, где стояли Серафима и Наста. Богушевич слушал, записывал и с чудовищной ясностью и чёткостью представлял себе (словно видел своими глазами), как женщины сидели на крыльце, как тянули за концы накинутый на шею Параски платок, как белело и синело её лицо и вылезали из орбит глаза… Богушевич бросил карандаш на портфель, тряхнул головой, чтобы избавиться от жуткого наваждения, попросил станового минутку обождать. Сидел и сам молчал. Молча, не шевелясь, словно в почётном карауле стояли понятые, и бляхи их блестели на солнце, как боевые медали. Носик, заметив, что солнце светит прямо в лицо Богушевичу, стал так, чтобы его заслонить.
– Как преступницы потом признались на дознании, – снова заговорил становой, когда Богушевич опять взялся за карандаш, – они сидели втроём на верхней ступеньке крыльца, Параска – посередине…
Описав двор и начертив схему, Богушевич позвал старуху. Та вынесла ещё одну скамейку, перекрестилась и села, не отводя глаз от руки Богушевича, записывавшего её ответы. Ей за семьдесят, убитая Параска приходилась ей младшей невесткой. Про перстень сказала так:
– Ой, был, был перстенёк. Мой он был. Мне пани Софья подарила, когда я служила у неё горничной. Давно это было. Лет пятьдесят назад, а то и больше. Дюже дорогой перстень.
– А сколько он мог стоить? – спросил Богушевич.
– Не знаю, а дорогой, – закивала головой старуха, и на её лице, сморщенном, жёлтом, словно у мумии, задрожал острый подбородок. – Дюже дорогой. Уж больно красивый был. Пани Софья сняла его со своей руки и мне надела. А ей этот перстень кучер подарил.
– Кучер? Это фамилия пана?
– Нет, тот кучер, что пани возил. Он купил его пани в подарок у татарина-крымчака. Сами увидите, какой красивый и дорогой тот перстень. За него пять коров и то мало.
Носик хмыкнул – он тоже знал настоящую цену перстня, а Богушевич только вздохнул, но не сказал, сколько он стоит на самом деле.
– Где вы были, бабушка, когда случилось несчастье с невесткой? – спросил Богушевич.
– А в хате, лук вязала.
– И ничего не слышали?
– Шум слышала. Женщины о чем-то говорили. А потом зашла Наста и сказала, что на Параску немочь напала, лежит и не дышит.
Старуха рассказывала спокойно, даже безучастно, словно о чем-то обычном. Ни голос не дрогнул, ни на слове не споткнулась, глаза были сухие, как у птицы. То ли выплакалась и истомилась за эти дни, то ли просто была неспособна вместить в своей дряхлой душе новое горе и боль – слишком много выпало их ей на долю за долгий век.
– Бабуля, – не отставал от неё становой, – неужто не слышали вы, как душили вашу Параску? Неужто она не крикнула?
– А как же, слышала, как крикнула, так я ж думала, что просто шумят, ругаются.
– Женщины такой народ – не говорят, а кричат, – подал голос один из понятых.
Все, что интересовало Богушевича, он расспросил, записал, дал подписать схему и описание двора становому и понятым.
– Ну, в тюрьму, – сложив в портфель бумаги, сказал Богушевич и пошёл со двора.
Это был обычный трудовой день судебного следователя Франтишека Богушевича; за годы службы таких дней были тысячи.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
В это же время помощник следователя Алексей Потапенко шёл в дом купца Иваненко; шёл в препоганом настроении. Очень уж не хотелось ему заниматься расследованием кражи в лавке этого купца – делом, которое ему поручили и приказали как можно скорей кончить. Не хотелось встречаться с купцом, а ещё больше – с его дочкой Гапочкой. Ещё совсем недавно он приударял за Гапочкой и был уверен, что с ней и свадьбу сыграет – Гапочка ему нравилась. Но пани Глинская-Потапенко решила по-своему, нашла сыну Леокадию, Леку, как та себя называла. И теперь было неудобно попадаться на глаза Гапочке, да и самому купцу, её папаше. К тому же он жалел, что сорвалась поездка на лоно природы, где можно было бы повеселиться, отдохнуть, стряхнуть с себя осточертевшие служебные заботы. А теперь, раз он никуда из Конотопа не поедет, придётся посвятить субботу и воскресенье своей невесте, Леке. Её, эту Леку Гарбузенко, мать выбрала в невесты сыну по такой причине: она – их дальняя родственница, дочь мелкопоместного помещика, усадьба которого находится по соседству, и брак объединит их пришедшие в упадок поместья в одно, что поправит хозяйственные дела. После сговора родителей Лека приехала в Конотоп – у них тут свой дом – и живёт вот уже неделю. Теперь Алексею хочешь не хочешь надо наносить ей визиты, развлекать, выказывать знаки внимания.
«Какой-нибудь висельник, плевок человечества, учинит что-нибудь, – проклинал он того вора, который совершил кражу, – а ты занимайся им, бей ноги, трать время. Тьфу, чтоб ты сдох…»
Уголовное дело, которое ему поручили расследовать, не было трудным, запутанным. Ночью вор сломал замок на дверях лавки, набрал мешок товара, но далеко не ушёл, его задержали. По этому делу и надо было Потапенко провести следствие. Купец подал жалобу прокурору, чтобы вора наказали по всей строгости закона. А Потапенко очень не хотелось с этим возиться, и он решил уговорить купца, чтобы тот забрал жалобу, тогда можно будет прекратить следствие. Богушевич возражать не стал. Теперь Потапенко размышлял, каким образом ему подольститься к купцу, убедить его махнуть рукой на все это – ну чего разводить канитель? Все краденое возвращено, убытков купец не понёс, зачем же давать лишнюю работу следствию. Правда, твёрдой уверенности, что купец согласится, не было, упрямый и жадный, он и копейки не уступит. А богатый – у него несколько лавок, постоялый двор, доходный дом. Богато у него и дочек – пятеро – и только одну, самую старшую, недавно выдал замуж.
Дочери у купца были недурны собой, красивей, чем Лека, миленькие, весёлые, и Потапенко любил проводить время в их компании. Если бы не мать с её Леокадией, он бы так просто не отказался от дома Иваненко.
«Черт, – пожалел себя Потапенко, вспомнив про Леку, – не иначе он послал её на мою голову. Нужна она мне как рыбке зонтик. Взял бы Гапочку с хорошим приданым. Она бы у меня торговлей занималась, а я бы набивал мошну, как Ротшильд… Начто мне тогда все эти воры, карманники, грабители, домушники и всякая там дрянь». Потапенко понимал, что надежды матери поправить дела и разбогатеть, объединив две усадьбы, где еле сводят концы с концами и только поспевают выплачивать долги, малоосуществимы. Сам он хозяйничать не умеет и не будет, Лека тем более на это неспособна… А вот Гапочка в своих лавках хозяйничала бы как надо… И так это было близко, так близко! Даже сваха (конечно же, подосланная Гапочкой) приходила к Потапенко две недели назад. Поговорила, полебезила, вьюном вилась вокруг него, расхвалила Гапочку, выведала, что могла, прощупала, есть ли у него симпатия к невесте. А у Потапенко к тому времени уже появилась Лека. Мать благословила их на брак. От свахи он это, конечно, утаил и потому вынужден был выкручиваться: и от Гапочки не отказывался, и определённого ничего не обещал. Но недавно почувствовал, что Гапочка все про Леку знает. Приятно теперь будет встретиться с ней?
«Ну, чего я расстраиваюсь, чего волнуюсь? – начал он себя успокаивать. – Я ж от Гапочки не отрекался, буду по-прежнему держать себя кавалером».
Настроение его сразу изменилось, он шёл теперь бодрой походкой, энергично размахивая тростью, украшенной резьбой по кости и медными бляшками, одаривал всех знакомых, особенно тех, кто был ему по душе, широкой улыбкой, кланялся, приподнимал шляпу. И чем ближе Потапенко подходил к дому купца, тем больше ему хотелось повидаться с Гапочкой. Из четырех дочек на выданье она следующая по годам за Оксаной, к которой сватается сын Кабанова, землемер, недавно окончивший институт. Тот попробовал было посвататься к самой младшей, но у купца свой принцип – выдаёт дочерей только по очереди, и Кабанов согласился на вторую по возрасту – Оксану.
– Тю, – удивлённо воскликнул Потапенко, вспомнив об этом, – значит, если бы у меня сладилось с Гапочкой, то я породнился бы с Кабановым? Вот это родство! – развеселился он.
Дом Иваненко был уже недалеко: вон он, красный, двухэтажный, с зеленой жестяной крышей. Потапенко явится туда, как и всегда, женихом, и его примут, как жениха, и Гапочка будет рада – она так хочет стать дворянкой. А он, Глинский-Потапенко – дворянин, да ещё с хорошей родословной. Будет угощение, дочки станут из кожи лезть, чтобы показать свою образованность и воспитание, начнут музицировать, петь по нотам, читать стихи. И сам купец постарается получше принять гостя – не чужой пришёл в дом, а дворянин, жених…
Как мало надо иногда человеку, чтобы у него исправилось состояние духа. Потапенко пришёл в прекрасное настроение. Улыбка уже не покидала его лица, шаг ускорился, трость взлетала вперёд-назад ещё энергичней. Вот и дом, совсем рядом. На балконе, на виду у всей улицы, под зонтиком сидела вся в белом одна из дочерей купца и читала книгу. Потапенко поднял трость, сдёрнул с головы шляпу, чтобы поздороваться с ней – ему показалось, что это Га-почка, и тут его кто-то окликнул. Повернулся и помрачнел: возле калитки соседнего двора стояли Нонна и Лека.
– Алексей Сидорович, добрый день.
– Добрый день, – машинально ответил он и остановился, будто наткнулся на что-то.
Лека в чёрной юбке, белой блузке и белой шляпке, грудь, тугая, тяжёлая, так и выпирает (вот уж действительно – полная пазуха…), на неё перекинута темно-русая коса. И Потапенко свой приветственный жест, предназначенный Гапочке – это она и сидела на балконе, – тут же переадресовал Леокадии: два раза помахал поднятой вверх тростью и поклонился. Лека шагнула к нему, протянула в ответ пухлую руку, и он поцеловал её, удивляясь, как это Лека очутилась здесь, да ещё с Нонной.
– Расстроилось фортепиано, – сказала Лека, беря Потапенко под руку – а что, она в своём праве! – струна лопнула. Ходили к мастеру, – показала она на невысокий деревянный домик.
– Струна лопнула? – растерянно повторил Потапенко, не зная, о чем с ней говорить. – С чего бы это ей было лопнуть?
Лека задумчиво закатила глаза.
– Может, горничная Дуняша лазила в серёдку да и порвала, – сказала она, – а может, мыши перегрызли.
– Мыши?
Нонна хмыкнула, хмыкнул и Потапенко, но оба сдержали смех, глянули друг другу в глаза. Глаза у Нонны синие, глубокие, не оторвёшься от таких глаз. Нонна в красном сарафане и такой же красной кофточке с короткими, а может, закатанными рукавами. «И почему она не хочет жить в Корольцах?» – уже который раз подумал Потапенко.
– Меня сюда Нонна Николаевна привела, – объяснила Лека. – А мастера дома не застали. Алексей Сидорович, пошли с нами ко мне.
– Куда? Я же на службе. У меня дело, уголовное, надо следствие провести. Иду вот допрашивать Иваненко.
– Иваненко? – надула губы Лека. – К Гапочке небось шли.
Лоб у Потапенко наморщился, щеки стянуло, губы скривились – так ему стало неприятно.
– Вечером приду, ладно, – попробовал он отговориться.
– И Нонна Николаевна с нами пойдёт.
– Нет, я не могу, – Нонна остановила на Леокадии весёлый, насмешливый взгляд, – муж приехал, – сказала она Потапенко.
– Соколовский? Где ж он?
– У купца, по какому-то делу. Сейчас выйдет.
И правда, Соколовский, управляющий имением Потапенко, вскоре вышел. Бородатый, в полотняном пиджаке, сапогах, белой парусиновой фуражке и вышитой украинской сорочке. Потапенко и Соколовский поздоровались, энергично пожали друг другу руки.
– Вам, Алексей Сидорович, мать кланяется, соседи передают привет. И её отец, – кивнул он на Леку, – тоже кланяется и зовёт в гости. Они там собираются вас благословить…
– Спасибо, спасибо, – перебил его Потапенко, – не могу я в гости ехать, служба не пускает.
Расспросил про мать, хозяйство, про пожар. Сказал, что в Корольцы едет Богушевич расследовать причины пожара.
– Богушевич? – словно удивившись, переспросил Соколовский. – Что он там найдёт? Никаких следов не осталось. Был становой, проводил дознание.
Соколовский и Нонна попрощались и пошли, взявшись за руки, как маленькие. Хотел пойти и Потапенко, да Лека не отпускала. Отвела от дома купца подальше, чтобы не видно было балкона, где сидела Гапочка, стала близко, лицо к лицу, дышала часто и глубоко, и золотой крестик на груди у неё качался, как чёлн на волнах.
– Алексей Сидорович, – сказала она с придыханием, – очень вы ко мне невнимательные, письма писали мне редко. А я так люблю читать ваши письма, когда вы складно и с чувством пишете: «Милостивая государыня Лека…» – Она зажмурила глаза и прижалась к нему плечом. – А правда, я симпатичная?
– Ага.
– Ой, Алексей Сидорович, ну кто ж так говорит: «ага»? Как парубок с хутора. Наша горничная и то уже от «ага» отвыкла.
– Симпатичная, – поправился Потапенко. – Симпатичнейшая Леокадия Карповна Гарбузенко, чудо природы.
– Ой, как хорошо. Скажите ещё. – Взяв его под руку, она вела его, вела и привела на улицу, где был её домик, и стала зазывать в гости.
– Алексей Сидорович, я такую наволочку красивую вышиваю для вас. Придёте домой, а я вам подушечку под головку.
«Фу-ты, ну-ты, началось», – разозлился он на себя за своё безволие и сморщился. Ждал, что сейчас начнёт, как вчера: – «Алексей Фёдорович, а правда, у меня глаза синие, как небо?» – «Правда», – вынужден был он сказать. «А губы, как вишни спелые». – «Как вишни спелые», – повторил он за ней. «А коса, как Млечный Путь на небе?» – «Ага». – «Ой, – всплеснула она руками, – до чего ж люблю, когда вы мне все так поэтично говорите…» Вот и попробуй, выдержи такую болтовню.
«Нет, дудки, – решил он, – не зайду в дом». А сам все шёл и шёл, как телок на верёвочке.
– Лека, – наконец остановился он, высвободив руку из-под её локтя, – мне нужно на следствие, дела у меня. Beчером зайду.
– На следствие, – капризно надула она губы (они у неё, нужно сказать, соблазнительные, пухлые, прямо какие-то бесстыжие), – к купчихам идёте… После сходите, только подушечку покажу. Пожалуйста.
«Ну что поделаешь, – сдался он, – считай, жена уже. И зачем только эти жены нам на всю жизнь? Вот у птиц, у зверей семья на один сезон. Верно сказал наш земляк Гоголь: „Господи боже мой, за что такая напасть на нас грешных! И так много всякой дряни на свете, а ты ещё и жинок наплодил!“ – вспомнил он недавно прочитанные строки.
Он шёл рядом с Леокадией и сердито молчал. Тень Леки ложилась ему под ноги, и он злобно топтал её, крепко наступая на голову, плечи, шею, ненавидя эту тень, как её саму, живую.
– Алексей Фёдорович, что это вы так топаете?
– Клопов давлю.
– А они что, и по улице бегают?
– Ага.
Дома Лека и правда показала ему подушечку с вышитой наволочкой – розовые цветы и загогулины. Алексей, чтобы доставить ей удовольствие, похвалил вышивку, подушечку приложил к щеке, сказал, что она такая же мягкая, как мастерица, чьи руки её вышивали.
– Ой, что вы, Алексей Сидорович! – Лека сделала вид, что застеснялась. Поставила на стол вазочку с вишнёвым вареньем, графинчик вишнёвой наливки.
– Мне ваша маман говорила, что вы любите вишнёвое варенье.
– Ага, – нарочно «агакнул» он.
– Не нужно так. Фи…
Алексей выпил наливку, наелся варенья, захмелел. Лека пододвинула своё кресло вплотную к нему. Брала Алексея за руку, касалась щекой его щеки. И когда Алексей растаял и обнял её за плечи, положила голову ему на грудь и закрыла глаза.
– Алексей Сидорович, – сказала она томно и тихо, почти шёпотом, не раскрывая глаз, – поглядите, ножки у меня тоже красивые, – и приподняла слегка подол юбки.
– Ага.
– Про такую ножку написал один французский сочинитель – Бальзак его зовут. – Она потянулась к дивану, взяла с него книжку, открыла на нужной странице и попросила Алексея почитать.
«Ножка была, – читал он вслух, – узенькая, с красивым изгибом и шириной не более чем в два перста, а длиной с воробышка, с миниатюрнейшим носком… – Читая, Алексей то и дело кидал взгляд на Лекину короткую и широкую ступню. – …одним словом, ножка, достойная поцелуя, как разбойник достоин петли».
– Как французы умеют поэтично писать про женщин и их красоту… А правда, я, пусть и не красивая, а ужасно симпатичная.
– Симпатичная, очень даже симпатичная.
Вот такой был у них разговор. Тоска, а не разговор. Правда, говорила больше Лека. Алексей только поддакивал да «агакал». Потом Лека попробовала играть на рояле, била по клавишам короткими, сильными пальцами, рояль гудел сердито и непослушно, словно огрызался.
– Не колоти, он же расстроенный, – взмолился Алексей. Он снова вспомнил про службу, глянул на часы – перевалило на вторую половину дня, считай, день пропал. Решил все же хоть что-нибудь сделать и по службе. Сказал об этом Леокадии. Она попробовала его задержать, назвала бездушным эгоистом, раз не хочет разделить с ней скуку, разозлилась, хоть и старалась скрыть свою злость.
Алексей вышел из дома и трусцой пустился по улице, радуясь воле, как шалый телок, сорвавшийся с привязи. Решил покончить с Иваненко. Вот сейчас зайдёт к нему и сделает все, что нужно. Дорогой, однако, забыл и про Леку, и про службу, думал о Нонне. Поймал себя на том, с каким сладким, тёплым чувством вспоминает про неё. До чего хороша! Не обычной заурядной женской красотой – лицом, фигурой, а своей яркостью. Глянешь на неё и глаза зажмуришь – такая яркая, что теряешься. Почти каждый день видятся – в одном ведь доме живут, а не может до сих пор говорить с ней спокойно, естественно, как говорит со всеми. Позавидовал Соколовскому – ну и повезло с женой. Это вам не Лека… Вспомнилось однажды сказанное Нонной: «Вы, Алексей Сидорович, человек добрый, честный, а вот цели в жизни у вас нет. Высокой цели».
– Нет цели? – повторил он теперь вслух, впервые задумавшись над этими словами, и приостановился. – Как так нет цели? Я ж выбрал службу, чтобы карьеру сделать. Хочу стать следователем, потом товарищем прокурора, прокурором… Разве это не цель?
Интересно, а какая у неё цель и у мужа её? Выходит, есть она у них и живут для этой цели? А почему живут врозь, почему она не поехала в Корольцы вместе с мужем? Интересно и непонятно. Алексей задумался. В груди что-то царапнуло, заскребло острой лапкой. Если у них есть цель, как они могут достигнуть её здесь: Нонна нигде не служит, муж – эконом бедного имения в конотопской глуши.
Может быть, до чего-нибудь и додумался бы Потапенко или хоть что-то заподозрил, но по своему характеру он не был способен долго думать об одном. А поскольку он остановился как раз напротив трактира, то и зашёл туда.
– Полстакана водки, – сказал он трактирщику Фруму и кинул на стойку рубль, – малосольный огурец и сала с хлебом.








