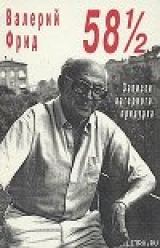
Текст книги "58 1/2 : Записки лагерного придурка"
Автор книги: Валерий Фрид
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 27 страниц)
– Куда?
– Собирайся. Я тебя проиграл.
– Шурик, ты в натуре?!
– В натуре у собаки красный хуй. Собирайся.
Она на колени, кричит:
– Шурик, что ты наделал? Как я пойду? Ведь я не блядь, не простячка. Ты лучше убей меня, как делали старые воры, пожалей меня.
– А, – говорю, – гадина, и ты против меня! Иди сейчас же, позорная падаль, иди, профура, пока я тебя на кулаках не вынес. Иди!
Она в рев и не идет. Я ее попутал за волоса и поволок. Втолкнул в барак и воротился к себе. В рот оно ебись, думаю. Зато никто не скажет, что Шурик поступил несправедливо.
Я лег и дохнул до обеда. Мой пацан три раза меня будил, но бесполезно.
В обед просыпаюсь и иду шукать Вику. В столовой ее нет, в бане тоже наны. Может, она обиделась и к себе перешла? Чимчикую в бабский барак.
Шалашовки кричат:
– Она не была.
Тогда я налаживаю своего помогайлу:
– На цырлах – найди мне Вику и волоки сюда.
Он толкует:
– Так, Шурик, Вика же в шалмане. Я думал, ты в курсе.
Я так и сел. Ебаные волки, неужели они ее пустили под трамвай? Ну, я им сделаю! Ботаю:
– Толик, кличь Николу, Сифона, Ивана Громобоя и еще кого найдешь. Чешите все к седьмому бараку. Мы им сейчас устроим Варфоломеевскую ночь.
Толик кричит:
– Шурик, бесполезняк. Она сама не хочет идти. Я с ней толковал.
Вот это номер! Нет, думаю, свистит пизденыш. Или не дошурупал чего-нибудь.
Иду сам в седьмой барак. Заваливаюсь в ихний куток и вижу, точно: Мишанька босой сидит на верхних юрцах, в рябчике, флотских клешах, а Вика рядом – и о чем-то между собой толкуют.
Я говорю:
– Вика, пошли домой.
Она молчит. Я по новой ботаю:
– Пошли, нехуя тебе здесь делать.
Она обратно молчит, а Мишанька мне ботает:
– Она никуда не пойдет, понял? Она моя жена и останется здесь. А ты вались отсюда, сукадло – твоего тут ничего нету.
Я ему толкую по-хорошему:
– Что ты делаешь? Ты же не будешь с ней жить, воры с сучками не шьются.
А он мне ботает:
– Ничего, жидовская вера полегчала – ты сам говорил. А зачем тебе Вика? У тебя же есть коза, у ней карие глаза – хватит с тебя.
Все уже, блядь, знали за эту козу. Тут и остальные загавкали:
– Пес, лягашка, сучара! Собака, собака, на-ко тебе хуй!..
Но я на них поглядел, и они заткнулись. Я говорю:
– Ладно, я пойду. Но ты, Бог, еще попадешь в мой капкан. Ты у меня будешь бедный.
Он кричит:
– Уж больно ты грозен, сосал бы ты член! (Он матюками вообще не лаялся, брал моду с каких-то прежних немыслимых воров, которых не было и нет.) Чеши отсюда, вохровский кобель, пиратюга, стервятник!
А я ему ботаю:
– Я с тобой лаяться не буду. Я тебя в рот ебу.
Он кричит:
– Не тяни меня, сукавидло! Ты меня можешь оттянуть только зубами за залупу – и то с разрешения. Как тебя земля носит, как ты еще смотришь на честных людей и не лопнут твои падлючьи шнифты? За твоей шеей золотой колун ходит, утварь позорная, черная душа, подонок общества! Рви когти, пока живой, лагерная гниль, катюга, Малюта Скуратов!
А я ему ботаю:
– Я с тобой лаяться не буду. Я тебя в рот ебу.
Он кричит:
– Рвотный порошок, ходячая проказа, позор человечества! Где ты был в девяносто седьмом холерном году, сучий обсосок, кусок негодяя?
А я ему ботаю:
– Я с тобой лаяться не буду, понял? Я тебя в рот ебу, понял? Но ты еще проклянешь день своего рожденья. Я на тебя высплюсь. Я тебя буду хавать по пятьдесят грамм. Я тебе кишки вымотаю и на зоне развешу. Ты в пустыне Сахаре от меня не скроешься, и никакая экспедиция тебя не спасет. Запомни, Бог, – ты мой заяц, я твой охотник. Я еще напьюсь твоей крови. Это я, Шурик Беспредельный, тебе ботаю. Век свободы не видать!
Это старая божба, Юрок, и знающие воры ее уважают. Больше я не стал толковать и пошел в свою хаверу.
Валяюсь на койке день, два – никуда не хожу, даже поверку не делаю. Спать не могу, курю – табак мне, как трава, пью – вода вроде кислая. Думаю за Вику – чего ей, сучке, надо было?
Конечно, и я перед ней неправ: не к чему было на нее играть – но должна же она понимать, что я был в крайности. А когда человек в крайности, он помнит только свой понт.
В сорок третьем году я чалился в Лабытнанге. Там на каменном карьере ишачила бригада доходяг. Мороз зарядил – заеби нога ногу: градусов на пятьдесят. Работяги накормлены по норме, одеты по форме: кто в телогрейке, кто в одеяле. Никто, конечно, не мантулит, а жмутся все к Ташкенту: костер все ниже, фитиль все ближе.
Конвою надоело их от костра трелевать, и он раскидал все поленья. Фитили сбились в кучу и уже шевелиться неспособны, в носу сопли позамерзали.
А тут как раз один шоферишка прогревал мотор. И как-то он, мудак, паклей припалил свой комбизон. Комбизон масляный и загорелся как свечка. Шофер по снегу катается, базлает на всю тундру. А блядские фитили бегают за ним и на этом костре грабки греют.
Ты понял? Взял я лом, разогнал их нахуй, сбил огонь… Но это я к чему? Чтобы ты убедился, чего делает человек в отчаянности. А Вика этого не поняла, оказалась такая же дешевка, как все.
Но все равно, я уже не мог без нее. На третий день меня вызывают в спецчасть. Я вылезаю из кабины, все от меня шарахаются. Иду по зоне страшный, как кровосос.
В спецчасти узнаю, что собирают этап на штрафную – прибыл наряд. Я с ходу записываю Мишаньку со всей пиздобратией, а сам выкидываю такую авантюру: вечером посылаю за статистом спецчасти Грейдиным и толкую ему:
– Мишаньку Силанова отставишь от этапа.
Он кричит:
– Шурик, не могу. Списки подписаны.
– Грейдин, перестань сказать. Ты меня кнокаешь? Или, может быть, ты меня в рот ебешь?..
Он был умный мужик и сделал все чин-чинарем: этап уходит, Мишанька один остается. Он крепко заметал икру, но держит фасон, ходит всюду под ручку с Викой.
Ходи, ходи, Бог, – недолго тебе боговать… Хляю до кума и раскидываю немыслимую чернуху:
– Гражданин начальник, Мишанька Силанов остался от этапа с целью, по сламе с Грейдиным. Он проиграл вас в карты и должен уплатить. У него уже и колун притырен где-то в зоне.
Кум был бздиловатый конек. Он кричит:
– Делай что хочешь, но найди мне этот колун. А Грейдина, мерзавца, – в лес, на общие работы!
Я ботаю:
– Колун я вам принесу в кабинет, но для этого мне надо потолковать с Силановым.
Через час Мишаньку в наручниках волокут в торбу. После отбоя я заваливаюсь к нему с Николой Слясимским и Толиком. Кричу:
– Добрый вечер, Бог. Пришел с тебя получить. Чего ж ты молчишь? Ты ведь был такой развитой, языкатый…
…Юрок, он у меня в ногах валялся, сапоги целовал. Мы из него сделали мешок с говном, все косточки потрошили, поломали ребра. Подпоследок посадили жопой об цементный пол и оторвались.
Я велел Толику сказать в санчасть, что у Мишаньки припадок и он весь побился об стены, а сам пошел дохнуть. Между прочим, Мишанька еще часа три хрипел, дневальный рассказывал.
По утрянке меня будит Никола:
– Шурик, ебать мой хуй, горение букс. Мишанька врезал дубаря, и режим рюхнулся – под тебя копают, роются в задках.
Я ему ботаю:
– Не бзди, кирюха! Дальше солнца не угонят, меньше триста не дадут. Если что коснется, тебя с пацаном я по делу не возьму.
Но теперь я знал, что мне надо действовать быстро, потому что каждый момент меня могли замести.
Иду к Вике в барак. Бабы кричат:
– Она с девочками в КВЧ.
Было воскресенье.
Иду в КВЧ. Вика сидит с какими-то оторвами на скамейке и поют самые паскудные воровские побаски:
Ты не стой на льду, лед провалится,
Не люби вора, вор завалится…
Я ей маячу, она без внимания. Тогда я подошел, взял за руку, отвел ее и толкую:
– Вика, кончай придуриваться. За Мишаньку ты, конечно, знаешь, что он уже труп. Не сегодня завтра меня крутанут, и я уеду на штрафняк – скажи, ты меня будешь ждать?
А она, как будто не к ней касается, выдернула грабку и пошла к своей шалашне. Я кричу:
– Вика, учти, дело идет о моей жизни и о твой жизни.
А она лупится на меня, как гадюка, и вызванивает:
Я стояла на льду и стоять буду,
Я любила вора и любить буду.
Тогда я вытягиваю финяк, подхожу и порю ее прямо по глотке, аж кровь в морду прыснула.
Повернулся – в КВЧ уже никого нету, все рванули кто куда, только скамейки поваленные, да Вика на полу, и весь пол в краске. Маленькая была, а крови много.
Сел я, достал кисет, сворачиваю, а руки – Юрок, ты план справлял? По плану человек чувствует, что костыли у него как трехметровые – а переступить порог не может. Руки длинные – а взять ничего нельзя. Так и я – знаю, что надо завернуть, а не умею. Посидел я, свернул все-таки и зашмолял.
– Шурик, а о чем ты в это время думал?
– Ни хуя я не думал. Я про гусенят думал. Когда я был пацан, меня мать приставила гусят пасти. А один гусенок был такой пидораст – никак не идет со всеми, обязательно отобьется. И очень доходной – уцепится за стеблинку, вырвет ее и сам на жопу хлопнется. Я с ним воевал, воевал, потом сгреб его в подол и несу. А он, падло, мне всю рубашонку обхезал. Я тогда взял пруток и давай его метелить. А гусыня надыбала это дело и ко мне. Как она меня понесла! И крылами, и клювом, и как хочешь. Спасибо, мать отняла, а то я уж думал – кранты мне. Я потом целый год заикался.
И вот я думаю: ебанный в рот, было же ведь время, когда я гусей боялся. Почему моя жизнь так повернулась?..
Глоссарий
а в натуре на отмазку – в самом деле для защиты;
актироваться с понтом – обмануть медицинскую комиссию и по акту быть освобожденным;
базлать – орать;
бакланье – хулиганы, наглецы (воры их презирают);
балалас – сало;
барыга – скупщик краденого;
бацилла – жиры;
ББК – Беломорско-Балтийский канал;
бегать по воле – воровать на свободе;
бегать по городовой – заниматься уличными кражами;
бердыч – посылка;
беспредельный душок – беспредельная отвага, сила духа;
бздиловатый конек – трус;
бимбер – спиртное;
бить ливер – смотреть;
бобочки – сорочки, рубашки;
босяки – воры, блатные;
ботать – говорить;
брать кабур – делать подкоп;
буби козыри – все в порядке;
быть в вантажах – быть в выигрыше;
вагонзак – спецвагон для перевозки заключенных;
в говнах – поровну;
в голяшке притырена шпага – в голенище спрятан нож;
вертят – арестовывают;
верхние рюмы – термин лесосплавщиков, здесь: фигурально – верхние нары;
в краске – в крови;
в краснухе катился за фрея – ехал в товарном вагоне, выдавая себя за фраера;
волокут по кочкам и по корягам – подвергают всяческим неприятностям;
волчок – смотровой глазок в двери;
вохровский – ВОХР, «вохра»: вооруженная охрана;
врезать дубаря – умереть;
в ста колах – в ста рублях;
в торбу – здесь: в карцер;
горение букс – мы погорели;
грабки на баш, на калган – руки на голову;
граверный карьер – гравийный карьер;
давить косяка – искоса смотреть;
дать набой – намекнуть;
двинуть – не отдать проигрыш;
делят – сдают карты;
дешевизна – женщина;
динтойра – древнееврейское слово, означающее «суд торы»– высшее воровское судилище;
додуть, дотумкать – додуматься, сообразить;
дохнуть – спать;
дубак – тюремный надзиратель;
духарики – отважные люди (часто иронически);
ебальник – рот, здесь: лицо;
жуковатые, жуки-куки и коки-наки (шутливо) – блатные, воры;
законники – полноправные воры;
замести – арестовать;
за ним колун ходит – т. е. воры приговорили к смерти (чаще всего могли зарубить топором);
кабина – отдельная комнатка в бараке;
кажите масть – объясните ситуацию;
как могерам – как важная персона;
капать – идти;
кандалы обосрал – побывал на царской каторге;
кандей – карцер, изолятор;
кант – легкая работа;
карячится – грозит, намечается;
катать – играть в карты;
качать права – выяснять отношения;
кирюха, керя, кореш – товарищ;
кешер – вещмешок или посылка;
кичман или кича – тюрьма;
кнацаю – смотрю;
кнокать – смотреть (иногда – уважать);
кодло – компания;
колонна – подразделение на лагпункте (несколько сот человек);
колотушки – карты;
кормушка – прорезь в двери камеры;
Коробицын – реальное лицо, нач. лагеря (Каргопольлага);
корочки – туфли;
костыли – ноги;
крутануть – арестовать, посадить в карцер;
КВЧ – культурно-воспитательная часть;
ксивы – документы, письма;
кум – оперуполномоченный;
Курилка – фамилия реального начальника лагеря на Соловках;
куска полтора – полторы тысячи;
ланцы – тряпки;
лепенец – костюм;
лепилы – врачи;
леплю горбатого – обманывать;
люди – воры (остальные: фраера, черти);
малы – ребята, парни;
мандро беляшка – белый хлеб;
мантулить – работать;
мара – баба;
марочка – носовой платок;
мастырит – мастерит;
маячит – делает знак;
мессырь – нож;
мора – цыган;
на галантинках – дрожит (как желе);
надыбать – заметить;
на кукане – на крючке;
на кухне свежее мясо – это метафора: кого-то зарубили или зарезали;
намотали на всю катушку – дали максимальный срок;
напою – обыграю;
нарядила – нарядчик, з/к, ответственный за назначение на работу;
на цырлах – живо, на цыпочках (букв.);
нотный – умелый, опытный;
обаловать любого чистодела – обыграть любого мастера;
обхезать – обкакать;
ОЛП – отдельный лагерный пункт;
отгулялся по цветной улице – перестал быть цветным, т. е. вором (выведен из закона);
отмел мойку – отнял бритву;
отшить кого-то вчистую – взять всю его вину на себя;
парашют – записка на веревочке, спускаемая из окна;
перо – нож;
пика – нож;
писка – лезвие безопасной бритвы;
подорваться на отказе – пострадать от взрыва не сработавшего раньше заряда аммонита;
политика – так называемый «политический зачес», как у Сталина;
полнота – то же, что «законники», даже с большим упором на безупречность репутации;
пори меня за фуфло – режь меня, как непорядочного;
порчаки – воры с испорченной репутацией;
по сламе – по дружбе;
по сошкам, куши и семпеля – тонкости игры;
похавать – поесть, покушать;
пошпилить – поиграть;
правила – участник воровского толковища;
пресс – пачка денег;
приземлить, землянуть – вывести из воровского закона, т. е. из корпорации, лишить прав;
притырен – спрятан;
пропуль – послание;
прохаря – сапоги;
простячка – проститутка;
псарня – тюремный надзор;
пулемет – колода карт;
пустить в казачий стос – ограбить (оказачить);
пустить под откос – то же, что приземлить;
пустить под трамвай – коллективно изнасиловать;
пыряться на рога – лезть на рожон;
раскидываю немыслимую чернуху – нахально вру;
расписуха – вышитая рубаха;
режим – начальник режима (тюремный чин);
режим рюхнулся – нач. режима спохватился;
рисануть – узнать;
родский – взрослый вор;
роются в задках – ворошат старые дела;
рыжие бочата с лапшой – золотые часики с цепочкой;
рыжие фиксы – золотые зубы;
рябчик – тельняшка;
саксаи – нож;
самый центр – самое отборное;
сбацать – станцевать;
сбить роги – осадить;
сблочить с себя – снять с себя;
СВВ – склад взрывчатых веществ;
семисекельная – вместо старого «семибатюшная»;
сибирский третист – приверженец одной из школ игры в стос (штосс пушкинских времен);
сидеть под вышкой – сидеть приговоренным к высшей мере наказания;
сидор – вещевой мешок;
СИЗО – следственный изолятор;
с кушем тебя нету – лучше тебя нет;
сладкое дело – сахар;
сменять червонец на сухаря – договориться с малосрочником, что тот за плату возьмет на себя длинный срок (червонец – 10 лет), а долгосрочник уйдет на волю под его фамилией;
смола – курево;
солдатская причина – липовый предлог;
сосаловка – голод;
с понтом на атанде – как будто он караулит;
с понтом он дохнет – как будто он спит;
справлять план – курить анашу (гашиш);
ссученый – ставший «сукой», т. е. вышедший из воровского закона и перешедший на сторону лагерной администрации;
стары, бой, колотье – карты;
суррогатка – ботинок из автопокрышки;
ташкент – костер;
тесак – нож;
толковище – выяснение отношений;
торбохваты – мелкие воришки;
трюм – карцер;
тырсануть – стукнуть, ударить;
тягануть – отругать;
ушел за нач. сано – бежал, выдавая себя за начальника сан. отдела;
фарт – везение;
финяк – финка;
фитилек – доходяжка;
фрей – фраер, т. е. не вор;
хавера – квартира, здесь: жилье;
харево на варево – любовь на еду;
харить, шворить – трахать;
хипеш – шум;
хлябал – проходил, считался;
хлестаться – хвастаться;
хобот – шея;
ховаю в скудо – прячу во внутренний карман пиджака;
чалиться – сидеть в тюрьме;
чеграш нетутэшний – залетная птица (видимо, из лексикона голубятников);
чердак – верхний наружный карман;
человечьего мяса не хавал – здесь: не имел дела с женщиной;
чимчиковать – идти;
чуни – башмаки из автопокрышек;
шалашня – женщины, бабье;
шалман – воровской барак;
шаляпинские права – у кого громче бас, тот и прав;
ШИЗО – штрафной изолятор;
шифранутъ – разоблачить;
шкеры – брюки;
шлюмка – суп;
шмолять – курить (иногда стрелять из…);
шнифты – глаза;
штевкать – есть, кушать;
штопорила – грабитель;
штрафняк – штрафной (строгорежимный) лагпункт;
щипач – карманник;
юрцы – нары;
я тебя работаю начисто – убью;
Восспоминание о рассказе
Я помню, как слышала этот рассказ в первый раз. До мелочей помню, хотя было это… (Отсчитаю от первого фильма года полтора – получается шестьдесят четвертый). Да, в шестьдесят четвертом мы с Ларисой Шепитько и с Валентином Ежовым сидели в Болшево, в нашем знаменитом, воспетом теперь во многих мемуарах доме творчества и работали над сценарием, а по вечерам слушали Галича, живого, сорокапятилетнего, написавшего тогда еще не очень много песен, так что мы все их уже знали наизусть.
И вот однажды, когда Галич все песни перепел и категорически отложил гитару и когда все с неохотой разбрелись по комнатам, прибегает Ежов и кричит громким шепотом:
– Пойдемте! Только – никому!.. Фрида и Дунского уговорили прочесть рассказ! Вы такого никогда не слышали и не услышите! Только – чтоб никто не увязался…
Пробираемся бесшумно, приходим в тесную комнату, где Галич вздремнул за спинами Фрида и Дунского, и видим, что при нашем появлении авторы как-то нахохлились, завяли и прячут рукопись. А тут еще Элем Климов, муж Ларисы, с режиссерской непреклонностью велит нам выйти вон. Нельзя женщинам – и все тут. Авторы – люди чрезвычайно вежливые, а с дамами вдвойне любезные, улыбаются уклончиво – мол, мы барышням очень рады, вы сидите, сидите, но пусть лучше Александр Аркадьич споет. И надо бы нам уйти, не портить людям вечер, не ссориться с Климовым, не показывать себя настырными хабалками, но мы – сидим, мы внедряемся, мы видим их неистощимое джентльменство и пользуемся. Я канючу:
– А может быть – мы уши закроем? – под общий, разумеется, хохот. И тут прогрохотал Ежов:
– Да как вам не стыдно, да какие же это женщины?! Они не женщины, они ВГИК закончили, они пишут, снимают, им все можно, скажи, Саша!
Галич проснулся и подтвердил, что мы не женщины, нам все можно, и большинством голосов ведено было читать.
Честно говоря, мы были как раз те девушки из благовоспитанных слоев общества, где не матерятся вообще, а блатной мир представляют не реальнее Змея Горыныча, и нам бы как раз и падать в обморок, Климов не зря беспокоился, он думал – мы и слов-то таких не знаем. Но мы не упали. Более того, оказалось, что слов, которых бы мы не слышали прежде, очень мало. Валерий Семеныч Фрид читал артистически, а Юлий Теодорович Дунский делал сноски, пояснял блатную лексику так быстро, что не нарушал волны повествования. Оно нас захватило сюжетом, героем, кинематографической зримостью и стройностью, и напрасно авторы, словно оправдываясь, предваряли чтение извинениями – мол, это словесный эксперимент, чтобы не забыть лагерную речь – мы записали…
То было время, когда мы еще не читали Солженицына, когда едва возник Высоцкий и сочинял каждый день по новой песне для узкого круга друзей, но еще не нашел своего хриплого голоса. То время, когда «интеллигенция поет блатные песни», оказалось лучше, чем когда она вовсе петь перестала.
Осенью 1968 года, на очередном семинаре, мы снова стали уговаривать Фрида и Дунского прочесть рассказ. Маша Хржановская (организатор и душа нашего тогдашнего семинара) обратилась к Дунскому, так сказать, «на голубом глазу»: «Вот мы слышали, и многие хотят…» Глаза у Маши действительно голубые, обращение деликатное, но Дунский ответил полным отказом: «Нет, мы при дамах никогда это не читаем». «А вы знаете, кто хочет послушать рассказ? Николай Робертович Эрдман…», – сказала Маша, и не успела она назвать имена других «стариков» – Вольпина и Каплера, как Дунский вытянулся (а был он очень сутулый) и безоговорочно согласился. А там и мы прошмыгнули за спинами стариков – мы с Ильей Авербахом и Маша.
То было очень важное чтение: старики «знали матерьял», они получили свои сроки задолго до Фрида и Дунского, в комментариях и переводе с блатного они не нуждались. Они очень высоко оценили рассказ. Представляю, как бы смеялись, если б узнали, что этот рассказ дословно напечатан, – Ю. Т. Дунский, А. А. Галич, Н. Р. Эрдман, М. Д. Вольпин, А. Я. Каплер, И. А. Авербах, Л. Е. Шепитько.
Может, они и смеются, и все им известно про нас.
Кинодраматург Н. Рязанцева







