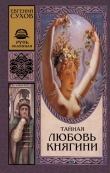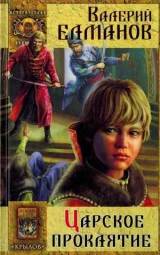
Текст книги "Царское проклятие"
Автор книги: Валерий Елманов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Сказывали, что еще в детстве родители отдали его в подмастерья сапожнику, так Васятка, когда купец попросил мастера стачать ему красивые и прочные сапоги, чтоб хватило лет на пять, не меньше, залился безудержным хохотом. Когда заказчик ушел, мальчишка в ответ на расспросы хозяина пояснил, что ему стало уж больно чудно – человек собрался носить сапоги несколько лет, а они ему не понадобятся уже завтра. И точно – купец умер на следующий день.
А потом Васятка ушел от хозяина. Наложив на себя вериги, ходил зимой и летом полуголым, просил Христа ради милостыньку вместе с нищими. Их в ту пору бродило по Москве много – и Осенник, и Вошва, и Огнище, и прочие. Васятку прозвали Нагой, чтоб отличить от всех прочих с этим именем.
Ночи он проводил на церковных папертях, особо облюбовав церковь святой Троицы, что у Фроловских ворот. На расспросы любопытных отвечал загадочно: «Красы будущей не узреть, так хоть рядышком с нею побывать – и то в радость». Потом, когда вместо обветшалой деревянной церквушки возвели храм Покрова на рву, эти слова стали понятны, а по первости они были туманны, как, впрочем, и любое другое его пророчество.
Однако, невзирая на размытость его изречений и предсказаний, Васятку все равно спрашивали. Он отвечал как есть и… как будет, причем голимую правду. Даже присказка у него была соответствующая: «Неправда и пригожа, да негожа, а правда нага, да дорога». Отвечал не всегда, иной раз лишь скорбно возводил глаза к небу, а в другой – заливался от безудержного смеха – поди пойми.
За правду ему поначалу доставалось – кому она нужна-то, горькая да противная? Еще пуще приходилось в кружечных дворах, куда он тоже частенько захаживал, хотя с пьяным зельем дружбу не водил, шарахаясь от чары с хмельным медом как черт от ладана. Захаживал же туда, дабы предостеречь и уберечь. Там его предсказания были особенно мрачны, да и откуда им взяться, хорошим-то, коли место поганое.
Но шел год за годом, и вскоре Васятку, как продолжали ласково звать его москвичи, уже и пальцем никто не трогал – боялись. Во-первых, за святого человека, кой не свои – господни словеса сказывает, всевышний и покарать может… если успеет, потому как, и это уже во-вторых, тебя гораздо раньше затопчут сами горожане. Так вдавят в землю, размазав для надежности, что потом никто не отскребет.
Да и кто в здравом уме поднимет руку на заступника города, который в 1521 году сумел отмолить Москву от злобных татар? Денно и нощно бил Васятка поклоны в церквах, и крымский хан Мухаммед-Гирей, который уже встал у стен столицы, так и ушел восвояси, не решившись штурмовать город.
С той поры стал Васятка в великом почете. За честь почитали коснуться его тряпья – авось перейдет с заскорузлой одежонки кроха святости. Нагим звали уже редко. Чаще блаженным – один он такой – ни с кем иным не спутаешь.
Вот он-то сейчас и вышагивал следом за Анфиской. Та несколько раз тревожно оглядывалась на него, но Васятка молчал, лишь неотрывно глядел на корзину, а по его лицу блуждала слабая улыбка – то ли виноватая, то ли просто печальная. Губы юродивого шевелились, и непонятно было – то ли молитву он читает, то ли еще что. «Не иначе как отпевает», – пришла в голову Анфиски догадка, и она немного успокоилась.
До городских ворот блаженный не дошел самую малость, бросив девушке на прощание загадочную фразу: «А живых-то хоронить господь не велит – грех это». И снова непонятно – при чем тут живые, когда в корзине, окромя двух мертвеньких, никого нет?
«Чудит Васятка», – подумала Анфиска, оглянулась, чтобы переспросить, а тот уже исчез. И тоже как-то неожиданно, вдруг. Улица пустая, дома вокруг все тыном окружены, да таким глухим и высоким – ни нырнешь, ни подлезешь. Куда ж делся-то? Постояла Анфиска в раздумье, но потом, по здравом размышлении, пришла к выводу, что на то он и блаженный, коему такое дано, чего ни один из простых людей содеять не в силах.
Да и некогда ей было – дальше к реке брести надо. Было там у нее хорошее местечко, близ бережка, да в кустиках, куда никто не лазил. Там она обычно мертвяков и прикапывала. А куда их еще-то? Они же некрещеные, так что почитай и не люди вовсе. Если бы хоть три-пять деньков пожили, чтоб успеть к попу сбегать, – иное дело, но с теми и поступали по-другому. Куда их после девать – сами родители решали, али их отцы с матерями.
Земля в том месте рыхлая, так что ямку даже без лопаты отрыть за три «Отче наш» можно, самое большое – за пять. Опять же дело привычное, только зябко немного, ранним утром на исходе лета солнышко обманкой становится – свет дает, а тепла не чуется.
Но едва откопала ямку, как за спиной что-то мяукнуло. Оглянулась Анфиска – не видать никого. Она сызнова рыть. И вновь пронзительное мяуканье. Да что ж это за котенок, где он тонет-то? На этот раз к ямке не поворачивалась – на реку глядела и – дождалась. Только на этот раз прямо над левым ухом мяуканье раздалось, а точнее – под ним. Из корзины.
Тут-то девка и села. Это что же выходит – еще чуток, и она живого младенца прикопала бы?! Вот не было печали! Да ладно она сама, но как же бабка Жива промахнулась? А потом вспомнила, как та еле успела передать ей дите и тут же, прижав руку к левой обвислой груди, стала оседать. Не до того, значит, ей было. Да и не ожидала она, что третий, который по всем статьям покойником должен быть, живым окажется. Хотя живым ли?
Девушка скептически заглянула в корзину. Ишь ты, синенький какой. Шевелиться почти не шевелится, но мявкает исправно. Ой, да ему же холодно! Хорошо, грязные полотенца в той же кошелке лежали – вот и сгодились. Заодно и омыла мальца.
Прохладная, правда, водица в реке, ну да чего уж – терпи, княжич. Сейчас тебе не до палат великокняжеских – до дома бы донести, чтоб не помер.
А по пути, пока бежала, чуть со смеху не покатилась. Это что ж получается? Тот, первый, самый настырный – всех распихал, да и сам чуть не застрял. Еле вытащили его. Второе дите, что мертвенькое пошло, девкой оказалось. А этот свое вежество еще в утробе выказал – уступил будущей бабе дорожку. Мол, давай, выбирайся, а я уж следом. И от этого он стал для девки как бы еще симпатичнее и… роднее.
«Настоящий княжич», – с уважением подумала она, припускаясь еще быстрее. А навстречу ей откуда ни возьмись вновь Васятка. Заглянул ей в лицо, покачал головой, а потом взял и перекрестил корзину. Глянула на него Анфиска, да чуть не ахнула – у блаженного по щекам слезы текут, да не одна-две, а чуть ли не ручьем. Анфиске даже не по себе стало.
– Ты что, Васятка? – спросила ласково, а юродивый, не ответив, лишь отмахнулся с какой-то досадой, да укоризненно погрозил ей пальцем.
– Ой, гляди, девка, – протянул многозначительно.
«Знает, – ожгла ее догадка. – Все знает. И что чуть живого не прикопала – тоже ведает. Ох, стыдобища!»
Раскраснелась Анфиска, от лица жаром пышет, хоть в печку на разжижку суй, глаза от смущения опустила и стоит, молчит, да все ждет, что худого Васятка напророчит. Грех-то немалый. Но блаженный тоже молчит. Глаза подняла, ан его опять нет и куда делся – неведомо.
У Анфиски словно гора с плеч. Вздохнула с облегчением, что ничего тот ей не насулил, и дальше, да все бегом, бегом, в их терем-теремок, где всегда сухо и тепло. «Кто ж повитуху звать станет, коли в дом к ней придет, да узрит, что она сама неряха», – приговаривала бабка Жива, и Анфиска каждую неделю старательно намывала с полынью полы и стены, чтоб не завелись клопы да блохи, а раз в месяц еще и скоблила сливочно-желтую столешницу и лавки острым черепком. От всех этих трудов простора в доме, конечно, не прибавлялось, но уюта было – хоть отбавляй.
За хлопотами с дитем незаметно прошел день, и нести его обратно стало поздно. А к вечеру новая напасть – младенец стал срыгивать молоко, которым она его поила, а сам даже не плакал – мяучаще стонал, страдальчески скривив побагровевшее личико.
Хорошо, что у Анфиски память славная. То, что ей бабка Жива говорила, все помнила. Вот и сейчас вроде бы к утру затихло дите, но все едино – плох личиком. Куда такого нести – по дороге помрет и ей же в вину поставят – не уберегла княжича. А не нести тоже никак, его ведь кормить надо, а чем, коли он коровьей титькой брезгует, да сиську бабью просит?
Но и тут вывернулась, вспомнила, что совсем недавно они с бабкой у матушки Евлампии – жены священника в церкви святой Татьяны, что совсем рядом с ними, третьи роды принимали. Сам-то поп так – огузок мыльный, ни кожи, ни рожи. Один лишь глас басовитый – даже дивно порою, как из такой тщедушной груди столь могучий рык раздается. Ну да господь с этим попом – ей матушка нужна, а она – та еще бабища. Видела Анфиска как-то раз, как она своего благоверного под мышкой домой несла, когда тот надрался где-то по случаю пасхи. Легко так тащила, не напрягаясь. И дойки у нее торчат – корова со своим выменем обзавидуется. Вот у кого молока должно быть немерено. Сказано – сделано. Вмиг оделась, дите в корзину сунула и к ней на поклон, выручай-де, матушка.
Та – баба добрая. Поохала, покивала головой и левую грудь выпростала. Ох, как присосался младень. Видать, коровье молочко как зашло в него, так и вышло, а тут и ручонками сучит, и чмокает, чуть не задыхается, а все никак не оторвется от титьки. Никак боится, что опять голодом морить станут, впрок набирается.
А про княжича она почему-то говорить ничего не стала. Да и что тут скажешь – ныне жив-здоров, а завтра бог весть. Случись что – ничего не докажешь. Так и бегала по три раза на дню к матушке, а та и рада стараться – все равно у нее еще оставалось изрядно.
А бабка Жива вернулась домой лишь на седьмой день – раньше не отпускали. Заплатили, правда, по-княжески, да еще сам Василий Иоаннович перстень с искристым опалом с пальца стащил да одарил на радостях. Бери, стара, носи. Ну, и рублевиков, само собой, напихали. Подсчитали – два десятка, хоть деревню покупай, правда небольшую. Жива поначалу довольна была, пока мяуканья не услыхала, а как младенец первый раз голос подал – аж подскочила на лавке.
– Это кто? – спросила испуганно.
Анфиска смущенно пояснила, после чего тут же за заветным пузырьком метнулась – сызнова старухе поплохело. Да и было с чего. Как ни крути, а выходит, что внучка, согласно повелению бабки, чуть дите в землю не закопала. Заживо. А главное – чье?!
– Как сердце чуяло – не надо было туда идти, – жалобно подвывала Жива, прижимая руку к груди и скорбно раскачиваясь на лавке из стороны в сторону. – Ну и как мы теперь его вернем?! – напустилась она вдруг на внучку. – Что скажем-то? Мол, заберите еще одного – промашка вышла?
– И чего уж такого? Да государь лишь рад будет – был один сын, а стало два. Еще и наградит небось.
– Рад?! – визгливо завопила старуха. – Так ведь сказали ему уже, что одно дите родилось, и все. Теперь помысли, что он со мной, да и с тобой сотворит за лжу подлую?! Плахой он нас за то одарит, вот и вся недолга!
Анфиска молчала.
– И еще об одном помысли, – продолжала Жива. – Ежели хоть одна моя товарка дознается, что я живое дите за мертвое приняла – все. Кто там разбираться станет, что я сама на волосок от смерти была?! Такого даже у тебя николи… а я… на старости лет…
– Так что же – убить нам его, что ли?! – возмутилась внучка.
– Тю на тебя, девка! – опешила повитуха. – Думаешь, почто меня Живой зовут? Да потому что я в жисть никому плод не вытравливала. Иной раз понимаю, что надо, что так-то оно лучшей для всех будет, ан длань не поднимется. Советом подсобить, как самой скинуть, и то еле-еле язык ворочается. Вон, иди к Потычихе али к Марфе юродивой – они подсобят. А ты – убить. Я в головницах на старости лет ходить не желаю.
– А чего делать-то?
– Чего раньше творила, то и дале делай, – сердито отрезала Жива. – У матушки корми, а там что-нито примыслим. Можа, я к брательнику своему младшому отправлю. Он доселе кузнечит гдей-то там, под Коломной.
– А как же Москва? – вновь не поняла Анфиска.
– Ишь, Москва-а, – насмешливо протянула повитуха. – Всем Москву ныне подавай. В иных-то градах жисть куда как поспокойнее.
– Особливо в селище, али в деревне, – съязвила Анфиска. – А уж как славно повитухе в починке поживать, середь трех домов, где и вовсе трудиться не надо. Тока за безделье у нас не платят.
– Тут твоя правда, – согласилась Жива. – Опять же меня тут в Москве все знают, а коль ныне ты со мной, то и тебя знать будут. – И махнула рукой. – Ладно, оставайся. Егда час мой придет – заменишь.
Но заменять не пришлось. Спустя пять лет, в конце сенозарника, когда за весь месяц на город не упало ни одной капли дождя, Жива решительно заявила:
– Вот что. У меня сердце болезное, а потому чуткое. Зри, сушь кака стоит? Ежели далее такое протянет – непременно пожары грядут. Езжай-ка ты, девица, к моему брательнику Стрижу, да отсидись там.
– А ты?
– Мне все едино – помирать. Да к тому ж, ежели что – меня та же боярыня Челяднина примет, а вместях с дитем нам туда и носу совать нельзя.
– Почему?
– Нешто ты забыла, что близнята они получились – тот, что у нас, и тот, что у них? – вздохнула Жива. – И что теперь делать – ума не приложу. Одно твердо ведаю – уходить надобно. Ежели кто сходство приметит – пиши пропало.
– А мы не скажем, – насупилась Анфиска.
– В Пыточной и не такие прыткие во весь голос певали. Все ты, милая, поведаешь, без утайки. Еще и лишку наплетешь – лишь бы мясо с костей кнутовищем не срезали. Рублевиков я тебе дам с собой, не сумлевайся, а там сама помысли – то ли тебе у Стрижа оставаться, то ли сюда воротиться, но без младенца, – вынесла приговор Жива.
А спустя всего пару дней полыхнуло-таки. Воздух дрожал от жара, жалобно стонали колокола, истекая кровью-медью, люто трещали от пламени деревянные избы. Хорошо, что Анфиска рано поутру повела Третьяка купаться на изрядно обмелевшую реку – потому и спаслись.
Вернулись назад – вместо дома пепел один и гарь, да еще обгорелое до неузнаваемости тело. Чье? А поди пойми. Что бабье – определить еще можно, что старушечье – по зубам, точнее, их отсутствию, тоже, а вот в остальном…
Добро тоже пошло прахом. Хорошо, хоть отыскала на пепелище спекшийся серебряный слиток, за который удалось выручить четыре рублевика – и на том спасибо. Да и то один из них Анфиска по доброте душевной отдала уцелевшей погорелице-матушке. «За добро надобно платить еще усерднее, чем за зло», – учила бабка, а у внучки память хорошая была – не забыла титьку матушкину.
Добрались они до селища довольно-таки быстро, вот только Стрижа в нем не оказалось. Сказывали, что помер он о прошлое лето. Куды далее идти – неведомо. Подумала Анфиска, да и подалась в холопки. Уж больно ей княгиня Воротынская по душе пришлась, жалостливая такая. Так как-то и прижилась.
Про Третьяка же сказывала, что это ее дите, а про мужа врать не хотелось, потому ничего и не говорила. А вот лет мальцу добавила. Немного, всего-то на годок, да и то лишь на всякий случай. Мало ли. Вдруг это отличие подсобит, если что. Только спокойная жизнь у нее недолго длилась. Лет пять прошло, и не стало Анфиски – сгорела в жару за три дня. В те времена от многих болезней лекарств не ведали, так что никто особо и не удивлялся: «Бог дал – бог и взял». Суровая жизнь тогда была на Руси. Так и остался Третьяк один, а видя любовь мальчишки к лошадям – приставили парня на конюшню. Дело нехитрое – пусть учится. Да и куда еще холопа направишь, а тут, глядишь, со временем в старшие конюхи выбьется.
Теперь получалось, что он и впрямь выбился.
Только не в старшие…
Глава 7
Из грязи, да…
Третьяку, точнее сказать, Иоанну, потому как про Третьяка велено было забыть напрочь, на новом месте все очень понравилось. До мелочей. Было приятно, просыпаясь чуть свет, откидывать теплое атласное одеяло, какого он раньше и в глаза-то не видывал. Доставляло наслаждение жадно впитывать в себя все новые и новые знания, льющиеся на него со всех сторон полными увесистыми ковшами – и от старого Федора Ивановича, который, шутка сказать, цельный князь, и от благообразного отца Артемия с его густой окладистой бородой, который любил, чтоб всегда, везде и во всем был порядок.
Даже деревья вокруг их избушки, и те были какие-то необычные, совсем не похожие на оставленные в селище далеко под Коломной. Величавые сосны – не обхватить в одиночку – стояли горделиво-надменно, вздымая высоко кверху свои ветви, густо-густо унизанные иголками-пальчинами. Или ноготками? Ну, это уж как кому нравится.
Несмотря на то что избушка была невелика, места хватало всем в избытке. Трапезная – отдельно, кухонька, которую почти на две трети, а то и поболе занимала огромная печь – отдельно, и даже светелки для каждого из троицы – тоже отдельно.
Нравилось ему и домовничать, хотя теперь обязанностей по хозяйству у него, почитай, не было вовсе. Разве что, да и то с видимой неохотой, его изредка посылали к ручью по воду, а вода в том ручье была такой ледяной, что ломило зубы, но зато и сладкой, словно замешена на меду. В остальном же – полный запрет.
– Тебя сюда не домовничать привезли, а отучаться от оного, – лаконично пояснил Федор Иванович.
А еще ему нравилось управляться с оружием – с сабелькой, с луком, с пищалью. Всему этому Иоанна обучали трое ратников – огромный богатырь Леонтий Шушерин, гибкий и ловкий Ероха и некто Стефан Сидоров, у которого тело было испещрено большими багровыми шрамами. Воины натаскивали его по очереди, поскольку на их плечах лежала и охрана, и выполнение других распоряжений Федора Ивановича.
Каждый обучал тому, в чем считался особо силен. Шушерин виртуозно владел мечом и вострой сабелькой, Стефан обожал коней, а с пищалью лучше всех обращался Ероха, хотя сам о себе он был иного мнения.
– Я-то ладно, – любил приговаривать Ероха, когда они садились немного передохнуть. – А вот брат мой, Петро, так тот гораздо хлеще может управляться. Он из пищали на двести шагов в цель бьет и завсегда попадает. Жаль, что прихворнул не вовремя, потому и пришлось мне на его место становиться. А ты поимей в виду – сабелькой порубить можно, да назад потом не склеишь. Кровь людская не водица, чтоб ее расплескивать без нужды. Помни о том, государь.
Последнее слово Иоанну тоже очень нравилось. Величать им его принялись чуть ли не с первого дня, едва разъяснили что к чему. Поначалу он искренне считал, что над ним подшучивают. Ну, не укладывалось в голове, что на самом деле его мать – не та Анфиска, которая с пяток лет назад в одночасье отдала богу душу, а великая княгиня всея Руси Елена Васильевна Глинская. Ему даже парсуну [103]103
Парсуна – небольшой поясной портрет.
[Закрыть]со строго-надменным ликом молодой женщины показывали, а он все равно не верил. Показывали и другую парсуну – с изображением его отца. Тут почему-то веры было больше. Может, потому, что не с кем сравнить – отца-то он и вовсе не знал, а может, по какой иной причине.
Возникал у него и вполне логичный вопрос:
– А за что они со мною так?
Отвечали обтекаемо. Дескать, злые люди утащили, а убить – рука не поднялась, грех-то какой, вот и подкинули дите девке Анфиске, а та, по простоте душевной, взрастила, сама не ведая, чей ребенок.
– А теперь этих злых людей нет, что ли? – не понимал Третьяк.
– И теперь они есть. Потому и собираемся тайно тебя на твой стол усадить, – поясняли ему.
– А брат мой как же? – продолжал недоумевать Третьяк.
– Как господь рассудит, так и станется, – с трудом подыскивал нужные слова Федор Иванович.
– А меня он за какие грехи так покарал?
– Не покарал, – вступал в разговор отец Артемий. – То было лишь испытание, кое он тебе даровал.
– Хорош подарочек, – недовольно ворчал Третьяк.
– Да, даровал, – твердо повторял отец Артемий. – Сказано в святых книгах, что золото испытывается в горниле уничижения, – и, чтобы пресечь дальнейшие расспросы, командовал: – А теперь мигом за стол, да повтори-ка мне «Символ веры».
И Ивашка послушно плелся за чисто выскобленный стол и начинал излагать заданное ему с вечера. Но из уроков больше всего ему приходились по душе те, которые вел Федор Иванович. У того всякий раз появлялся какой-нибудь интересный зачин, после которого хотелось слушать и слушать. Хорошо отложились в памяти бывшего думного дьяка слова мудрых: «Насильное обучение не может быть твердым, но то, что входит с радостью и весельем, крепко западает в души внимающим».
Не всегда это удавалось Карпову, но исключения были крайне редки. Однажды он катнул к Иоанну монетку с изображением какой-то уродливой женщины с большим крючковатым носом и острым подбородком и поинтересовался с ехидцей:
– Какова она по-твоему? В женки себе взял бы?
Иоанн даже закашлялся от возмущения.
– А ну как проснусь в нощи? Я ж с перепугу орать бы учал.
– А меж тем ее благосклонности домогались многие государи. На трон же она взошла, выйдя замуж за своего родного 12-летнего брата Птолемея XIII. Было ей тогда семнадцать годков.
– И как же митрополит ей дозволил за брата-то? Грех ведь, – удивился ученик.
– Это было еще до того, как Христос родился, – пояснял Федор Иванович. – Звали сию язычницу Клеопатра VII Филопатра, а римский пиит Гораций прозвал ее фатале монструм – роковой ужас.
– И впрямь ужас, – покосившись на монету, согласился Иоанн с неведомым Горацием.
– Плутарх же писал, что облик оной царицы дивно сочетался с редкостной убедительностью ее речей и великим чарованием…
– Ежели с чарованием, выходит, она ведьмой была?
– Сам ты ведьма, – уныло вздыхал Федор Иванович. – Просто она себя так вела, что надолго запоминалась каждому мужу, кой встречался на ее пути.
– Еще бы, – охотно согласился Иоанн. – Мне и то ее рожа враз запомнилась, хошь я ее токмо на одном рубле и видал. Лишь бы не приснилась, – добавил он, подумав.
– Сам ты – рожа! Великий цезарь, и тот прельстился ею и не устоял. Она его обворожила, – не унимался Карпов.
– Ну точно! Я же сразу почуял, что ведьма, – обрадовался бестолковый ученик, после чего Федор Иванович, махнув рукой, без особых прикрас перешел непосредственно к самому Гаю Юлию Цезарю.
Однако такой конфуз с думным дьяком приключался редко, а кроме того, Карпов всегда умел обстоятельно и точно ответить на любой вопрос. С Артемием же дело обстояло чуточку сложнее. Хотя тут он и сам был виноват. Он, да еще Федор Иванович. Последний даже побольше.
– Не дело пироги разбирать, коли хлеба нет, – приговаривал Карпов. – Допрежь учебы выучись мыслить, как оно да что. Вникать стремись, чтоб разобраться до тонкостев. Учить без понимания все равно что яйца в ступке пестиком плющить, чтоб они поплотнее легли.
– Да вопрошать не боись, – добавлял старец. – В учебе безгласну быть нельзя. Дитя не плачет – мать не разумеет. Откуда мне ведомо, что ты не уразумел, коль ты в молчании пребывать станешь. И бояться того, что недопонял, тоже не след. Никто за это надсмехаться над тобой не станет – на то она и учеба.
Не следовало приучать к этому Ивашку, ох, не следовало. Не княжеское это дело – думы думать. Поначалу-то тяжко у него выходило, со скрипом да с натугой, зато потом, когда пообвык, такие каверзные вопросы стал задавать, которые были способны поставить в тупик не только старца, но и епископа с митрополитом. Уже первый вопрос Ивашки чуть не вывел Артемия из себя. Уж больно его слушателю не понравилась случившееся с Каином и Авелем.
– Как же так? – удивлялся он вполголоса. – Господь ведь, когда выгнал их из рая, мясо вовсе вкушать запретил, а велел питаться им всяким произрастанием. Каин, как ему и сказали, хлеб растить начал. Авель же зарезал первородных от приплода и принес в жертву всесожжения. Выходит, он божий завет нарушил, а тот все равно его жертву принял. Получается, сам Авель Каина на убийство и соблазнил. У того-то как раз правильная жертва была, вот только ее почему-то не приняли на небесах. Конечно, ему обидно стало. Он все как велели делал, вышло же, что он плохой, а брат хороший. Разве это порядок?
Старец, склонив голову, лихорадочно размышлял. И впрямь, порядку получалось маловато. Как ни крути, а выходило, что этот долговязый юнец прав в своем удивлении и возмущении. Но если он прав, тогда кто же не прав?.. Кто? От таких мыслей его даже бросило в жар. Он искоса поглядел на Иоанна, который, не обращая на старца внимания, что-то искал в книге «Бытие». Не иначе как еще одну каверзу готовит. И точно.
– Вот тоже непонятно, – ткнул Иоанн в рукописный текст. – Тут ведь написано, что господь создал человека по образу и подобию своему.
– И что же? – сердито спросил Артемий, в то же время ощущая облегчение от того, что не надо отвечать на предыдущий вопрос.
– Стало быть, святые, кои плоть свою измождают, с божьим образом воюют? А почему ж они тогда святые?
– По образу и подобию – то про душу сказано, – после некоторого раздумия нашелся старец. – Про душу, но никоим образом не про плоть.
– Это у нас такая же душа, как у бога? – наивно восхитился ученик, и Артемий вновь потерял дар речи, да и что тут ответишь.
Скажешь: нет у бога души – кощунство. Не такая она, как у человека? А как же по образу и подобию? Пришлось, путаясь и невнятно бормоча, рассказывать про божью искру, коя и подразумевается тут, когда речь идет о подобии. Мямлил он долго, пока сам вконец не запутался настолько, что оборвал себя на полуслове, после чего спросил:
– Теперь понятно?
Иоанн неуверенно пожал плечами, но повторить не попросил.
«И на том слава богу», – облегченно вздохнул Артемий, заканчивая занятие, но на следующий день все повторилось, только теперь старец должен был пояснить, почему Ной оказался таким злым праведником: проклял Хама и Яфета лишь за то, что те немного посмеялись над ним, увидев его голого и пьяного.
– Сам же виноват, – убежденно доказывал он. – Вон у нас в Калиновке кузнец Охрим напьется и ходит по селу, песни горланя. Да так забавно, что над им все суседи смеются. Так что же он теперь – проклясть всех их должен?
– То соседи, а то – родные сыновья. Понимать должны, – поучительно заметил Артемий.
– Сынов-то, чай, еще жальчее должно быть, – ответил Иоанн. – Ну отругай их, коли они такие бестолковые, накажи как-то, а тот же сразу проклинать кинулся. – И немедленно делал глубокомысленный вывод: – Да у нас, выходит, в деревне все праведники, коли из-за такой малости детишек не проклинают, – и, почесав в затылке, добавил: – И не пойму я, как он узнал, что они смеялись над ним. Он же дрых без задних ног. У нас в Калиновке бабка Маланья и тверезая так храпит – из пушки не подымешь, а тут пьяный. Не иначе как опосля Сим на братьев своих донес, боле некому. А князь Воротынский сказывал завсегда: «Доносчику первый кнут». Вот и надо было с Сима начинать.
Вопросы плодились и множились. То Иоанн возмущался тем, что господь убил Эзру за то, что тот коснулся его ковчега.
– Он же поддержать его хотел, – бубнил обиженно, – чтоб как лучше.
– Нельзя касаться, – терпеливо пояснил Артемий. – Запрещено.
– А не поддержал бы, так тот бы вовсе свалился. Ковчег в грязи изгваздать лучше, что ли? – не уступал упрямец.
То ему не нравилась казнь, учиненная жителям Содома и Гоморры.
– Ну, те, кто большие – понятно. Раз его заповедь нарушили, так чего уж тут. А с дитями как быть? Ты же сам, отче, сказывал, что младенец не повинен еще ни в чем.
– Не было там детей, – в сердцах опрометчиво ляпнул Артемий и тут же, при виде удивленных глаз Иоанна, раскаялся в сказанном, но было поздно.
– А что ж за град такой? Ну вот коль детей нет, так они давно померли бы. Али там бабы не рожали? А как же тогда?..
Старец наивно полагал, что, дойдя до Нового Завета, ему станет легче, но ошибся. Вопросов не убавилось, а прибавилось.
– За что Исус [104]104
Исус – именно так произносили на Руси в то время имя Христа. Сдвоенную букву «и» ввел во времена раскола патриарх Никон.
[Закрыть]смоковницу проклял? Неправильно как-то.
– За бесплодие, – пояснил Артемий, обрадовавшись, что хоть один вопрос оказался относительно легким, но, как выяснилось, ликование оказалось преждевременным.
– Так тут же сказано, что не время было собирания смокв. Это ж все равно что яблоню зимой проклясть. Разве ж дело? Взял и безвинное дерево загубил. За что?
– То притча была, – попытался втолковать старец. – Притча о бесплодии.
– Так он бесплодие проклял? – догадался Иоанн.
– Ну да. Теперь-то понятно?
– Не-а. Вот у нас в Калиновке баба Нюта совсем старая. Ей уж нипочем не родить. Так что ж, выходит, ее каменьями забить надо, коль она бесплодная?
Дошли до смертных мук и распятия Христа, и снова объявились вопросы:
– А вот разбойника-то, коего вместе с Иисусом распяли. Разве же Христос прав, когда его в рай с собой пообещал взять?
– Но он раскаялся, – устало вздыхал Артемий.
– Да где ж?! – удивлялся Иоанн и тыкал ему под нос текст с Евангелием. – Вон, всего-то и сказал, что не по правде Христа распяли, да попросил помянуть его, когда тот придет в царствие свое небесное. Это что ж, он всю жизнь убивал да грабил, а за такую малость сразу в рай?! А ведь те, кто не христиане – они в аду горят?
– Да! – утвердительно произнес старец.
– А хорошо ли это? Выходит, его же жертвы невинные, ибо убиенные допрежь того, как Христос объявился, – в аду, а сам разбойник – в раю. Первый человек, кто после Христа в рай вошел, – тать шатучий [105]105
Тать шатучий – разбойник, грабитель (ст.-слав.).
[Закрыть].
А то брался выписывать что-то и после, изумленно подняв брови, всматривался, будто сам не верил написанному.
– Это что ж, выходит, в евангелии от Матфея и от Марка лжу рекут? – шепотом спрашивал он у Артемия.
– Почему лжу? – в свою очередь удивлялся тот.
– Я ж на прошлой неделе учил имена двенадцати апостолов, кои ты мне назвал и чьи лики на иконах в церквях.
– Так что?
– А нет в церквях никакого Левея, прозванного Фаддеем, как то Марк и Матфей сказывают.
– То есть как нет? – не верилось священнику.
– Так и нет. Там Иуда Иаковлев, яко у Луки прописано. И апостола Нафанаила, коего Иоанн в своем евангелии поминает, тоже нет. Это что же, все три обманывают? [106]106
Не следует думать, что во всем виноваты переписчики книг того времени. Сейчас Библия давно печатается типографским способом, однако в евангелиях от Матфея и от Марка по-прежнему отсутствуют Иуда Иаковлев, который упомянут только в евангелии от Луки, но все равно занимает место среди двенадцати учеников Христа в любом церковном иконостасе. Но зато присутствует некий Левей, прозванный Фаддеем (у Матфея) или просто Фаддей (у Марка). Как поясняют в церкви – эти имена носит один и тот же человек, который просто имеет несколько имен, но в практике того времени у евреев не водилось давать несколько имен… Кроме того, в церкви нигде нет и апостола Нафанаила, указанного в евангелии от Иоанна.
[Закрыть]
И вновь Артемий вслед за дотошным учеником лез в указанные места и с превеликим для себя ужасом обнаруживал, что дела обстоят именно так, как излагает этот назойливый юнец. И получалось, что указанный у Иоанна-богослова апостол Нафанаил в церкви и впрямь не упоминался среди двенадцати учеников. Ни он, ни загадочный Левей, прозванный Фаддеем, который присутствовал у Матфея и Марка.
Это была последняя капля в чаше терпения, после чего старец понял, что дело заходит слишком далеко. И вечером, жалея лишь о том, что не начал с этого гораздо раньше – ну кто ж знал, что такая надоеда попадется?! – Артемий, усадив юношу подле себя, растолковал ему, что мудрствовать и умничать гоже, но не при чтении святого писания, коему надлежит только верить. Это особенно важно, потому что если такие ненужные вопросы станет задавать великий князь, на поведение которого смотрит весь остальной народ, начиная с бояр и заканчивая холопами, то что же тогда будет?..