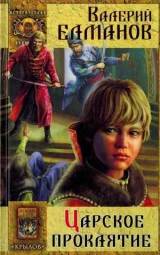
Текст книги "Царское проклятие"
Автор книги: Валерий Елманов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Глава 1
И аз воздастся
– Молод ты еще, Иоанн Васильевич, чтоб мне перечить, – нарочито низко склонился перед тринадцатилетним мальчишкой в глумливом поклоне князь Андрей Михайлович Шуйский.
На губах у боярина, возглавлявшего великокняжескую Думу, играла ироничная усмешка. Он торжествующе оглядел присутствующих, которые затихли, прислушиваясь к разговору долговязого тринадцатилетнего подростка, обряженного, как детская кукла, в дорогую одежду, со всесильным временщиком.
– Подрасти поначалу, а уж потом и мне указывать примешься. Тока допрежь того попомни сперва, сколь наш род для тебя добра содеял, – размеренно, словно вбивая гвозди в дощатые половицы, вколачивал он свои слова в юнца, который вновь осмелился ему перечить.
– Добра?! – возмущенно вспыхнул Иоанн, но Андрей Михайлович даже не счел нужным дать ему договорить.
– Добра! – утвердительно и жестко произнес он, словно ставя точку. – Неужто забыл, как тебя мой двухродный братан [23]23
Братан – степень родства на Руси. Означала двоюродного брата. Соответственно, двухродный братан – троюродный брат. Родного брата иногда именовали «самобратом».
[Закрыть]князь Василий Васильевич от подлых изменщиков спасал?! Да ведь не раз. Плоха, стало быть, у тебя память.
– Я помню, – зло прошипел княжич, и глаза его наполнились слезами от обиды.
Добро бы, коль она оказалась бы первой, а то вон их сколько сотворилось за все время. Считай, с самого детства, даже когда была еще жива мать. То тебя в нарядной одеже, богато расшитой золотыми и серебряными нитями, ведут на отцов столец, с почетом усаживая на место, выше которого на Руси ничего уже нет. При этом все тебе угодливо кланяются и обращаются с тобой, как с истинным правителем, а едва раскрываешь рот, чтобы сказать не то, чему тебя терпеливо учили, а свое, как тут же, не слушая, перебивают, и сами говорят совсем иное, но от его имени. Это каково? Выходит, повсюду ложь и обман?
А еще он хорошо помнил ту страшную ночь, пятилетней давности картину, которую застал холодным апрельским вечером в постельном покое своей матери, великой княгини всея Руси Елены Васильевны Глинской. Вызвали его туда в неурочный час, хотя время было уже позднее – пора отходить ко сну. Даже не дав одеться, прямо в одной длиннющей ночной рубахе, на полы которой он все время наступал, шлепая по стылым доскам, его отвели на женскую половину кремлевских палат. Там-то он и застал то, что потом врезалось в его память на всю жизнь.
Мать лежала на постели с лицом, белым как снег, да вдобавок неприятно искаженным от мучительной боли. Обе ее руки были прижаты к животу, а изо рта валила пена. Временами ее начинало колотить, и она извивалась от очередного приступа мучительной боли, разъедающей, как ей казалось, все внутренности.
Иоанн, широко раскрыв глаза, смотрел на это, не в силах вымолвить ни слова. От ужаса, охватившего его, он силился, но не мог даже закричать – панический страх, подкативший к горлу, словно невидимой пробкой прочно заткнул ему рот.
– Мама, – наконец прошептал он, но к тому времени, когда он выдавил из себя это коротенькое словцо, стоившее ему мучительных усилий, Елена Васильевна уже затихла, перестав дергаться в конвульсиях, и даже ее руки, которые все время сжимали живот, теперь расслабленно опали, вытянувшись вдоль тела.
– Тебе лучше? – с надеждой спросил он чуть погодя, страшась тягучего черного молчания, воцарившегося в ложнице, и стремясь хоть как-то нарушить его.
Мама в ответ почему-то ничего не произнесла и даже не пошевелилась. Тогда Ванятка повторил свой вопрос. На этот раз ответ последовал, но откликнулась не она, а боярин Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский [24]24
Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский был всесильным фаворитом-временщиком все пять лет правления Елены Глинской до самой ее внезапной смерти.
[Закрыть]– высокий широкоплечий добродушный дядька, сидевший у ее изголовья. Оглянувшись на мальчика, он страдальчески скривил лицо, всхлипнул и произнес:
– Теперь ей уже лучше. Померла она, княже.
– Как померла? Это что – игра такая? – не понял Ваня.
– Насовсем померла, – жестко повторил Иван Федорович.
– Насовсем нельзя понарошку помирать, – горячо возразил мальчик.
– А она не понарошку. Она взаправду, – боярин вдруг рухнул на колени, уткнувшись головой в постель с лежащей княгиней. Плечи его беззвучно затряслись от рыданий.
– Так и не простилась, – вздохнула главная блюстительница порядка на женской половине Аграфена Федоровна Челяднина – родная сестра плачущего боярина, и ее титаническая грудь сокрушенно всколыхнулась. – Пойдем, что ли, Ваня, – ласково обратилась она к восьмилетнему княжичу и властно повлекла за собой, приговаривая на ходу: – Опосля, опосля поцелуешь, да обнимешь напоследок. Вот обмоют тело, тогда уж…
Помнится, потом, уже после похорон, Иван Федорович еще раза три или четыре заходил в покои малолетнего княжича, брал Ванятку на колени и горячо, с жаром, рассказывал мальчику о том, как отравили его маму злые люди, которые ныне со всех сторон окружают княжича, говорил, что теперь и ему самому надобно беречься, потому что убить могут. Слово «отравить» боярин то ли не произносил, то ли оно Ване не запомнилось, зато что такое убить – он знал хорошо. Ему сразу представилось, как злые дядьки с большими черными бородами и с огромными ножами в руках крадутся, бесшумно выползая из темных углов, угрожающе надвигаясь на княжича со всех сторон. Все ближе и ближе они – Ваня испуганно зажмурился, и видение тотчас пропало.
– Я не хочу, чтоб меня убили, – залепетал он испуганно. – Не хочу, не хочу, не хочу!
Нет, он уже не лепетал – истошно выкрикивал свое пожелание. Почему-то казалось, что чем громче он его выскажет, тем больше надежды на то, что страшное видение не воплотится в реальность.
– Я тоже не хочу, – грустно отвечал боярин.
– А ты меня защитишь? – требовательно спрашивал мальчик.
– Меня бы кто защитил, – вздыхал Иван Федорович, но потом, натолкнувшись на изумленный взгляд Вани, тут же поправлялся, обещая: – Конечно, княжич. Пусть только посмеют.
Но голос его при этом оставался таким же унылым и бесцветным, и становилось ясно – не сможет. А что обещает, так это все ложь. Они все лгут.
Так оно и вышло.
Спустя три дня страшная картина из видений княжича воплотилась воочию. Только вместо ножей руки дядек угрожающе лежали на рукоятях сабель, которые они, впрочем, даже не извлекали из ножен – незачем. Имелось и еще одно отличие от кошмара. Одежда на всех них была не черная и мрачная, как представлялось Ване, а обычная, которую носят все ратники.
«Как же так?! Ведь ратники – это моевойско, – подумал княжич. – Выходит, что и они заодин с головниками?!» От таких мыслей ему стало очень горько, а умирать так не хотелось, и он во всю глотку закричал: «Не-е-т!!», прижимаясь лицом к груди Ивана Федоровича, безвольно сидевшего на лавке.
Жесткие золотые нити и острые края серебряных пуговиц на нарядной ферязи боярина больно царапали лицо Вани, но он терпел, ища спасения в этом добродушном улыбчивом человеке и надеясь, что тот сейчас выхватит свою острую сабельку и примется рубить вошедших, рассыпая богатырские удары направо и налево. Но тот лишь суетливо забормотал:
– Вы пошто это? Вы это зачем? Что нужно-то?
– Тебя, – произнес чей-то до ужас знакомый густой басовитый голос. – Тебя нам нужно.
И тут же чья-то рука, цепко и больно ухватив княжича за локоть, властно потащила прочь от последней, пускай и призрачной защиты и опоры.
– Я не хочу! – закричал он во весь голос. – Вон! Все вон! – и умоляюще: – Не надо!
– Нет, надо! – грубо произнес обладатель все того же густого басовитого голоса и потянул еще сильнее.
Ваня сопротивлялся, как только мог, но мальцу, которому и до полных восьми лет не хватало еще целых четырех с половиной месяцев, было не под силу тягаться со здоровенным мужиком, которым как раз и оказался боярином Василием Васильевичем Шуйским. В конце концов Ваню, как котенка, отшвырнули на постель, после чего, по мановению все той же руки Василия Васильевича, двое дюжих ратников, ухватив Ивана Федоровича под локотки, подняли и чуть ли не волоком потащили к выходу. Сам Телепнев-Оболенский идти не мог – ноги его волочились, как неживые, то и дело цепляясь носками красных сафьяновых сапог за половицы.
«Ну, все, – в панике решил Ваня. – Защиту мою забрали, а теперь и меня резать учнут. Точь-в-точь как сказывал боярин». – И испуганно отполз на дальний конец постели при виде угрожающе надвинувшейся на него огромной фигуры Шуйского. Однако Василий Васильевич за длинным ножом в сапог не лез, да и саблю из ножен тоже вынимать не спешил. Вместо этого, подойдя вплотную к княжичу, он указал на дверь, за которой уже скрылись ратники, и обличающе пробасил:
– Он – изменщик тебе, княжич!
Не зная, что еще сказать, Шуйский потоптался подле постели, затем махнул рукой и тоже пошел к выходу. Василий Васильевич вообще не любил попусту говорить, предпочитая делать дело, причем по возможности наверняка. Оттого, имея за плечами долгие годы ратной службы, он ничем особым как воевода, себя не проявил. Не было у него крупных побед, зато не имелось и тяжких поражений.
Молчание же его, за которое Шуйского прозвали Немым, иной раз было весьма красноречивым. Он и в только что взятом Смоленске, сидя там на воеводстве, не больно-то разговаривал. Даже когда к городу, после злосчастной для русского войска битвы под Оршей, подошли войска Сигизмунде I Старого, возглавляемые Константином Острожским, много не говорил. Но его молчаливый ответ на предложение о сдаче города был гораздо красноречивее – на стене, на глазах осаждающего войска, повесили всех заговорщиков, умышлявших сдать город людям короля. В живых Шуйский повелел оставить лишь епископа Варсонофия.
Висели они при полном параде, в дорогих собольих шубах, в бархатных кафтанах, а на груди предателей болтались привязанные к шеям серебряные ковши и чарки, пожалованные им великим князем Василием III Иоанновичем. После такой расправы желающих изменить больше не нашлось, так что Острожский ушел несолоно хлебавши.
– Как… изменщик? – прошептал потрясенный Ванятка, но Василий Васильевич то ли не расслышал, то ли не захотел давать ответа – вышел молча.
Ближе к ночи княжич обнаружил, что нет и его мамки, которая тоже куда-то исчезла. Прочие же холопы на все его расспросы виновато отводили взгляд и ничего путного не сообщали. Лишь много позже он узнал, что Аграфену Федоровну взяли под стражу даже чуть раньше, чем брата. Только ее, в отличие от Ивана Федоровича, не стали заковывав в железа, бросать в темницу и морить голодом. С мамкой великого князя поступили гуманнее, попросту отправив в дальнюю обитель под Каргополем. Но это знание пришло потом, а сейчас Ванятка оставался совершенно один, позабытый не только сановниками своего отца, но и холопами.
«Все меня бросили. Никому-то я не нужен», – мелькала тоскливая мысль, и он грозился кулачком невесть кому:
– Вот погодите-ка, вырасту, дак я вам всем покажу!
В ложнице было пусто. Правда, оставался меньшой брат Юрий [25]25
Георгий (Юрий) Васильевич «Московский» (1532–1563). С августа 1560 года князь Угличский и Калужский.
[Закрыть], но с него проку было мало. Глухонемой, а вдобавок еще и слабоумный, он мог только радостно или горестно гугукать, четко улавливая настроение самого Вани. Иногда выходило невпопад, но на сей раз получилось одинаково, так что полночи братья проревели, уткнувшись друг в дружку.
– Один ты у меня и остался, – вытерев слезы, наконец-то успокоился княжич. – Остальные все – изменщики, – и пожаловался: – Тебя-то небось не тронут. На што ты им, такой, нужен? А вот за мной не ныне, так завтра непременно придут. С ножами, – добавил он, подумав.
Юрий понимающе гугукнул и… уснул, оставив Ваню наедине с тягостными думами. Княжич же, немного полежав в уголке, куда он стащил всю постель вместе с одеялами и подушками, заснуть не мог. Во-первых, не выходили из ума головники [26]26
Головник – предок современного слова «уголовник». Только в то время на Руси так называли исключительно убийц.
[Закрыть], а во-вторых, было стыдно – он же специально оставил Юрия спать с краю, чтобы когда придут резать, то в темноте ошиблись. Однако и меняться с меньшим братом местами он тоже не хотел – страшно. Вместо того он, прихватив подушку и одеяло, перебрался в другой угол, решив, что теперь поступил по справедливости и тут уж все в божьей воле. В какой угол их господь направит, туда и пойдут коварные ночные тати.
На всякий случай он еще помолился, чтобы они выбрали не его сторону, но чью – не называл. Вышло, что от себя он беду отгоняет, но и на брата ее не наводит. Лукавил, конечно. Понимал, что это нехорошо, но ничего поделать с собой не мог – уж больно страшно.
Убийцы в ту ночь так и не пришли, но княжич все равно запомнил ее надолго. И он, несмотря на юный возраст, уже сейчас догадывался, для чего Василий Васильевич, спустя несколько месяцев после той ночи, женился на Анастасии, дочери татарского царевича, названного Петром, которая по матери приходилась малолетнему Иоанну двоюродной сестрой. Вначале породниться с царской семьей, а затем…
Впрочем, Василий Васильевич и без этого родства уже творил что хотел. Не понравилось ему, к примеру, что князь Иван Федорович Бельский, которого со смертью Елены Глинской выпустили из темницы, не желает ходить в его подручниках. А каково было тому подчиняться Шуйскому? Он-то сам куда как знатнее его.
Василий Васильевич лишь муж двоюродной сестры этого мальчишки, именуемого великим князем. Бельский же свой род ведет от потомков Ольгерда. Получается, что по отцу он – из Гедеминовичей, а по матери, Анне Васильевне, рязанской княжне, которая доводилась Иоанну III родной племянницей, он у нынешнего Иоанна и вовсе в двухродных братанах.
Ох, какие свары разыгрывались в Думе, когда Иван Федорович да его сподручник Михайла Васильевич Тучков начали советовать сидевшему на отцовском стольце княжичу пожаловать боярством Юрия Михайловича Голицына, а Ивана Ивановича Хабарова – окольничеством. Чуть ли не до драки дошло у Бельского со вставшим на дыбки против этих назначений Василием Васильевичем и его младшим братом Иваном. Поначалу-то криком обходились, а потом и руки к бородам потянулись. А ее тронуть – такое оскорбление, которое только кровью смывают, больше ничем.
На Василия Васильевича в такие минуты и вовсе было страшно глядеть – и без того тучный, тут он и вовсе багровел, да так, что кожа на лице приобретала синюшный оттенок. И никому из них не было дела до перепуганного восьмилетнего мальчика, робко вжимавшегося в один из уголков тяжелого массивного стольца, и ему оставалось лишь запуганно смотреть на бушующих сановников, не зная, что сделать и что предпринять, а мечтая лишь об одном – побыстрее бы все закончилось, пусть хоть как.
Закончилось же по обыкновению Василия Васильевича – меньше слов, а больше дела. И покатили его противники, застигнутые врасплох и не ожидавшие, что он пойдет на такое самовольство, кто в ссылку, кто в тюрьму.
Больше всего досталось думному дьяку Федору Мишурину. Хотя он и сам виноват – когда Рюриковичи да Гедеминовичи в свару вступают, худородным в нее лучше не соваться. Своих, памятуя о знатности крови, они еще могут пощадить, хотя тоже не всегда. Зато остальным головы не сносить. Нет теперь Василия Иоанновича, который тебя из прочих выделял, так что сиди тихо и не лезь, куда не просят, а полезешь – пеняй на себя.
Люди Шуйского, нимало не чинясь, вломились к дьяку на подворье, содрали с него всю одежу, чтоб сраму побольше, и нагого отволокли к плахе, где и отрубили ему голову. Вот так, без суда и следствия, расправлялся со своими врагами князь Шуйский.
Но не успел Немой осуществить свою затею до конца. Темпераментная молодая женушка, в жилах которой наполовину текла горячая татарская кровь, всего за пять месяцев выжала из немолодого боярина все соки. Да и то взять, не мальчик он был, далеко не мальчик. Пускай и хорохорился, но на возраст посмотреть – только в боярском чине хаживал тридцать два года. Всех же лет имел под шесть десятков, и ничего удивительного, что он в ноябре того же 1538 года скончался.
– Я хорошо помню Василия Васильевича. И чтоон сделал, тоже, – многозначительно повторил угловатый подросток в нарядной одеже, но Андрей Михайлович намека не понял, приняв все за чистую монету.
– Это правильно, – одобрил он. – И как самобрат его, Иван Васильевич, тебя от Бельских спас, тоже припомни.
Подросток скрипнул зубами и медленно процедил:
– И о том мне не забыть.
А услужливая память мгновенно выплеснула то, что так хотелось бы выкинуть из нее. Начал младший брат Немого с того, что повелел митрополиту Даниилу удалиться в монастырь, а на его место возвел радушного игумена Троицкой Сергиевской обители Иоасафа Скрыпицына. Возвел и, как выяснилось впоследствии, промахнулся. Не сразу, а спустя лишь полтора года осмелевший Иоасаф выхлопотал у десятилетнего Иоанна приказ об освобождении Бельского.
Шуйский в сердцах наорал на сжавшегося в комочек великого князя, зловеще пообещал, что этот брат изменника [27]27
Речь идет о родном брате Ивана Семене Федоровиче, который в 1534 году бежал в Литву сразу после казни брата Василия Иоанновича Юрия Ивановича Дмитровского. Впоследствии воевал против Руси, но и там попал в опалу и бежал в Стамбул, откуда в 1537 году прибыл в Крым, уговаривая хана Сахиб-Гирея (1532–1551) выступить на Русь. Последнее известие о Бельском датируется 1541 годом.
[Закрыть]еще себя покажет, и надменно удалился к себе на подворье, рассчитывая, что без него никак не обойдутся и не сегодня, так завтра, за ним непременно прибегут. Однако никто не приходил, а спустя время ему, опять-таки по указу великого князя, повелели ехать во Владимир, дабы боронить восточные рубежи от обнаглевшего казанского хана. Делать нечего, пришлось покориться.
За время отсутствия Шуйского Бельский развернулся вовсю. Именно тогда из темницы выпустили Евфросинью, вдову дяди великого князя Андрея Ивановича [28]28
Андрей (церк. имя – Евгений) Иванович (1490–1537) – четвертый сын Иоанна III Васильевича. Князь Старицкий. Женат с 1533 года на княжне Евфросинье (в иночестве – Евдокии) Андреевне Хованской из рода Гедеминовичей. Имел сына Владимира (1533–1569).
[Закрыть], три года назад умерщвленного по приказу Елены Глинской. Урожденная княжна Хованская вышла на свободу не одна, а вместе с малолетним сыном Владимиром. Юному княжичу вернули и Старицу, и прочие земли, входившие в удел его отца.
Тогда же сняли оковы, в которых он томился почти полсотни лет, с князя Дмитрия, сына Андрея Васильевича Угличского [29]29
Андрей Васильевич Большой Горяй (1446–1493). Третий сын Великого князя Василия II Васильевича Темного. Князь Угличский с 1462 года. В 1491 году по повелению своего старшего брата великого князя Иоанна III был посажен в темницу «за ослушание», где и скончался от голода. Вместе с ним были посажены его сыновья Иван (1477–1522), принявший впоследствии монашество и признанный святым под именем Игнатия, и Дмитрий (1483–1542).
[Закрыть], доводившегося великому князю Иоанну IV двоюродным братом. Этому свободу не дали, поместив его в Спасо-Прилукском монастыре в Переяславле-Залесском.
Словом, не забывая о своих выгодах, Бельский и впрямь старался навести порядок в стране, не чураясь и милосердия. Однако прочим боярам, тем же князьям Михайле и Ивану Кубенским, Дмитрию Федоровичу Палецкому, а особенно остававшимся в Думе Шуйским такое резкое возвышение Ивана Федоровича пришлось не по душе.
Составился заговор, и в ночь на 3 января 1542 года Иван Васильевич Шуйский, самовольно выехав из Владимира в Москву, учинил очередной переворот. Были схвачены и сам Бельский, отправленный в заточение на Белоозеро, и Иван Хабаров, сосланный в Тверь.
Еще один сторонник Ивана Федоровича князь Петр Щенятев попытался укрыться в покоях малолетнего великого князя, надеясь, что здесь его искать не осмелятся. Спустя час стало ясно, что прибывшие с Иваном Васильевичем новгородцы настроены весьма решительно и имя великого князя их не остановит. Тогда Петр попытался уйти «задними дверями», но был схвачен и отправлен в Ярославль.
Тогда же, разбуженный грохотом камней, которыми забросали его келью неистовые новгородцы, попытался укрыться в покоях Иоанна митрополит Иоасаф. Смертельно перепуганный, он обнимал точно так же трясущегося от страха Иоанна, в памяти которого мгновенно всплыли события трехлетней давности.
Потом владыка со вздохом отстранил мальчика и тоже выскользнул следом за Щенятевым. Ему повезло больше. Схватившие князя люди Шуйских довольно потянулись прочь, и митрополит сумел добраться незамеченным до Троицкого подворья. Правда, там ему пришлось несладко. Рассвирепевшие новгородцы, посланные за владыкой, чуть не убили Иоасафа. Если бы игумен отец Алексий да вступившийся за митрополита князь Дмитрий Палецкий не удержали их, навряд ли бы тот выжил.
А Иоанн навсегда запомнил, как весь день по его покоям расхаживали с обнаженными саблями наглые самоуверенные пришлецы из Новгорода и, подозрительно прищурившись, вопрошали у мальчика:
– А цто, великий князь, тоцно ли ты никого больше не схоронил? Луцце сознайся, пока мы добрые. Сам зри, мы супротив тебя ницего не творим, токмо твоих изменщиков изництожаем.
Полтора года прошло с тех пор, а этот ненавистный цокающий говор до сих пор стоял в ушах Иоанна. Помнил он и собственное бессилие, и злость от сознания того, что ни выгнать их, ни заставить выполнять свои повеления он не в состоянии. Только рассмеются ему в лицо, да на этом все и закончится.
И еще он запомнил, как князь Иван Васильевич, почти такой же огромный, как и его старший брат, подарил ему в ту пору щенка. На, дескать, играйся, а в державные дела не суйся. Ох, с каким наслаждением, представив себе раздосадованное таким сообщением лицо ненавистного князя, подросток скинул его с высокого крыльца своего терема и еще долго стоял, услаждая свой слух жалобным скулением щенка. На губах его играла довольная улыбка.
Он и следующий день начал именно с того, что быстренько спустился вниз, чтобы посмотреть – сдохла псина или нет. Щенок оказался на редкость живуч. Тонкий слой снега возле крыльца смягчил его падение, он еще шевелился, еле слышно постанывая от боли в переломанных ногах. На мгновение в сердце подростка шевельнулась жалость, а в голове мелькнула здравая мысль, что вообще-то этот шевелящийся комочек ни в чем не повинен, но тут же все вновь заполонил возникший облик самодовольного Шуйского, стоящего перед ним в старой дорожной шубе, подбитой изрядно вытертыми от долгой носки куницами.
– А вот же тебе, – произнес Иоанн мстительно и, восхищаясь собственной отвагой по изничтожению подарка князя, с силой наступил ногой на пушистый комочек.
Под сапогом хрустнуло, во все стороны брызнула какая-то неприятная слизь, и щенок перестал шевелиться.
Может быть, он и не осмелился сказать в глаза Ивану Васильевичу, как поступил с его даром, но по возвращении с обеда его ждало новое унижение. Вальяжно расположившись в великокняжеских покоях как у себя дома, Шуйский еще и положил свои толстые ноги прямо на отцовскую постель. Последнее, конечно, было не от вызывающего пренебрежения – а кому там кидать вызов? – а просто они у князя сильно затекли.
Тут-то, при виде такого бесчинства, мальчишка и не выдержал, выпалив в лицо Ивану Васильевичу и совершенно не задумываясь о возможных последствиях:
– Не по ндраву мне твой кобелек пришелся, княже, так я его того, с крыльца скинул. Он там и доселе валяется, так что, ежели хошь, сходи погляди.
Сказано было задиристо, с вызовом, и Шуйский поначалу даже опешил от такой напористости. Но замешательство длилось недолго. Спустя минуту он широко улыбнулся, решив перевести все в шутку, и беззаботно махнул рукой:
– Да и ляд с ним, с кобельком-то. Я тебе другого принесу, побойчее.
И принес.
В тот же день Иоанн скинул с крыльца и второго кобелька, о чем не преминул сообщить князю.
Неугомонный Шуйский притащил третьего.
Этот подростку чем-то понравился, и он даже хотел было его оставить у себя, но потом представил, как станет самодовольно ухмыляться князь, решивший, что переломил мальчишку, и, выбросив из сердца ненужную жалость, злорадно отправил щенка следом за двумя собратьями.
Просто так оставлять подобную дерзость было нельзя, поэтому Иван Васильевич пояснил боярам, что у великого князя, видишь ли, объявилась новая забава, и он, Шуйский, мешать ей не собирается – чем бы дитя ни тешилось.
Однако именно это обстоятельство сыграло зловещую роль в судьбе белозерского узника. Решив, что долговязый подросток может выкинуть что-нибудь еще, Шуйский, уже будучи больным, на всякий случай подослал в мае месяце своих людишек на Белоозеро, после чего Иван Федорович Бельский приказал долго жить.
Но никому из смертных не дано предугадать своего собственного последнего часа, и властвовал Иван Васильевич недолго. В том же году, более того, за день до смерти Бельского, не стало и его самого. Выпавшую из рук бездыханного верховного правителя власть тут же ловко подхватили родичи – троюродные братья Ивана Андрей и Иван Михайловичи, прозванные Частокол и Плетень. К ним присоединился и еще один потомок плодовитого Василия Кирдяпы [30]30
Василий Дмитриевич Кирдяпа (1350–1403) – старший сын Дмитрия-Фомы Константиновича, князя суздальского и нижегородского, князь суздальский и городецкий.
[Закрыть], оставившего в истории недобрую о себе память своим откровенным предательством [31]31
В 1382 году именно Василий Кирдяпа и его брат Семен уговорили осажденных москвичей открыть ворота хану Тохтамышу, в результате чего Москва была сожжена.
[Закрыть], князь Федор Иванович. Последний был из молодых и двоюродным братом Андрею и Ивану доводился не он сам, а его отец Иван Васильевич по прозвищу Скопа, которое прилепилось к нему так прочно, что его сына Федора называли уже не иначе как Скопин-Шуйский [32]32
Именно его внук, Михаил Васильевич Скопин-Шуйский (1587–1610), проявит себя как талантливый полководец в недолгую эпоху правления царя Василия IV Иоанновича Шуйского.
[Закрыть].
А великий князь Иоанн неожиданно для самого себя обнаружил, что это занятие – сбрасывать щенков с высокого крыльца, а следом за ними и котят, само по себе может быть весьма увлекательным. Особое наслаждение доставляло ему чувство, что в кои-то веки он наконец-то стал истинным властелином, который властен над жизнью и смертью своих подданных. А то, что в их число входили пока что одни лишь четвероногие, ничего не значило – дай только срок, который – Иоанн это чувствовал – уже не за горами.
Надменный и беспринципный хапуга, отозванный за свою любовь к посулам и прочие грехи с псковского наместничества обратно в Москву, Андрей Частокол забавам юного князя тоже не мешал, в точности повторяя поведение своего троюродного брата Ивана.
«Пущай тешится», – повторял он, а сам, совместно с родичами, нещадно разворовывал великокняжескую казну, в чем их как-то раз осмелился обвинить Федор Воронцов, успевший завоевать доверие Иоанна. Но Федор не рассчитал удара. На него тут же ополчились не только Шуйские. Встали на дыбки все, кто принимал участие в этом приятном занятии, включая князей Пронских, Кубенских, Шкурлятева и прочих.
Больше всех, разумеется, злобствовали основные расхитители – князья Шуйские вместе с… казначеем Фомой Головиным, который и сам не раз запускал лапу в сокровищницу. А что? Грех не попользоваться, когда остальные воруют. Хотя, конечно, лукавил. Если бы даже никто не воровал, он все равно бы не угомонился, не видя в этом ничего особенного. Да и покажите хоть одного честного министра финансов на Руси? Вот то-то и оно.
И хотя дело происходило в столовой [33]33
Столовая палата – означает палату, где стоит стол, то есть трон великого князя, то есть специальное помещение для заседаний Думы.
[Закрыть]палате, то есть на совете у великого князя, и хотя при этом присутствовал не только Иоанн, но и духовный владыка, воры не стеснялись ни того, ни другого.
Избитый, в разодранной одежде, Федор Воронцов насилу вырвался из рук разъяренных бояр, которые были взбешены до того, что еще чуть-чуть – и забили бы его до смерти. Более того, глядя на эти оскаленные рожи, на раззявленные в неистовом крике рты, брызжущие слюной, Иоанн не поручился бы, что не достанется ему самому, осмелься он только влезть в это побоище, чтобы разнять дерущихся.
И счастье Воронцова, что тяжелые шубы, которые из тщеславия понадевали на себя думные бояре, несмотря на теплое бабье лето, стоявшее на дворе, изрядно мешали их владельцам как следует приложиться к обидчику.
Было и еще одно счастье – это… Иоаннова трусость. Испугался великий князь, что еще чуть-чуть, и Федор, не выдержав побоев, закричит во всю глотку о том, кто подучил его сказать о воровстве. Очень уж хотелось Иоанну посмотреть, как будут корчиться уличенные бояре, а оно видишь как обернулось на самом деле.
Представив, как Воронцов обвиняюще тычет в него своим пальцем, долговязый подросток, всем своим обликом с каждым годом все отчетливее напоминающий великого деда Иоанна III, трусливо поежился и вздохнул от облегчения, лишь когда его любимец вырвался из их рук. Однако радость его длилась недолго. В полутемных сенях Федор Семенович обо что-то неловко зацепился и был вновь застигнут своими преследователями.
Беспомощно оглянувшись по сторонам, Иоанн заметил сокрушенно покачивавшего головой митрополита Макария, сменившего к тому времени владыку Иоасафа, и умоляюще уставился на него. Макарий, правильно поняв взгляд великого князя, со вздохом пошел в сени. Следом за ним Иоанн послал и бояр Морозовых, которые, как и Воронцов, в расхищении не участвовали – никто не приглашал, а потому в душе сочувствовали Федору Семеновичу.
Наконец кое-как, ценой множества унижений, разодранной рясы Макария, на которую специально наступил неистовый казначей, снизойдя к увещеваниям духовного владыки и просьбе великого князя, дерзкого обвинителя оставили в живых, правда сослав его в Кострому. Впрочем, Иоанну и тут дали почувствовать, что он – никто, поскольку сам великий князь просил отправить Воронцова в Коломну.
Пришлось проглотить и это, хотя в душе все кипело. Получалось, что его оскорбляют не только как великого князя, наплевательски относясь к отданным распоряжениям, но и как человека, точно так же игнорируя и его просьбы. А ведь как льстиво и угодливо они кланялись ему на больших приемах, устраиваемых в честь послов иноземных государств. Получалось, что именно так они должны были себя вести и в остальное время, но на деле выходила совершенно обратная картина.
Отомстил Иоанн за свое очередное унижение очень скоро, буквально на следующий день. Замирая от страха перед задуманным, он все же изловчился и, улучив удобный момент, легонько пихнул в бок засмотревшегося на очередного сброшенного с крыльца щенка своего сверстника Мишку, сына князя Богдана Трубецкого.
Это было первое, пока что тайное убийство, которое еще сильнее всколыхнуло в нем то темное и звериное, овевающее его томительно сладкой волной наслаждения всякий раз, когда он запускал в короткий полет очередного щенка.
Он и до того совершал убийства, когда с теми же сверстниками, нарочито разгоняя коней в галоп, на полном скаку врывался в толпу москвичей, нахлестывая плеткой зазевавшихся прохожих. Кто-то получал раны, кто-то увечья, но оставались после таких налетов и трупы. Однако убийства эти совершал он как-то спонтанно, без обдуманного заранее плана. Просто так получалось, вот и все. С Мишкой все было иначе, и Иоанн целых несколько дней гордился собой, что он смог это сделать, а на сердце щемило сладко и чуточку тревожно.
Точно такие же чувства он испытывал, когда наблюдал за работой палачей, которым втайне немножечко завидовал. Ему и самому очень хотелось попробовать. Иоанн был уверен, что ничуть не хуже сумеет ожечь татя кнутом, вырывая клок мяса со спины и обнажая частичку белой кости, которая тут же покрывалась струящейся из раны кровью. А уж орудовать клещами и вовсе не надо никакого умения – подошел, ухватил покрепче, да и рванул на себя. С дыбой, пожалуй, посложнее, и опять же сила нужна – вон они все какие дюжие и широкоплечие, с буграми мышц на спине и на плечах. Но ничего, когда он еще немного подрастет, то непременно попробует.
Палачи мальчишку не выгоняли. Во-первых, как ни крути, а это великий князь, хоть и мал пока годами, а во-вторых, испытывали определенное удовольствие от того неподдельного уважения, которое читалось в устремленных на них глазах подростка. Да что уважение, когда в этих глазах порою вспыхивали даже искорки восхищения.
«Поди ж ты, совсем еще малец, а понимает, что без нас и ему никуда», – всякий раз перешептывались они после его ухода, чувствуя в нем родственную душу.








