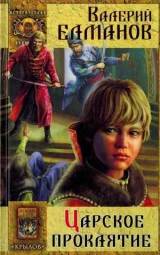
Текст книги "Царское проклятие"
Автор книги: Валерий Елманов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Глава 15
Кто старое забудет
Крохотная, на десяток дворов, Сморода располагалась вдоль опушки леса, который в этом месте как раз выпирал далеко вперед, будто тянулся к маленькой речушке, омывавшей деревню с другой стороны. Тянулся, тянулся, да так и не сумел дотянуться, остановившись в полуверсте от нее.
– Деревня справная! – крикнула с саней разрумянившаяся Настена. – Вон, даже часовенку поставили. – И оглянулась на пятерку ратников, скакавших подле нее.
Она вообще очень часто оглядывалась. Ну никак ей не верилось, что рядом с нею едет сам государь. Правда, царю, на ее взгляд, не мешало бы прибавить десяток-другой лет – очень уж он юно выглядел, как-то не по-взаправдашнему, но потом, по здравом размышлении, она пришла к выводу, что будь он на самом деле старше, то нипочем бы не поехал очертя голову к ней в гости.
«Потому и покатил, что молоденький, – рассуждала она. – Вона как лихо собрался – раз и на конь, да в дорогу. Был бы старый – он бы не только чин блюл. Он бы еще и скупердяем стал, как мой свекор, а так весь долг отдал, до копеечки, – и с легким сожалением подумала: – Не был бы царь – всего бы расцеловала». – И вновь обеспокоенно повернулась вбок – скачут ли, не отстали ли. Да вроде нет, рядышком держатся.
От той радости, что она сейчас испытывала, причем впервые за три последних года, ей неудержимо захотелось крикнуть что-то веселое или – того лучше – взять и запеть. Она ж у себя в селище, когда в девках ходила, первой певуньей на посиделках была. Правда, изрядно с того времени годков прошло, целых одиннадцать – теперь поди вспомни. Из коротеньких песенок, хоть и веселых, как на грех припоминались только скабрезные, да и тех с десяток, по больше, запомнившихся от шедших мимо их селища балагуров-скоморохов. Прочие же песни были все грустные – либо про тяжелую долю, либо про расставание с любимым, либо о прощании с девичеством, которые поют подружки, убирая невесту под венец. На посиделках они – протяжные, с надрывом в голосе – годились как нельзя лучше, а тут…
Наконец, сыскалась подходящая.
Настена даже открыла рот, но тут же, устыдившись своего безумного порыва, закрыла его.
«Ишь чего удумала! – напустилась она сама на себя. – Пра слово, дура баба, да кака дурища-то, Прости господи. Царь под боком скачет, а я – петь. Он же хошь и молоденький, а благочиние понимает. С ним надобно как в церкви, степенно себя вести, с вежеством, а ты?»
И она с силой, до боли прикусила язык – чтоб вдругорядь не позабыться. Прикусила и украдкой вновь скосила глаза на царя. Ага, рядом. Ну и славно. Ишь, как деревню внимательно оглядывает. Впервой, поди. Небось диву дается. У него-то во дворцах все иное.
На самом деле Иоанну было далеко не впервой. Селище у князя Воротынского хоть, разумеется, раз в пять превосходило размерами Смороду, но существенных отличий все равно не имело. Разве что отсутствовали княжеские хоромы, да вместо церкви высилась на дальнем конце убогая часовенка, но в остальном…
Точно такие же хлипкие домишки, наполовину вросшие в землю, издали похожие на маленькие черные кучки, наваленные кем-то посреди поля, пара колодцев с журавлями, амбарушки с клетями…
Словом, все один к одному, не отличить. Вот только отношение у него к ним было не совсем то, что два года назад. Холоп Третьяк считал, что так и должно быть, ибо иной жизни он не знал вовсе. Впервые об этой иной ему рассказал Карпов, готовя к предстоящему. И хорошо, что вхождение в эту новую жизнь у него началось с терема в селе Воробьево. Загородные хоромы хоть и знатные, но с Кремлем их не сравнить. Там бы он точно и онемел бы, и оглох от увиденного, став как его братец Юрий.
Зато потом попривык и вот теперь ловил себя на мысли, что уж слишком далеко отошел от себя прежнего. Чересчур. Нет, в поведении, конечно, иначе и нельзя. Царь есть царь, и было бы странно, если бы он продолжал вести себя как холоп. Но отошел и внутри, решительно отметая все прошлое, а это уж понапрасну.
«Кто старое забудет, тому глаз вон, – вспомнилось ему, и он невесело улыбнулся. – Быть тебе одноглазым, Третьяк. И хорошо, что попались тебе на монастырском подворье эти мужики, вместе с Серпнем и Настеной. Хоть вспомнишь теперь – как оно простому люду живется. Но уж на этот раз не проворонь, накрепко в памяти удержи».
Домишко Настены на фоне других выглядел очень даже прилично. Не иначе как ее покойный ныне супруг был рукодельный. Соседние избушки вовсе вросли в землю, а этот стоял прочно, твердо. Да и снег на крыше лежал ровненько, а значит, дрань не сгнившая и держится крепко. Даже солома, торчавшая из-под снега по краю крыши, и та выглядела аккуратно, не высовывалась неряшливыми лохмами и пучками.
Перед входом Настена немного замешкалась, с виноватой улыбкой заметив:
– Прибраться перед гостями дорогими надобно, а то наозорничали, поди, мои оглоеды, ан и держать вас на улице негоже. Так что вы уж не серчайте, ежели что не так.
Иоанн улыбнулся и двинулся вслед за хозяйкой в избу. На крылечке чуть приостановился, тщательно вытер сапоги о настеленную на полу солому, служащую половичком. Солома вообще была повсюду. В противоположном от печки углу лежал небольшой тюфяк, набитый ею же, а на полатях, как он успел заметить краем глаза – соломницы [166]166
Соломница – простые соломенные рогожки, сшитые веревками.
[Закрыть]. Ими же были аккуратно завешаны маленькие оконца, а в другом углу, «красном», под закопченными образами стоял нарядный сноп-дожинок [167]167
Сноп-дожинок – последний с поля.
[Закрыть]с вплетенными в него васильками с колосьями и зернами, украшенный парой ленточек и подпоясанный все той же соломой.
– Ели? – заботливо спросила Настена дружную пятерку своих детей, сгрудившихся рядом со снопом и опасливо глядевших во все глаза на двух дяденек, таких больших и так нарядно одетых. Все они были в простых холщовых рубашонках, лишь у старшего имелись порты. Он-то и ответил матери:
– Кашу яшную [168]168
Яшная (ячневая) – означает из ячменной крупы.
[Закрыть]я им сварил. Поснедали малость.
– Ты глянь – сумел, – одобрительно заметил Иоанн, еще сильнее прежнего ощущая себя Третьяком.
– Чай, не дите, – ворчливо отозвался тот. – Да и чего там варить-то. – Он пренебрежительно махнул рукой. – И дурень сварит – была бы крупица да водица. Тока без хлеба, да сольцы маловато, а так-то сыть в брюхе есть.
– Хозяин мой, – похвасталась Настена. – Весь дом на нем.
– И сколь же тебе годков, домовитый? – поинтересовался Иоанн.
– Десятый пошел уж, – стараясь говорить как можно басовитее, степенно ответил тот.
– А звать как?
– Первак.
– Ишь ты, – крутнул головой Иоанн. – Похоже-то как. Первак да Третьяк, – и осекся, испуганно покосившись на стоящего позади Адашева, но тот продолжал молчать, с любопытством разглядывая скудное убранство небольшой – метра четыре на четыре – избушки, добрую половину которой занимала русская печь.
– А поп как в церкви нарек? – в замешательстве – лишь бы не молчать – спросил Иоанн.
– Тихоном, – ответил тот.
– Ну, здравствуй, Тихон.
– И тебе подобру, – учтиво откликнулся тот.
– Не холодно тебе босиком-то, Тиша? – продолжал расспрашивать Иоанн, заметив, как он слегка переступает с ноги на ногу.
Твердый пол, густо вымазанный глиной, – это Иоанн знал по себе – зимой, как ни топи, все равно оставался холодным. Пускай топать не по нему, а по все той же соломе, но и через нее несло от глины леденящим холодом, особенно по утрам, когда печь за ночь выстывала, оставляя в избе из всей теплоты лишь собственные кирпичи.
– Ништо, я свычный, – бодро откликнулся Первак.
– А мы тебе и братьям твоим гостинцев привезли, – улыбнулся Иоанн и повернул голову к Адашеву.
Тот понял, кивнул и тут же вышел, но спустя минуту появился, держа в руках два больших мешка.
– Это как же так-то? – всплеснула руками Настена, глядя, как Алексей сноровисто выкладывает на чисто выскобленную столешницу все, что было им прикуплено по цареву распоряжению.
А было там изрядно – и пряники-сусленики, и медовые пахучие ватрушки, а уж пирогов не меньше десятка, да все разные – и грибник, и разные кулебяки [169]169
Кулебяка – так называли пирог с мясной или рыбной начинкой.
[Закрыть], и курники [170]170
Курник – пирог с курицей.
[Закрыть], и даже пять треухов [171]171
Треух – пирог треугольной формы. Как правило, со сладкой начинкой.
[Закрыть]– как раз по числу детей. Глаза у Настены наполнились слезами.
– Как же это? – повторила она шепотом – перехватило от волнения в горле. – Ты ж гость, царь-батюшка, а мне-то для тебя и…
– Вот и отдариваюсь, потому что гость, – попытался успокоить ее Иоанн.
– Ой, негоже так-то, – не унималась она и тут же, скрывая неловкость, накинулась на детей: – Да кланяйтесь же вы, кланяйтесь, пострелята! Да глядите, глядите как следоват! Чтоб запомнили на всю жизнь, кто у вас ныне побывал! То же сам государь наш!
Но пострелятам было уже не до того. Они во все глаза уставились на стол, заваленный снедью. Глаза были тоскливо-голодные, а у самого младшего в уголке рта даже выступила слюна. Он-то и не выдержал первым. Детская ручонка робко потянулась к столу, вначале медленно, затем ускорила движение, молниеносно схватила то, что лежало с краю, и крепкие зубки жадно впились во вкусную ватрушку, норовя запихать ее в рот целиком.
– Ну, а вы чего? – добродушно спросил Иоанн. – Для вас же куплено. Давай, Первак, поснедай, а то одной кашей сыт не будешь. Особенно когда она без хлеба и без соли. Да еще и на воде поди? – осведомился, глядя на хозяйку.
– Это я при мужике моем щи жиром так крыла, что под наваром ничего не видать было, – вздохнула Настена. – А нынче щи хоть кнутом хлещи – пузырь не вскочит. Все толстопузым уходит. Было добро, да давно, а будет добро, да долго ждать, и бог весть, что теперь есть.
– А зачем в кабалу полезла? – строго спросил Адашев. – Али неведомо тебе, что чужие рублевики зубасты – возьмешь лычко, а отдашь ремешок?
– Чай, не без ума, понимаем, – сердито ответила Настена. – Да токмо рублевики эти муж мой упокойный брал. Чаял, что сумеет отдать, и как бог свят – непременно отдал бы, ежели бы с ним беда не приключилась. Потому и каша на воде. Где ж молоку взяться, коли отец Агапий еще по осени повелел корову на монастырский двор свести. Сказывал, половинку долга скостит за нее, а то, что я на них, толстопузых, месяц горбатилась по осени – реза. Это вода вниз несет, а реза завсегда вверх ползет, – и с горечью в голосе – уж больно накипело – попросила царя: – Хошь бы ты окорот им дал, государь. Не зря сказывают в народе, что попам да клопам на Руси жить добро. Вовсе продыху не стало. Нешто гоже так над нами измываться?! Или что же – они, стало быть, божьи люди, а мы чьи?
– Дай срок, милая, дай срок, – твердо пообещал ей Иоанн. – Покамест погодь немного. В одночасье лишь бог переменяет, – и вновь повернул голову к Адашеву: – А корову мы…
Тот со смущенной улыбкой развел руками:
– Прости, государь, но корову прикупить не успел. Да и не ведал я.
– Она и сама прикупит, было бы на что, – последовал непрозрачный намек.
Алексей Федорович вздохнул и полез в кошель, свисающий ниже пояса. Потряс его и вынул пару серебряных монет. Затем, подумав, достал еще одну:
– На корову с лихвой, государь. Тут еще и на кобылку останется.
– Ну, кобылка-то у них есть, а когда Первака к дьячку отправят, чтоб грамоте научился, тогда и сгодится рублевик.
– Вот ишшо, – фыркнул Первак. Рот его, так же как и у братьев, был битком набит едой, но коль речь зашла о нем, то промолчать он не мог. – Дьячку кажный месяц по деньге давать надобно. Эдак-то и по миру пойти недолго. Да и недосуг мне, – добавил он рассудительно. – Я мамане подсоблять должон. Опять же и не в чем мне зимой к нему ходить. Босиком по снегу не больно набегаешься.
– А ты не умничай тут, – звонко щелкнула его по затылку Настена. – Раз царь сказал – грамоту учить, так и будешь. А валенки я тебе прикуплю, не боись.
– А вот валенки как раз прикупать не надо, – заметил Адашев, развязывая узел на втором мешке.
– Ай, молодца Олеша, – восхитился Иоанн. – Неужто и об этом позаботиться успел?
– Я што? Твое повеление исполнял, государь, – учтиво склонил тот голову.
– Да это что ж деется-то?! – плачущим голосом воскликнула Настена, уже не в силах скрыть слез, бегущих двумя ручейками по румяным щекам. – Как же я расплачусь-то с тобой, государь?! – И, осекшись, охнула, глядя во все глаза на богатство, извлекаемое из мешка.
– На вырост брал, хозяйка, ты уж не обессудь, – повинился Адашев, выкладывая перед ней рубашки с нарядно расшитыми воротами и пять пар валенок, из которых самые маленькие как раз были в пору Перваку, а остальные и того больше.
Последними он извлек сапожки – тоже пять пар. С подозрением посмотрев на них, Алексей Федорович перевел взгляд на детей, прищурив глаз, прикинул, вздохнул и сказал в утешение:
– Велико – не мало. Чай, поболе тряпиц в носок подсунуть недолго.
– Ну это все ты вручаешь, хошь и по моему повелению, но токмо для детишек, – задумчиво произнес Иоанн, глядя на обомлевшую хозяйку, которая – ноги совсем не держали – молча сидела на лавке и жалобно глядела на царя. – А хозяйка у нас неодаренная остается.
– На селище монастырском торг знатный, ан все ж с Москвой не сравнить, – пожал плечами Адашев. – Одначе кой-что и для нее сыскалось. Но тут уж тебе надобно вручать, государь. – И, вынув из мешка аккуратно сложенный плат, подал его царю.
– Купчишки сказывали, что чистый хамьян [172]172
Хамьян – один из видов шелковой ткани, привозимой с Востока.
[Закрыть], – усмехнулся Алексей Федорович. – То ли брешут, то ли впрямь, но краше не сыскал, – и, повернувшись к Настене, грубовато сказал: – Да сыми ты, наконец, подбериху [173]173
Подбериха – платок, сшитый из разноцветных лоскутов.
[Закрыть]свою. А вот ни летника, ни шубы не сыскал, государь, ты уж не серчай. Были баские, да я испужался, что не налезет – вона какая она лосевая [174]174
Лосевая – молодая, крепкая, здоровая, привлекательная. Здесь в смысле большая.
[Закрыть]– воеводы позавидуют.
Настена тем временем неловко потянула с головы платок, столь пренебрежительно оцененный Адашевым, и Иоанн поневоле залюбовался открывшемуся его глазам богатству ее светло-льняных волос, ворохом рассыпавшихся по ее крепким плечам.
– И тут схожа, – усмехнулся Иоанн, протягивая ей расшитый плат.
Не то чтобы он сравнивал ее со своей ненаглядной Анастасией Романовной, ан все равно было почему-то отрадно. И вдвойне, потому что вот уже три месяца пребывал с царицей в разлуке, которая к тому же была первой, а потому – непривычной.
– Ишь, три года прошло, а ты все в волосах [175]175
Быть в волосах – быть в трауре. У мужчин это означало не подстригать их, а у женщин носить распущенными.
[Закрыть], – одобрительно заметил Адашев.
Платок, который Иоанн сам развернул и накинул на Настену – та сидела недвижно, по-прежнему будучи не в силах пошевелиться, подошел как нельзя лучше. Наблюдательный Алексей Федорович, уже на торгу припомнив, что глаза у бабы вроде как синего цвета, в последний миг отказался брать зеленый и выбрал темно-голубой, тонко расшитый серебряной нитью, сплетающейся в диковинный узор. Сейчас эта нить в неярком свете горевших лучин таинственно поблескивала, извиваясь, будто язычки неведомого белого пламени.
– А и впрямь славно, – улыбнулся царь, сделав пару шагов назад, к противоположной стене, и любуясь хозяйкой. – Только под такой плат и эдакая одежда вовсе не личит. Ну уж одаривать так одаривать. Вели, Олеша, чтоб шубу мою из тороков вынули.
– На улице не май месяц, государь, – возразил Адашев. – А твоя приволока [176]176
Приволока – богато украшенный боевой плащ. Зимний вариант подбивался мехом.
[Закрыть]хошь и мехом подбита, ан все едино – шубы не заменит.
– Сюда скакал – не зазяб, и обратно долечу – не замерзну, – не стал слушать тот. – Сказываю – неси!
Пока Адашев ходил за шубой, Первак робко подошел к Иоанну, несмело тронул его за руку и рассудительно произнес:
– Ты вон что, царь-батюшка. Я за добро твое и отслужить могу, чтоб не вовсе задарма. Ежели у тебя там в хоромах холопы заленятся, так ты меня покличь. Ну, там, дров тебе наколоть, али печь истопить, али в колодец за водицей студеной сбегать – я ж на все руки мастак. Тока не в это лето. Обгодить надоть, чтоб Хороня, – кивнул он на среднего брата, – в силу вошел, – мамане тож подсоблять кому-то надобно.
– Можно и взять, – серьезно ответил Иоанн. – Мне до зарезу такие, как ты, надобны. И погодить я согласный. А ты грамоте покамест обучись. Как азы освоишь – непременно возьму, – заверил он мальчишку. – Как раз к тому времени и Третьяк у тебя в годы войдет – пусть вдвоем матери подсобляют.
Тишка, слегка опешив, оглянулся на свою братию, потом, сообразив, кого имеет в виду царь, заулыбался, да и было с чего – приятно сознавать что и ты, невзирая на возраст, оказался хоть в чем-то посмышленее.
– То не Третьяк, а Желана, – снисходительно пояснил он. – Сеструха моя.
– Желана, говоришь? – улыбнулся и царь. – А поп яко нарек?
– Василисой, – пискнула пятилетняя девчушка и тут же стыдливо зажала ладошкой рот.
– Ты, расти, Василиса, а уж я сыщу Желане ее Желана, – пообещал Иоанн.
– Я и сама сыщу, – вновь не удержалась девчушка.
– Ишь ты, какая она у тебя бойкая, – подивился царь. – Вся в тебя, хозяюшка.
– И упрямая такая же, – усмехнулась Настена.
– А ты времени даром не теряй – учись покамест, – напомнил Иоанн Тишке, вовремя вспомнив слова Федора Ивановича. – Учение для знатных – украшение, а для бедных – спасение. – И заговорщицки подмигнул.
– Ну, раз такое дело – обучусь, – вздохнул Первак и… тоже подмигнул.
Он хотел было еще что-то сказать, но тут с улицы вернулся Адашев, держа в руках подарок. Походная царская шуба была атласной, на куницах, с десятком серебряных пуговиц, и пришлась Настене в самый раз. Да и выглядела она в ней уже не холопкой, не крестьянкой, а настоящей боярыней – красивой, величественной и… совсем юной.
«А ведь ей и тридцати годков нет, – вдруг понял Иоанн. – Совсем молодая».
А Настена, которую шуба повергла в окончательное смятение, продолжала причитать:
– Да ты что творишь, государь? Такое впору токмо царице носить, да тебе самому. Куда мне ее?
– Куда, куда – носить. На тебя ж поглядеть – княгиня, право слово, княгиня, – искренне похвалил Иоанн.
– Звалась баба княгиней за пустой братиной, – задорно откликнулась Настена и пожаловалась: – Баская она больно. Не личит, поди.
– Чай и ты – не куль рогожный. Баба ты пышная, так что шуба под стать, а то напялила на себя невесть что. Лист красит древо, а одежа – чрево.
– А ты-то как же, царь-батюшка? Прав боярин. Сам-то зазябнешь. Тут-то ладно – быстро домчишь, а до Москвы вон сколь добираться. А ежели мороз?
– У меня еще есть, – усмехнулся царь. – А это простая самая, для походов. – И тут же вспомнил недавнее: трескающийся под пушками речной лед, истошные вопли ратников, барахтающихся в полыньях, и собственную злость, удвоенную от сознания бессилия и невозможности хоть как-то поправить положение. – Для походов, – повторил он, помрачнев.
Глава 16
Ворожба
– Ай не одолел кого? – встрепенулась Настена. – Вона как лицом посмурнел.
– Непогода помешала, – смущенно отвечал Иоанн, вновь на секунду превратившись в Третьяка. – Коль зима не слякотна была бы, то и беды бы не стряслось.
– Так ведь примечать надобно было. У стариков-то поспрошал бы, и любой бы тебе ответил, что ныне летом перелетные гуси вовсе, почитай, на землю не садились.
– И что? – заинтересовался Иоанн.
– А то, что бабье лето будет коротко, а вся осень слезами-дождями исходить учнет. По той же примете зима тоже слякотная выходит. Вот оно так все и получилось.
– Подсказать было некому, – проворчал царь и с упреком посмотрел на Адашева. Мол, ты тоже близ меня ходишь, мог бы и глянуть на гусей. Тот в ответ лишь виновато вздохнул, не став оправдываться.
– Да ты бы не кручинился, государь, ведь молодой совсем, – ободрила Настена. – Ну какие твои лета – навоюешься ишшо, да всех ворогов своих осилишь. Не веришь? А хошь – поворожу? – неуверенно продолжила она.
– Ты что ж, ведьма, что ли? – испуганно спросил Адашев, перекрестился, а затем трижды осенил крестом хозяйку.
– Нешто ведьмы так живут? – усмехнулась Настена, широким жестом обводя скудное убранство своего жилища. – Да и образов святых у них тоже не бывает, а у меня эвон, – кивнула она на иконы.
– Тогда перекрестись, – потребовал Алексей Федорович.
Она неспешно подняла два перста ко лбу, несколько раз неторопливо перекрестилась и не без ехидства поинтересовалась:
– Трех разов довольно ли, боярин, али ишшо?
Тот молчал.
– Могу и крест из-под одежды выкутать, – добавила она. – Я и ворожу-то с молитвой на устах, да на добро. То не иначе меня господь наделил. Иной раз и сама не ведаю, что бормочу, ан глядь – дите-то поправилось, али там кобылка сызнова в силу вошла. Что далее будет – на то поглядеть силов-то поболе надо, но для тебя, государь, все, какие есть, отдам, ничего не пожалею. Так как?
– А что для этого надо? – осведомился Иоанн.
– Опомнись, царь-батюшка, – попытался остановить его Адашев. – С молитвой ли, без, ан все едино – грех великий. Тому, кто родился на свет божий, во тьму ходить негоже. Опять же в правилах святых отец сказано: «Аще кто к волхвам ходит ворожения для – епитимия сорок дней и по триста поклонов ежеден, а потом два лета о хлебе и воде, понеже оставил вышнего помощь и пошед к бесам, веруя в чары и бесам угрожая». Кто ворожит – себе воложит. Да и отец Сильвестр…
– А мы ему не скажем, – перебил Иоанн.
– А на исповеди?
– У меня отец Андрей добрый, – отмахнулся нетерпеливо царь. – Да и кто тебе про чары говорит? Ясно же хозяйка сказала – с молитвой на устах. Не иначе как и впрямь ей дано. Да и сюда господь, может, для того и направил меня, чтобы я сердцем успокоился.
– Возьми у черта рогожу, так отдашь вместе с кожей, – пробормотал Алексей Федорович и, видя решительный настрой царя, попытался зайти с другого бока, усовестив хозяйку: – Тебе-то не стыдно ли за благодеяние злом платить?! Али не ведаешь, что ворожба от беса идет?!
– Сказывала я и еще повторюсь – дар это божий, а не от лукавого, – строго ответила Настена. – Потому и предложила в уплату за дары великие самое дорогое. Нешто не ведаешь, что кто ворожит – свои годы не множит? Скорее уж напротив, убавляет их от себя.
– Икнул бес молоком, да отрыгнул чесноком, – язвительно возразил Адашев, видя, что и здесь толку не будет.
– Корова черна, да молоко бело, – не осталась в долгу Настена, задетая за живое и потому забывшая, кто перед нею стоит. – Чего не понимаешь, боярин, выкидывать не торопись – не тут, так там сгодится. И к бесовскому свои непонятки тоже причислять не спеши.
– Баба что бес – один у них вес, – махнул рукой Алексей Федорович. – Ты бы… – но договорить не дал Иоанн, бесцеремонно вмешавшись в их словесную перепалку, которая ему изрядно надоела.
До поры до времени он помалкивал, ибо первоначальная удаль, с которой он вызвался на эту ворожбу, понемногу стала сменяться неуверенностью. Но пойти на попятную означало выказать себя распоследним трусом в глазах Настены, смазав все то хорошее, что было. Потому он и колебался. Однако, как учил Федор Иванович, не должен советник решать за государя, ибо это не его дело. Раз государь решил, значит, быть посему. Но дабы не получилось так, что и самому захочется отменить принятое, надо как следует все взвесить, поскольку после оглашения решения вслух остается только его выполнять.
Напрашивался только один вывод: «Коль погорячился – выполняй, да вперед думай, а не торопись согласие давать».
– Что от меня-то нужно? – спросил он резко, продолжая немного злиться на самого себя.
– Да одно токмо – чтоб детишков моих укутали потеплее. Дело-то к ночи, а им, вместях с твоим боярином, на улице поджидать надобно. Не зазябли бы.
Иоанн молча расстегнул свою приволоку, кинул ее Адашеву и указал на детей. Тот все еще надеясь на то, что государь передумает, неторопливо стал укутывать младшего. Затем взял его на руки и пошел к двери, неотрывно и с упреком глядя на царя.
– Вот и валенки поновишь заодно, – улыбнулся царь Перваку. – Не боись – там и тебя, и Василису, и братьев мои люди закутают.
Оставшись один на один с Настеной, он нетерпеливо осведомился:
– Еще что от меня надобно?
– Волос один с головы и слюна твоя.
– А кровь? – полюбопытствовал он с улыбкой.
– Не шути так, государь! – сурово ответила она. – Кровь ведьмам потребна для колдовства недоброго. Никому ее не давай, как бы ни просили, иначе худое могут учинить над тобой. У меня ж ворожба, да светлая, от бога. Присядь-ка лучше на лавку да обожди малость, пока я изготовлюсь. Тока вот еще что… – замялась она.
– Что? – эхом откликнулся Иоанн.
– Солгала я самую чуточку – очень уж хотелось тебе за доброту с лаской отплатить, – созналась она.
– Солгала в чем? – насторожился Иоанн.
– Ежели полечить кого надобно – то тут я и впрямь молитву чту, – заторопилась она. – А вот ежели ворожба, то тут без нее надобно. Я и иконы завешиваю. Не забоишься?
– Куда плевать надо? – вместо ответа усмешливо спросил Иоанн.
– А вот чичас я, погоди немного, – засуетилась Настена.
Через пару минут все было готово, и бадейка, доверху наполненная колодезной водой, стояла перед Иоанном.
– А крест с груди тоже снимать? – поинтересовался он, с опаской поглядывая на ворожею, которая все больше и больше, прямо на глазах превращалась в настоящую ведьму.
Нет, у нее не появились во рту желтые искривленные клыки, и лицо с румяными щеками не начало покрываться желтизной и глубокими морщинами. Но чувствовалось в Настене уже нечто иное, не от мира сего, которое до поры до времени сидело где-то глубоко внутри, а вот сейчас, медленно, но непрерывно, словно из черного омута, вздымалось, стремясь выйти наружу.
– Он не серебряный? – строго спросила Настена.
– Золотой.
– Тогда пусть. Нагреется чуток, вот и все, – махнула она рукой.
– А был бы серебряный?
– Раскалился бы так, что всю кожу спалил. Стал бы ты клейменый. Да и с ворожбой ничего не вышло, – пояснила она.
– А ты, Нас… – начал было Иоанн и умолк – ее ладонь властно закрыла ему рот.
– Не серчай, государь. То я успеть должна была, чтобы ты меня по имени христианскому не назвал, иначе… – не договорив, она горько усмехнулась. – Теперь уразумел, почему меня люди Сычихой кличут? – И синие глаза ее, потемневшие до фиолета, влажно сверкнули в полутьме, а на дне их, в самой сердцевине зрачка, уже клубилась какая-то страшная и в то же время завораживающая, манящая к себе бездна.
– Уразумел ли? – не произнесла, скорее выдохнула она в лицо Иоанну, и неестественно расширенные зрачки ее глаз еще больше увеличились. Белков практически было уже не видно – только темно-фиолетовая синь-мгла, а в самой середине клубящаяся чернота.
– Уразумел, – выдавил царь. Непослушные губы его еле шевелились.
– Тогда молчи и зри, – жестко произнесла она и, сжав его голову, наклонила ее к самой воде, которая – странное дело – не стояла на месте, а понемногу вращалась.
«Посолонь» [177]177
Посолонь – то есть по солнцу (ст.-слав.)
[Закрыть], – успел машинально отметить Иоанн, но почти тут же ему стало не до того.
Вращение стало ускоряться, вода помутнела, будто была готова закипеть, на поверхности даже появились небольшие пузырьки, но затем разом пропали, и вот уже в белой, неистово крутящейся кипени появилась первая картина. Он стоял где-то в Москве и вроде бы на Лобном месте, вблизи Фроловских ворот, но, странное дело, ни лавок, ни торговых рядов, ни самих торговцев вокруг не было. Хотя народу собралось много, но весь он был какой-то разношерстный. Стояли люди молча и жадно смотрели на него, Иоанна. Кое-кто даже приоткрыл рот, внимая тому, что говорит государь. Чувствовал Иоанн и свою легкую неуверенность. Точнее, ее испытывал тот, кто стоял перед людом, но в то же время она каким-то загадочным образом передавалась и ему, наблюдавшему все это со стороны.
И тут же все зарябило, покрылось мутной пленкой, и вместо первой картины появилась вторая. Была она непонятная – вроде как он восседает в Думе, но уж больно много монахов и епископов собралось, да что там – почитай только они одни. И тут же ощутил некоторую удовлетворенность, но одновременно и досаду. Точнее, все это чувствовал не он, склоненный над бадейкой, а тот, что сидел там, но в тоже время и он…
Вдруг видение пропало, и вместо него появилось иное, пояснее и попроще – битва, сеча близ какого-то большого града, и даже не сеча, а скорее ее конец. Сама крепость вовсю уже полыхала, и было видно, как внутри ее весело, с азартом машут саблями русские ратники. И враги тоже виднелись, но чувствовалось, что их смертный час уже близок. На душе же царили ликование и радость.
И снова как-то незаметно произошел переход. На этот раз битвы не было – лишь уныло догорали какие-то развалины по правую руку. Град, в который он въезжал, не походил ни на один из русских, а больше на те, какие он видел на фряжских листах. И снова он испытал радость, которая, можно сказать, не оставляла его ни на миг, пока завороженная вода, превратившись в волшебную книгу, каким-то неведомым колдовским образом продолжала сама перелистывать свои страницы.
Затем мелькали младенцы – и Иоанн чувствовал, что он их отец, но тут же следом один за другим возникали и гробики, причем, судя по размеру, явно детские, и в сердце что-то болезненно кололо, потому что лежали там – это царь откуда-то знал – именно его дети. Отчасти успокаивало то, что гробиков, вроде бы было меньше чем младенцев.
Периодически перед глазами мелькали и иные картинки, но были они какими-то туманными и быстро пропадали. Мелькнуло среди них и перекошенное от злости, удивительно знакомое лицо какого-то мужика, причем был он с острым ножом в руке. Но вот видения стали мутнеть, краски сделались тусклыми, и только теперь Иоанн ощутил огненно-горячие, дрожащие от напряжения пальцы Сычихи на своих висках.
– Все! Не могу боле! – раздался измученный голос, и тут же ее руки оттолкнули голову царя подальше от бадейки с водой, ставшей какой-то неприятно мутной.
И вовремя оттолкнули, ибо еще чуть-чуть, и нечто гадкое и склизкое, похожее на желто-зеленый ком слизи, вынырнувшее оттуда, непременно бы попало в лицо Иоанна. Он инстинктивно отпрянул, но ком уже ушел в воду, вновь ставшую прозрачной и обманчиво чистой.
– Попить бы, – хрипло произнес Иоанн, еле шевеля почему-то онемевшим языком и чувствуя, как в горле все не просто пересохло, а… У него не нашлось даже подходящего сравнения. Сказать, что неделю не пил? Или месяц? Скорее, с самого рождения. Словом, за ковш с водой он отдал бы все, тем более бадейка была совсем рядом, и Иоанн уже нацелился было просто погрузить туда голову и пить, пить, пить, но едва начал склоняться над нею, как легкий толчок руки Настены привел его в первоначальное положение.
– Ты что – смерти захотел?! Нельзя ее теперь. Ты лучше поведай, все ли понял из виденного?
– Вначале попить, – прохрипел Иоанн. – А тебя теперь как величать-то?
– Так Настена я, – даже удивилась хозяйка. – Про Сычиху забудь – ушла она далече.
Хозяйка избушки и впрямь ничем уже не напоминала ту, что была всего несколькими минутами раньше. И вновь непонятно – вроде ничего в ней не изменилось – те же распущенные волосы, та же стать, тот же румянец на щеках и те же вишневые сочные губы… Разве что глаза стали иными – запорошенные пепельной усталостью, да еще крупные капли пота, выступившие на челе, да потемневший от него же на груди и подмышками сарафан – вот и все отличие. Ан нет – уже не Сычиха – Настена.








