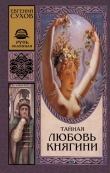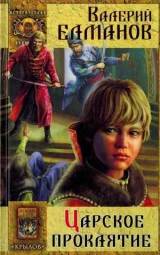
Текст книги "Царское проклятие"
Автор книги: Валерий Елманов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
– Спасением души клянитесь, что исполните, – глухо произнес узник. – Что согласны на муки адовы, ежели нарушите свое обещание.
И в зловещей тишине один за другим прозвучали три голоса:
– Клянемся.
– Клянемся.
– Клянемся.
Эх, знать бы Захарьину задумку царевича. Да что там, едва Дмитрий заговорил – и тут еще не поздно было бы кинуться на него, навечно запечатав поганый рот, несущий такое, что не произнести – слушать страшно.
«Да-а, не дотумкал вовремя, а теперь кайся, – винил себя Михайла Юрьич, уже выходя из темницы. – И что делать – ума не приложу, потому что с таким к великому князю идти – лучше сразу голову на плаху положить али удавиться втихомолку».
Он все равно успел сообразить самым первым, что надо делать, кинувшись вперед, еще пока царевич говорил, но уже больно много времени прошло, пока Захарьин, остолбенев, вслушивался в предсмертные слова царевича. Слишком много. Непозволительно много. Ему бы чуть раньше на Димитрия накинуться, когда тот только начал:
– Ведаете, что неповинным ухожу я на тот свет. Вначале мой дед отрекся от меня, теперь мой стрый, коего мне надлежит почитать в отца место. Даже мать предала, померев так рано. Изгоем стал я в своем роду. Пусть так. Но и сам я тогда отрекаюсь от своего рода. Коли со мной так, то и я тако ж, ибо сказано в святом писании господом нашим [15]15
Здесь и далее слова «бог», «господь», «всевышний» и прочие пишутся автором с маленькой буквы для соблюдения равноправия, ведь не пишем же мы Бог Перун, Богиня Макошь, бог Велес и т. д.
[Закрыть]: око за око и зуб за зуб, кровь за кровь и рука за руку, а за смерть токмо смерть. Но всевышний милосерд и за одну берет одно. Мне же надобно больше…
И тут было еще не поздно, но куда там – стояли как вкопанные. Жена Лота в сравнении с ними [16]16
По библейским сказаниям, жена Лота-праведника, уходящая с мужем из обреченного на погибель города Содома, вопреки запрету бога из любопытства обернулась посмотреть и мгновенно обратилась в соляной столб.
[Закрыть]– живчик юркий. Ни рукой шевельнуть, ни ногой. Придавил их царевич своими словами и этим отречением. Как есть придавил. Не слова из уст у него слетали – камни необхватные. Да как споро-то. Не успели опомниться, как он произнес роковое:
– А посему отрекаюсь и от господа. Пусть мою душу возьмет диавол и будет она ему в радость, ибо не повинна ни в чем. Пусть обречет ее на адские муки, но вначале дозволит мне мстить до тех пор, пока не изведу я весь род, в ком токмо есть семя этой византийской ведьмы! И последнего в роду ждет самая ужасная кара, ибо на нем тоже не будет тех грехов, кои ему поставят в вину, ибо сказано в писании: «Какою мерою мерите, тою и вам отмерят». Самому же Василию предрекаю…
Они все-таки очнулись и кинулись. Разом, спеша и толкая друг дружку, вся троица метнулась вперед. Но руки каждого тянулись не к горлу, а ко рту царевича, невидимого в кромешной мгле, которая и без того была непроглядной, а теперь, казалось, сгустилась еще больше. Не дать сказать ни одного слова – вот о чем они думали в этот миг, лихорадочно нащупывая его руки, ноги, грудь. Лица почему-то никак не удавалось отыскать – что-то неуловимое, таящееся в почти плотной и вязкой темноте мешало их поискам. И даже когда до него добрались, все равно губы и рот были найдены в последнюю очередь.
Узник честно сдержал слово и не пытался сопротивляться своим палачам. Но уж лучше бы он сопротивлялся, отбивался, попытался чем-то ударить или пырнуть, вместо того чтобы продолжать безостановочно говорить и говорить…
– Чиряк, – хрипел он. – Попомню я ему этот чиряк. У самого такой вздуется, что сдохнет, – и все в том же духе.
Когда они закончили, то даже не смогли уйти сразу, а без сил повалились тут же на пол, подле лавки, ничуть не смущаясь близости мертвого тела. В груди что-то трепыхалось, в висках тоненько стучали молоточки, ломило в затылке, а в ушах стоял звон. Звон и какой-то непонятный гул, чем-то напоминающий колокольный. Удары были нечастые, но размеренно-точные. Вначале тоненькие, звонкие – динь-динь-динь, потом все мощнее и мощнее, словно набирая силу. И наконец в дело вступили басы, после которых вдруг разом ударили все, что звучали ранее. Обычно так звонят при погребении [17]17
Действительно, когда происходит отпевание покойника, используют колокольный перебор – медленный звон поочередно в каждый колокол, начиная с самого малого и заканчивая самым большим, после чего следует одновременный удар во все колокола.
[Закрыть]. И можно не спрашивать, кого именно. Без пояснений понятно, что их всех. Только вот до погребения предстоял разговор с великим князем, а рассказав ему об услышанном, о плахе оставалось лишь мечтать, как о чем-то светлом и – увы – недостижимом, что еще нужно заслужить. И муками души тут не отделаться. Каты Василия Иоанновича – народ гуманный, а потому терзать ее не станут, ограничившись одним телом.
– И что теперь? – выдавил сосед Захарьина, сидевший по левую руку. – Як князю с таким не пойду.
– И я тоже, – откликнулся сосед справа и толкнул в бок Михайлу Юрьича. – Ты сказывал, что оное – повеление Василия Иоанновича. Стало быть, тебе и словеса царевича ему передавать.
Захарьин мрачно засопел:
– Мы здесь все по доброй воле. Вровень, стало быть. Но когда места за столом в его палатах занимаем, то князья завсегда ближе, чем бояре. Не по чину мне будет допрежь вас голову высовывать. Я свое место хорошо знаю. Это из бояр я среди первых, а с князьями мне считаться невместно. И потом, и он Рюрикович, и вы тож.
– Мы – Гедиминовичи, – поправил сосед справа.
– Один черт! – отмахнулся Михайла Юрьич.
– Ты думай, чего языком буровишь! – взвизгнул сосед слева. – Мало того, что царевич тут наговорил, так теперь ты еще егопоминаешь. – И принялся креститься.
– Не поможет, – чувствуя, как правая рука соседа, ближняя к Захарьину, истово принялась за работу, размашисто осеняя своего хозяина одним крестным знамением за другим, буркнул Михайла Юрьич. – Мы тут такого наслушались, что лишку уже ничего не будет.
Ему и впрямь было как-то все равно. Он даже не особо возражал, когда напарники все-таки уговорили его на то, чтобы всем наравне тянуть жребий, и спокойно согласился попытать судьбу первым. И даже вытащив несчастливый, он не испытал ни ужаса, ни страха. После того что он услышал, его почему-то больше ничто не страшило.
Последующие дни пролетели как во сне. Будто вовсе не он тяжело поднимался по скрипучим – ну как в темнице у царевича, еще подумалось ему – половицам высоченного крыльца в терему. И крестился перед образами, застав Василия Иоанновича в его молельне, тоже не он. Хотя нет, на самом деле он вовсе не крестился – рука не поднималась. Чугунно-тяжелая, она свисала как плеть и дотягивалась только до живота, а дальше идти упорно не хотела. И тогда он схитрил, опустившись на колени и принявшись бить поклоны. Бить настолько часто, насколько мог, всякий раз нещадно ударяясь лбом в пол и совершенно не обращая внимания на удивленно скосившего на него глаза великого князя.
«Все равно, – звенело в голове. – Теперь уже все равно», – гремели в ней погребальные колокола.
Вот только по ком они звонили – по душе или по телу, – Захарьин никак не мог разобрать, и почему-то ответ на этот вопрос беспокоил его больше всего. Именно на этот, а не на то, что сейчас скажет Василий Иоаннович, да как поступит, услышав его слова, и вообще – что повелит сделать с ним самим. Была, правда, одна мыслишка, но и та скорее из разряда злорадных: «Я-то хоть свой род уберег, а вот ты…»
Об этом он и думал, глядя на широкую, по-бабьи жирную – не иначе как в мать уродился – спину великого князя.
Наконец тот, с видимым усилием, натужно кряхтя – а ведь не так давно за тридцать перевалило, – поднялся с колен, скептически посмотрел сверху вниз на Михайлу, пришедшего невесть зачем – таким не хвалятся, – и суховато произнес:
– Следуй за мной. – После чего не оглядываясь прошел вперед, уверенно шествуя по многочисленным переходам, галерейкам и даже два раза проходя через какие-то холодные и явно не отапливаемые узенькие коридорчики, пока Захарьин вовсе не запутался – где они и куда вообще направляются. Впрочем, он и не запоминал. Ему и это было неважно – идем, и ладно.
В светлице, куда они вошли, тоже не топилось. Совсем. Да и убранством своим она скорее напоминала келью монаха-отшельника, принявшего на себя великую схиму: стол, стул, лавка. И все. Правда, стул был с высокой резной спинкой, каких у монахов не бывает. Разве что у непростых, а, скажем, у игуменов, а то и епископов. Резьба была затейливой, но немного странной. Чувствовалось в ней что-то языческое, буйно-дикое, хотя в то же время и красивое. Михайла Юрьич даже залюбовался, да так, что вздрогнул от неожиданности, услышав голос Василия Иоанновича:
– Сказывай, почто пришел?
– Сполнили мы, – хрипло произнес он то, что не должен был произносить, ибо государь повелевает убить, но не любит слышать, как убивали, особенно если убитый – родной племянник, пускай только по отцу. Но Захарьину было настолько безразлично, что он даже повторил для пущей ясности:
– Сполнили, сказываю.
– Что же это ты сполнил? – передразнил его Василий Иоаннович, будучи не просто уверенным, но абсолютно убежденным, что дальше говорить у Захарьина не хватит наглости.
– Убили мы Димитрия, яко ты повелел, – бухнул тот.
– Я?! – удивление великого князя казалось столь искренним, что Захарьин на мгновение даже засомневался – уж не почудился ли ему тот разговор один на один в покоях охотничьего терема, выстроенного всего четыре года назад.
Однако сомнения тут же улетучились, потому что в следующем возгласе Василия Иоанновича явно слышалась фальшь.
– Да как же ты мог такое удумать?! – И тут же, но гораздо естественнее, прозвучал следующий вопль: – Да как ты решился ко мне с этим прийти?!
– По повелению невинно убиенного, – флегматично пояснил Михайла и простодушно продолжил: – То его прощальная просьба была, а взамен он обещал не противиться, когда мы его давить учнем.
– Да ты! Да я! Да я тебя! – чуть не задохнулся от гнева великий князь.
Но Захарьина было не остановить, потому что, когда человеку все равно, зажать рот не просто трудно – практически невозможно, во всяком случае – словами.
– На все твоя воля, государь, – равнодушно согласился он, – но допрежь того выслушай то, что он повелел передать.
И Михайла повторил все, что сказал Димитрий. Слово в слово. Как-то вот запомнилось ему, да так крепко, что он даже ни разу не запнулся.
– И что мне с тобой теперь делать? – как-то беспомощно спросил Василий Иоаннович, поежившись от нервного озноба, почему-то охватившего его крупное упитанное тело.
– А что повелишь, – пожал плечами Захарьин.
Он не продолжил свою фразу и не сказал, что ему теперь все равно, но она и без того явственно читалось у него на лице. Великий князь не был дураком и прочитать ее смог, после чего, осекшись на полуслове, растерянно умолк и уставился на Кошкина-Захарьина, продолжавшего возвышаться над ним могучей глыбой и возвышаться не только всей своей крепкой фигурой, но и духом, который продолжал парить там, где всем все равно, следовательно, в недоступных для самого Василия Иоанновича высях. И дух этот нельзя было ни ссадить, ни сбросить, ни… Словом, ничего нельзя с ним сделать, а дожидаться, пока он сойдет вниз добровольно, великий князь не смог. На какое-то мгновение он вновь ощутил себя совсем маленьким и беспомощным, который терпеливо сносит слюнявые губы огромной матери, усердно ласкающей его и то дело приговаривающей:
– Все равно ты станешь великим князем. Все равно, все равно, все равно.
А вот маленькому Васятке было все равно совершенно иное – кем он там станет, пускай и загадочным великим князем, а главное было – вырваться из душащих его объятий, но он знал только один-единственный способ, как это сделать, точнее, одно магическое слово и повторял его как заклинание, лишь бы его побыстрее отпустили:
– Буду! Буду! Буду! – И лишь тогда она позволяла ему сползти с ее огромных слоновьих колен.
«А почему она была так уверена, что я буду великим князем?» – пожалуй, впервые за все время задумался Василий Иоаннович.
Хотя нет, чего уж перед собой лукавить, тем более сейчас. Он и раньше задумывался, но всякий раз гнал прочь от себя этот вопрос, потому что очень уж быстро приходил на ум ответ, а великий князь не хотел его слышать ни тогда, ни теперь.
От ломоты в ногах не умирают, тем более так стремительно. Вот только лекарь был жидовин и падок на золото. А еще он недавно приехал из Венеции, а до того долгое время жил в Риме. А еще он знал Софью. И все это в совокупности давало простой ответ, почему он лечил Иоанна Молодого именно так… как нельзя было лечить.
Теперь же получалось, что он сам стал продолжателем черного дела своей матери, окончательно истребив одинокий побег той, чужой ветви рода, тем самым выполнив предсмертный завет матери, которая, уже находясь на смертном одре и прощаясь с сыном, выдохнула последнее напутствие: «Добей».
Тогда он в испуге отшатнулся, с силой вырвал руку из ее горячечной и пухлой как подушка, ладони и, может быть, так и не осмелился бы на страшное, если бы не нашлась еще одна, которая иными словами, но каждую ночь по сути шептала то же самое, страшное и бесстыдное: «Добей».
И вот он выполнил, добил. А теперь из-за этого дурака, что сейчас стоит перед ним, такой же дородный, как и он сам, – ну никому ничего нельзя поручить, все самому – он, великий князь всея Руси проклят и не только лично, но и со всем своим родом, то есть братьями и сестрами.
Ну, они-то ладно, а вот то, что прокляты его дети, причем изначально, еще не успев родиться, не успев даже побывать во чреве, – это страшно.
Ему почему-то вспомнилась нелепая выдумка матери, которую она потом с упоением рассказывала своему супругу Иоанну. Будто когда она ходила молиться пешком в Троицкую обитель, ей там явился сам святой Сергий, держа на руках младенца, приблизился к Софье и «ввергнул его в ее недра», после чего она затрепетала от столь удивительного видения, с превеликим усердием облобызала мощи святого и через девять месяцев родила сына. Зачем ей понадобилось выдумывать, а потом рассказывать подобную глупость, стало понятно лишь гораздо позже – готовила отца к тому, чтобы передал бразды правления не Димитрию, а ему, Василию. Готовила преднамеренно, заранее зная, что прикончит своего пасынка Ивана, после чего десять лет терпеливо выжидала подходящий момент, не уставая повторять эту выдумку.
«Любопытно было бы знать, – подумалось ему, – а с учетом того, что он – да, да, именно он, чего уж тут юлить перед самим собой – повелел убить своего родного племянника, то кто на самом деле вверг его во чрево, из которого он появился на божий свет? Хотя чего уж тут неясно, – ответил со вздохом. – Я истинный сын не только своей матери, но и своего отца. Такой же осторожный, но и такой же жестокий, когда это возможно и не грозит никакими карами. И что мне теперь делать – истинному сыну? Как жить дальше?»
– Уходи, – шепнул он еле слышно, закрывая лицо руками. – Я тебя не забуду, как и обещал, но сейчас уходи.
Захарьин послушно двинулся к двери. Не дойдя до нее двух шагов, он повернулся и глухо произнес:
– Мне-то что ж. Я, почитай, покойник. А вот сынов…
И вышел. Остальных добровольцев-палачей Димитрия, чьи имена назвал Михайла Юрьич, Василий Иоаннович так никогда и не увидел – они не протянули и сорока дней после убийства. Каждый раз, получив известие о смерти очередного, великий князь мрачно прикидывал, когда придет очередь его самого, и каялся, каялся, каялся в содеянном. Правда, длилось это недолго, бесследно проходя и всплывая в очередной раз лишь во время осознания того, что у него так и нет наследников.
А с Михайлой Юрьевичем Василий рассчитался сполна. Поначалу хотел было положить на него опалу за дерзость, но пойти на такое не отважился. Если тот развяжет язык – быть худу. Тогда родные братья получали прекрасный повод для того, чтобы учинить промеж себя сговор. Да и потом – нужна ли ему слава убийцы племянника? Это добрая на воротах висит, а худая – она по свету летит, да так скоро, что нипочем не догнать.
Правда, чтобы его милость выглядела не так явно, выказал он ее не сразу, иначе могут догадаться, за что столь щедрая плата. Выждав пару лет, великий князь дал Михайле Юрьичу чин окольничего. Затем, в том же 1511 году, во главе посольства отправил его в Литву говорить об обидах и убытках, попутно дав поручение наладить тайную переписку с сестрой великого князя, вдовствующей княгиней литовской Еленой. На следующий год случился первый из походов на Смоленск. И тут не обошлось без Михайлы Юрьича.
Но чин боярина Василий давать ему не спешил – помнил дерзость Захарьина. Может, тот так и остался бы без него, но осенью 1517 года великому князю донесли, что находившийся в московском плену хан Абдыл-Летиф собирается его убить.
Явных улик не было, но все знали, что родившийся и выросший в Бахчисарае Абдыл-Летиф находился под сильным османским влиянием и русских не любил, так что сообщение походило на правду. Василий пригласил царевича на охоту. Тот приехал и был тотчас же схвачен. Не зная, что сказать, ему поставили в вину вовсе несуразное. Дескать, он приехал на охоту с оружием, а стало быть, умышлял на великого князя. Как Абдыл-Летиф ни доказывал, что без оружия на охоту не ездят, слушать его никто даже не собирался.
После ареста хана отправили в Серпухов, куда повез его Михайла Юрьевич Захарьин, внимательно выслушавший перед отъездом тайное слово Василия Иоанновича. Не глядя на окольничего, великий князь несколько смущенно произнес:
– Сам поди ведаешь, что сей Абдыл-Летиф – непростой татарин. Его родные братья и в Казани сидят, и в Крыму. Опять же, еще один его братец Куйдакул, коего мы в Петра окрестили, и вовсе мой родич. Конечно, погорячился я, когда свою сестру замуж за этого Петра выдал, ну да что уж теперь. Вот я и подумал… – Он замялся, и Михайла Юрьич, чувствуя, куда клонит великий князь, успел вставить торопливое словцо:
– Так ведь нет давно Евдокии Иоанновны. Уж четыре лета как нет.
– Все едино – родич, – со вздохом произнес Василий. – Выходит, и этот… тоже родич. Опять же казанский Мухаммед-Эмин стар уже, и негоже, чтоб Абдыл-Летиф на его место уселся. А как его не пустить, коли его о прошлое лето вся земля Казанская в наследники выбрала, – и тут же, без перехода, стремясь побыстрее завершить щекотливую тему, как обухом по голове, оглушил Михайлу: – Тебе, авось, не впервой, вот и предложи ему выпить за мое здравие. Тогда окольничим стал – ныне боярская шапка тебя ждет.
Больше он не сказал ни слова, только красноречиво пододвинул к окольничему небольшой матерчатый мешочек с каким-то порошком.
Михайла Юрьич хотел возмутиться, но пока набирался духу да пока искал подходящие слова, чтобы не просто возразить и отказаться от сомнительной чести, но и сделать это поделикатнее, Василий Иоанновича уже и след простыл.
Захарьин еще постоял у стола, на котором лежал мешочек, но потом, решив, что семь бед – один ответ, протянул руку к отраве. По приезде в Серпухов Захарьин устроил пир, и первым тостом была здравица за Василия Иоанновича. Абдыл-Летиф был не в том положении, чтобы отказаться от такого тоста…
И вновь великий князь не сразу выполнил обещанное, отводя от себя возможные подозрения. Лишь когда понадобилось посадить в Казани московского ставленника Шиг-Алея, он отрядил туда Захарьина и за это вроде бы совсем пустяшное дельце щедро расплатился с Михайлой Юрьичем – сразу по возвращении оттуда окольничий был возведен в боярский чин.
Так и шло. Спустя пару лет, когда на престоле казанского ханства в результате сложных интриг в доме Гиреев и в отношениях с Турцией, оказался враждебный Руси хан Саип-Гирей, уже не кто-нибудь, а именно он, Михайла Юрьич, совсем даже не княжеского роду, отправился во главе ратей Василия Иоанновича под Казань. Гордость брала за то, что под его началом не кто-нибудь, а князья Рюриковичи. Пускай из худородных, из удельных да служивых, но ведь Рюриковичи же.
Он же участвовал и в закладке в устье реки Суры крепости Васильграда, позднее названную Басильсурском. А спустя время, в весеннем походе на ту же Казань, состоявшемся в 1524 году, боярина Кошкина-Захарьина возвеличили еще больше, назначив не просто ратным воеводой, но «надзирающим у всего наряду», то есть вручив в его ведение все имеющиеся в войске пушки.
Да и далее великий князь если и расставался с ним, отправляя во главе очередного посольства, то ненадолго, предпочитая держать боярина при себе. Нет, не потому, что боялся огласки. Кто ж про такое станет трепать языком? Скорее уж держал его как напоминание о собственной подлости, дабы не забывалась, а впредь о таком не думалось. По этой же причине Василий взъелся на Соломонию, которая, как оказалось, самым беззастенчивым образом обманула его, так никого и не родив. Впрочем, может, он все равно не стал бы с нею разводиться, как знать, но тут сыграла роль память. Никогда Василию не забыть ее горячечного шепота: «Добей!»
Жестокая и властная Соломония не смирилась, даже когда ее доставили в Рождественский монастырь. Обычно женщины на Руси, зная, что сопротивление ни к чему не приведет, покорно склоняют голову. Эта сражалась до конца, растоптав протянутый ей куколь [18]18
Куколь (лат.капюшон) – род монашеской одежды в виде остроконечного капюшона (отсюда и название) с двумя длинными, закрывающими спину и грудь полосами материи черного цвета с изображением на нем крестов, серафимов и текста трисвятого. Одевается поверх мантии. В чинопоследовании пострига называется куколем беззлобия, шлемом спасительного упования.
[Закрыть]. Особенно его взбесило, когда передавали слова Соломонии:
– Бог видит и отмстит моему гонителю.
А с его братьями и сестрами и впрямь творилось загадочное. Первой, спустя четыре года после смерти Димитрия, ушла из жизни Евдокия. Сестра прожила всего двадцать один год. Правда, она успела родить двух девочек, но произошло это чуть раньше, чем… Словом, понятно, чем что. Следом за ней скончался брат Семен в возрасте тридцати одного года. Не прошло и трех лет, как смерть унесла еще одного брата – Дмитрия по прозвищу Жилка. Тот тоже не дотянул до сорока лет. И оба умерли бездетными.
Оставалось всего три брата, включая его самого, и на всех троих ни одного ребенка. Пускай не сына, пускай дочки, так ведь нет. Когда Елена Глинская забеременела, он поначалу даже не поверил собственным ушам. Когда родила – решил, что проклятье закончилось или, во всяком случае, ослабело.
Три года он так считал, но теперь, умирая от злосчастной болячки, понимал – не закончилось. Просто Димитрий решил в точности повторить обстоятельства смерти его отца Ивана Молодого. Тот ведь тоже умер от пустячной болезни, потому что камчук мог успешно вылечить любой деревенский знахарь, а вот венецианский лекарь – не смог. На сей раз, судя по тому, как хлестал гной из ноги великого князя, в роли Леона-жидовина выступил сам бывший узник, который с того света хорошо знал, как надо лечить и как надо залечить.
К тому же Василию, спустя неделю пребывания в сельце Колпе, когда окаянный нарыв, несмотря на усиленное лечение пшеничной мукой с пресным медом и печеным луком, так и не прорывался, причиняя мучительную боль, неожиданно припомнились слова Михайлы Юрьича, подробно пересказавшего все, что говорил братанич великого князя. Что-то такое было там и о… вереде [19]19
Веред – чирей (ст.-слав.)
[Закрыть].
Понадеявшись, что плохо запомнил то, что сказывал Захарьин, а может, и еще лучше – вообще перепутал, Василий Иоаннович повелел немедля вызвать его к себе из Москвы якобы на совещание о духовной [20]20
Духовная – так называли грамоту с последней волей умирающего, то есть завещание.
[Закрыть]. Когда тот прибыл, истекала уже вторая неделя, а великому князю становилось только хуже и хуже. Оставшись наедине с Михайлой Юрьичем, Василий стыдливо попросил боярина:
– Чтой-то на память я поплохел. Напомни-ка мне те словеса бранные…
Чьи именно, произносить вслух ему не хотелось, но Михайла Юрьич и без того догадался.
– Попомню я ему этот чиряк, – спокойно, с неприметным злорадством в голосе, произнес он и продолжил: – У самого такой вздуется, что сдохнет. Вот так онсказывал.
– Выходит, сдержал свое словцо, – вздохнул Василий Иоаннович.
А надежда еще не покидала его, тем более что гной все-таки пошел. И вновь дивно – ему от этого не стало легче. Скорее уж напротив – боль только увеличилась, да вдобавок начало донимать какое-то странное жжение в груди. «Знак, – решил великий князь. – Это знак». Гной меж тем продолжал выходить.
Но лишь после того, как лед в Москве-реке под его каптаном [21]21
Каптан – крытый возок.
[Закрыть]провалился и оба санника [22]22
Санник – лошадь, приученная ходить в санях.
[Закрыть]ухнули в воду, Василий Иоаннович окончательно понял, что спасения нет, ибо это тоже был знак.Он даже запретил наказывать тех, кто торопился возвести для его проезда мост на реке – знал, что не их вина. Как бы добросовестно они ни старались, все равно невинно убиенный племянник подал бы ему этот знак, потому что он один был сильнее их всех вместе взятых.
И подле себя в последние часы жизни он сознательно оставил не кого-нибудь, а Михайлу Глинского – родича того, кто когда-то, ну, словом, понятно, и самого Кошкина-Захарьина, того, кто…
– Ну что, можешь ли ты исцелить меня? – обратился он к одному из своих иноземных лекарей.
Тот вновь недоуменно посмотрел на рану, которая давно и бесследно должна была зажить, но вопреки всем канонам врачебной науки упрямо не хотела этого делать, перевел взгляд на лицо великого князя, чтобы обнадежить его, но вдруг побледнел, вперившись в зрачки Василия Иоанновича, и ответил странно:
– Государь, я не бог и не умею воскрешать мертвых.
Михайла Глинский хотел было цыкнуть на тупицу, не умеющего разговаривать со знатными больными, но Василий не дал сделать и этого, повелев принести сына. Глядя на крошечного ребенка, которому шел только четвертый годик, он с тоской прошептал:
– Меня караешь, но он-то пред тобой чист. – И тут увидел силуэт того, кого сейчас боялся сильнее всего на свете, как на том, так и на этом.
Боялся, потому что чувствовал, что судить его будет именно этот черноглазый улыбчивый юноша, почти мальчик, и никто не вмешается, никто не попытается Василия защитить – ни среди темных сил, ни среди святых. И он, с ужасом глядя на пришедшего за ним, а затем с тоской на крохотного трехлетнего сына, почти закричал:
– Пусть хоть на тебе будет милость божья. На тебе и на детях твоих… – после чего поторопил брата Юрия, чтоб скорее несли все для пострижения.
Почему-то ему казалось, что если его положат в гроб в черных монашеских одеждах, то надежды на спасение станет больше. Пускай ненамного, пускай на самую малость – ему хватит и этого. Может быть, тогда получат право вмешаться иные силы, ведь речь-то пойдет не просто о человеке – о монахе.
Однако собравшиеся вокруг одра бояре возражали, говоря, что негоже великому государю принимать схиму, пускай и перед смертью, что Владимир равноапостольный так и умер мирянином, и Дмитрий Донской также заслужил царство небесное, а Василий смотрел на спорщиков и видел, как за их спинами торжествующе скалится черноволосый юноша, не отрывая глаз от умирающего.
И тщетно Василий пытался что-то произнести в оправдание. Язык уже не слушался своего хозяина. Удалось лишь жалобно промычать, после чего митрополит властно взял все дело в свои руки и великий князь радостно увидел, что юноша-мертвец недовольно поморщился, но тут же лукаво подмигнул, страшно блеснув черным, как вечная ночь, глазом, крутанул кистью руки, и в тот же миг вновь поднялся переполох – оказалось, что позабыли мантию для нового инока.
– Да где ж она, ведь брал вроде бы, – суетливо разводил руками игумен Троицкой обители Иоасаф.
Василий мог бы подсказать – где, потому что он единственный изо всех, кто находился в ложнице, видел ее, будто в тумане. «Да вон же, вон там, слепцы», – хотел он прикрикнуть, ткнуть пальцем, но вместо этого раздался лишь жалкий хрип, и в тот же миг, истратив на него последний остаток сил, великий князь умер.
Тщетно Троицкий келарь Серапион впопыхах стягивал с себя свою – Василий Иоаннович успел скончаться «в белых одеждах», как бы сильно он ни мечтал об обратном.
Проклятье продолжало действовать…