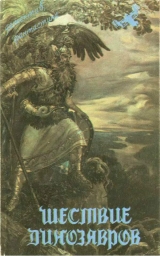
Текст книги "Купно за едино!"
Автор книги: Валерий Шамшурин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Кончиками пальцев приподнимая широкий и пышный подол, Марина небесной мадонной сходила по ступеням, и он, словно завороженный, терпеливо поджидал ее, напрягшись, как струна, в новом бархатном кунтуше с золоченными витыми шнурами, в который обрядился перед застольем в угоду ей, и второпях забыл снять, чтобы переодеться в дорожный кафтан.
– Так длуго чекалам[21]21
Так долго ждала… (польск.)
[Закрыть]… Так длуго чекалам, – прерывисто заговорила Марина, подойдя к нему и обжигая страстным сиянием черных глаз.
Заруцкий смело привлек ее к себе и, нисколько не таясь, поцеловал в маленькие раскрывшиеся губы.
– Хочешь, чтоб я ночевал? – спросил он шепотом балованного любовника, чуть отклонив свое лицо.
– Бардзо хце[22]22
Очень хочу (польск.).
[Закрыть], – тоже шепотом ответила Марина.
Из-за ее плеча атаман увидел вышедшую на крыльцо чистоплотную немку-прислужницу с Марининым ребенком на руках, а за немкой сухой и темный лик отца Мело. Губы монаха шевелились: верно, творил молитву. Поощрял ли? Альбо проклинал?
Все то время, пока они добирались до Коломны, и после – за столом таинственный монах сурово отмалчивался. Лишь единый раз, обратясь к Заруцкому, пробормотал по-латыни: «Принципес морталес», тут же перетолмачив: «Власть имущие смертны». Вроде бы ненароком сказанное занозой впилось в цепкую память атамана. Но темна вода во облацех. Заруцкий поначалу не уразумел смысла. Вспомнив теперь, что перед тем он поведал монаху о позорной смерти тушинского царика под Калугой, догадался: слова Мело были предостережением ему самому. Ведь, сойдясь с Мариной, он занял место покойного не только на супружеском ложе.
Лишь мельком взглянул атаман на монаха, но и того было довольно, чтобы оставить все колебания.
– Суженая моя, – уже с притворным пылом, но ни в чем не обнаруживая перемены, молвил он. – Я вскоре ворочуся. Погодь самую малость. Да береги Иванку. Быть ему у нас на Москве царем. Веришь ли мне?
– Не вем, – совсем тихо ответила сникшая Марина.
Глаза ее были умоляющими. Куда подевалась кичливая и норовистая шляхтянка? Перед Заруцким стояла истомленная неутолимым желанием жонка, для которой невыносима и самая краткая разлука. «Да ее, бесовку, впрямь присушило ко мне!» – самодовольно подумал атаман. Его стало тяготить затянувшееся провожание.
Он круто повернулся и с места вскочил на коня. Ворота были загодя отворены. Атаман, а за ним верная его казачья охрана молодецки вылетели со двора. Даль и вечерняя сумеречь поглотили их…
Знала бы ясновельможная пани Марина, кого она полюбила! И полюбила не принудой, не расчетом, а всем сердцем. Не из уродзонной[23]23
Родовитой (польск.).
[Закрыть] и даже не из ходачковой[24]24
Мелкопоместной (польск.).
[Закрыть] шляхты был полонивший ее статью и силой Иван Мартынович Заруцкий. Не сыскать ей имени лихого атамана и в старорусских списках высоких родов. В бедной каморе рожден молодец, на пыльной мещанской улочке захудалого Тернополя. Да то еще не вся горькая правда. Мальчонкой он угодил в рабство к татарам, и все юные годы мыкался, как всякое презренное быдло. Кто в роскошных палатах, а он в грязных ямах невольничьих рынков да дырявых саклях на земляном полу, кто под сладостные звуки лютни, а он под гортанные крики муэдзинов с мечетой да рев ослов и грохот мажар на ухабах, кто среди великолепия цветников, а он среди выжженных зноем крымских пастбищ постигал азы бытия. Плеть была его главным наставником, и плеть выучила его жестокой науке: нет в мире такого добра, которое бы не уступило злу. И кроме, как шайтан и гяур, не знал он иных прозвищ.
Сатанинская изворотливость и невероятная выносливость помогли рабу бежать на вольный казачий Дон. Тут в чести были самые отчаянные сорви-головы, и Заруцкий стал первым среди них. Пленил он вольницу лихостью да удачливостью. Чем не атаман? И когда он пристал к войску Болотникова, о нем уже гремела не меньшая слава, чем о других бунташных вожаках: Истоме Пашкове, Григории Сумбулове и Прокофии Ляпунове. Именно ловкому Заруцкому Болотников поручил выбраться из плотно осажденной Тулы и, рискуя головой, пробиться в литовские земли, чтобы отыскать новоявленного Дмитрия и сговорить его придти с войском на выручку.
Коварные ловушки, а одна самая опасная, ожидали Заруцкого, да не лыком он был шит. Встретившись в Стародубе с самозванцем и сразу распознав обман, Заруцкий все же прилюдно объявил о подлинном Дмитрии и тем не только спас себя, но и снискал высокие почести. Он убивал в себе раба тем, что устремлялся все выше и выше. И уж вовсе стал приближен к самозванцу, когда уступил ему победу в потешном рыцарском турнире, хотя жалкий соперник махал саблей, будто кочергой. Так достигаются вершины! В Тушине Заруцкий уже возглавил Казачий приказ и получил боярство. Никто теперь не мог да и не посмел бы заподозрить в нем бывшего раба, ибо рабская угодливость и рабское вероломство скрадывались удальством и отвагой атамана в сечах.
Опьянение властью стало все чаще проявляться вспышками необузданного честолюбия, из-за чего атаман покинул Жолкевского после Клушина и, злорадно возбудив казаков, обрек на гибель Ляпунова. Ничто иное, как полное отречение от своего унизительного прошлого и желание нахрапом достичь наивысшей вожделенной цели, побудили новоявленного боярина и воеводу заточить свою простушку-жену в монастырь, чтобы она ему не помешала добиться руки Марины. Лихим приступом он покорил сердце царственной пани. И победа над ней стала самой блестящей из всех его побед.
Главнее, ни перед чем не отступать. Заруцкий верил в свою удачу. И в слитном бодром грохоте копыт по закаменевшей от первых холодов дороге слышался ему гром боевых набатов, что предвещали новую победу.
3
Сумеречь позднего вечера. Скудные тусклые огоньки уже замерцали в слюдяных оконцах домов. На краю Ивановской площади у коновязи жолнеры жгут костер: оттуда несет подгорелой кашей. Дымно горят плошки у Грановитой палаты. Но вспыхивающие там и сям жалкие светлячки все более вязнут в густеющих потемках. И громче начинает перекликаться стража на кремлевских стенах.
У Федора Ивановича Мстиславского, в его дворе, что чуть ли не примыкает к самой крепостной стене, сходятся большие бояре. Опасливая челядь встречает каждого не перед воротами, а уже у крыльца и провожает не в светлицу, а в задние покои. Хоть и бояться вроде нечего, – Гонсевский вовсе не препятствует сходкам беспрекословно покорных думников, – однако береженого Бог бережет. Мало ли кто из вельможных панов невзначай вздумает пожаловать – придется сажать со всеми. А дело требует несуетного да сокровенного обговора.
Войдя в невеликую горенку, где по обыкновению Мстиславский впотай принимал нужных ему людей, Лыков усмешливо попенял:
– Уважил ты нас, Федор Иванович: хоронимся, ровно тати. Ладно, еще не в чулане.
Мяклое лицо Мстиславского осталось бесстрастным. Свычны главе Боярской думы пустые задевки, и он не снизошел до ответа. Зато князь Иван Семенович Куракин, не замедлил с легким увещанием:
– Полно-ка тебе, Борис Михайлович, задираться. Благодари Бога, что Салтыков в отъезде. Довольно нам от него было грому-то.
Лыков недовольно поджал губы, почтя неприличным упоминание о Михайле Салтыкове, словно тот был нечистой силой, но ему хватило благоразумия промолчать.
Бояре, собравшись на свою тайную вечерю, были одеты по-обыденному, кому в чем гоже. Но, блюдя чинность, сели чередом, как в Думе, на устланную коврами лавку. Лишь Мстиславский устроился наособь: в иноземное, черного дерева кресло с затейной спинкой, уподобленной распахнувшей крылья хищной птице, и с подлокотниками, схожими с когтистыми лапами.
Поглаживали бороды степенные мужи, перебирали перстами прорезное узорочье посохов, щурились на огонь свечей в напольных шандалах, оценивающе оглядывали золотые оклады икон да уныло позевывали, крестя рот. Всем было ясно, что преть придется долго. Иначе Мстиславский бы не потревожил.
Старший боярин не спешил начать. То, что тяготило ум, ему самому казалось святотатством. Все же деваться некуда. И сжав пухлыми руками птичьи когти на подлокотниках, он заговорил тусклым утомленным голосом:
– У нас нету иной заступы, окромя той, что с нами в Кремле. Нету, покуда не подоспел гетман Ходкевич. Обаче и оной можем лишиться. Терпят заступники многие нужи, до вылазок уж неохочи. Како ратоватися без передыху? А даве в Китай-городе пожар немалые припасы унес. В поляках и литве замешание. Не приведи господи, покинут нас. Али еще хуже, дворы наши зорить пустятся. Чем тогда уймем?
Федор Иванович, некогда достославный воевода, ходивший с ратями на крымцев и Батория, одолевший Казы Гирея и побивший в сече при Добрыничах войско первого самозванца, набольший боярин, коего не единожды сговаривали сесть на московский престол, в последние месяцы вовсе по-старчески присмирел, покладисто дозволяя равно вершиться добру и злу. Но как ни безволен он был, бояре, что делили с ним единую участь, все же полагались на его искушенный разум. Не зря же Мстиславский ухитрился первенствовать в Боярской думе и при Годунове, и при Отрепьеве, и при Шуйском – всем угодил да всех пережил, а посему и оказался всех ловчее. Нежли не великая мудрость то?
– Пан Гонсевский, – помешкав, произнес Федор Иванович, – наказал мне, дабы не случилося пущей пагубы, выплатить войску жалованье. Последние же оброчные деньги, ведаете, отданы нами на прокорм посольству. Отколь взяти еще, как не из царской казны?
– Из царской? – аж привскочил невоздержанный Лыков. – Мыслимо ли? Никак поганый Федька Андронов надоумил. Пустили козла в огород, поставили казначеем. Эвон что умудряет!
– Не мочно царево трогать, Федор Иванович, – поддержал Лыкова Куракин. – В посмех то, в позор и в укоризну из роды в роды станет.
– Грех непростимый, – перекрестился сидевший на конце лавки Михаил Александрович Нагово.
– Оно так, – согласился и Романов, но, кашлянув в кулак, Иван Никитич неуверенно добавил: – Кабы не в осаде сидети…
Шереметев безмолвствовал. И не понять было, то ли глубоко задумался, то ли подремывал. Лишь почуяв, что все повернулись к нему, поднял голову. Уже не раз он отмалчивался в Думе, поскольку не находил проку выставляться при Салтыкове, который всегда жестко ставил на своем и свирепел, если ему перечили, но теперь Саатыков отсутствовал, и можно было не таиться.
– Государева казна – искупление наше, – медленно и глуховато, словно еще не решившись до конца говорить впрямую, принялся рассуждать он. – Ныне мы ее бережем, опосля она убережет нас. Не охраним – скажут нам: «Пошто вы тут сиднем сидели, пошто праздничали?» И оправданию не бысть. Охраним – вины все простятся.
Бояре потупились. Было о чем задуматься. Перед взором всех возникли каменные своды хранилища, его глубокие ниши, где сокрытая от чужих завидливых глаз находилась казна: сверкающие царские сряды, оружие, драгоценная утварь, ларцы с украшениями и самоцветами, золотые ковчеги, расшитые ковры и пелены, меха все, что преумножалось веками, издревле переходило по наследству от одних великих князей к другим и давно стало не только бесценным кладом, но и священными знаками власти, ее заповедными клейнодами, символами величия, силы и прочности самодержавства. Да, любое отступничество искупится, если хватит воли и достоинства отстоять казну, ибо на нее последнее упование. И тут все за всех в ответе, а не всяк за себя.
– А Гонсевскому бы накрепко внушити, – продолжал, глянув на Мстиславского, Шереметев, – что токмо для Владислава назначена казна, а коли мы на нее покусимся, венцы и бармы растащим, – без проку тогда и осаду длить, понеже оборонять станет нечего. Не враг, чай, себе Гонсевский, отступится.
– Гонсевский сам в принуде, – тяжко вздохнул, колыхнувшись всем расползшимся телом, Мстиславский. – Рад бы нам ослабу дать да свои же его заклевали. Нет, не уклониться нам от платежу. – И еще раз вздохнул старший боярин. – Ох, незадача! Из городов да волостей присылу ждать нечего. Ины отпали от нас, а в иных – бесчинство. Воевод, нами поставленных, гонят. Летось Третьяка Кирсанова, что мы воеводою в Яросласль посылали, с бранью да побоями выставили, еле жив воротился. Ныне вот Звенигородского князя на место недужного Репнина в Нижний надобно посылать, а тож боязно. В Нижнем-то нивесть что. Слыхал, и там смута учиняется. Повсель неспокойно. В коих местах за два, а в коих и за три уж года ни оброчных денег, ни таможенных пошлин не имано. Диво ли, что в сборе ни алтына нет. Так чего ж присоветуете?
Все отвели глаза. Было слышно, как потрескивали фитили в свечах. Романов, отложив посох, поглаживал здоровой рукой калеченую, будто в том неотложное дело нашел. Куракин перстень на пальце крутил, блескучим камешком любовался. Нагово не отрывал взгляда от икон. Никто не мог дать разумного совета. Измельчала Дума, оскудела смелыми умами. Напрочь был изгнан из нее за потворство Гермогену и под страхом расправы безвылазно сидел в своих хоромах рассудительный Иван Воротынский, не было находчивого Василия Голицына, плененного Сигизмундом под Смоленском, не увидеть тут больше и многоопытного Андрея Трубецкого, что скончался от дряхлости. Зато покорливых да безгласных в Думе набралось вдосталь. Оттого и стало за обычай постылое единодушие. Оттого и наловчились тут смиряться за поддакивать.
Однако ныне случай особый. Взял бы на себя Мстиславский грех – и ладно бы: все едино ему первому за всё отвечать. Так нет же, остерегся: тут уж на злую прихоть Салтыкова не свалишь, от себя укора не отведешь – вот и растянул петлю пошире, самых близких вовлек. Тошно было боярам.
– Хошь тресни, ничего на ум нейдет, – наконец сокрушенно признался Романов. – Своего бы не пожалели. Да где родовые вотчины наши? Все похватаны да розданы воровски. Ляпунов чужим без меры пособников наделял. Нонь Заруцкий с Трубецким пуще того грабят. Вовсе нас обездолили.
За самое больное задел Романов. И потому все воспряли, оживились. Стали перечислять свои опустошенные владения, жаловаться на бессчетные порухи, хулить разорителей.
– Мало наших угодий злодеям! – в сердцах воскликнул Куракин. – На святые обители уж посягнули. Ведаете, небось, что казаки Заруцкого учинили? В Новодевичь-то монастыре? Одни стены голые от него осталися.
– Токмо ли грабеж там! – затряс бородой Нагово. – Прегрешенье содомское. Скверна и блуд. Всех черниц опоганили нехристи, на иконах содранных насильничали. На иконах! Над безутешной дочерью царя Бориса надругалися, раздели донага. Ничто им не свято. Ни божье, ни царево, ни боярско. Отколь тако растление?
– Отколь? – охотно подхватил Романов, любивший порассуждать о мирских бедствиях. – От опричнины же. От нее клятой. Почал тогда Грозный бояр утеснять, а служивым худородам за кровавые утехи потакать, для них боярски вотчины дробить. Вот и закрутилося. Порви-ка покров на лоскуты, станут ли те одеялами? Крестьянишки под боярской рукою горя не ведали: земли было вдосталь, и кормили они с нее одного волостеля, а не сотню. Потому и хватало всем. А нонеча что ни деревенька, то поместье. Велик ли с деревеньки прибыток? Последнее тянет из нее худород, а все у него нехватки, и крестьянишки нищи. Ране у них воля была, всяк выбирал, где ему мило. Да от добра-то добра не искали, множество на земле сидело прочно. Днесь бы и податься от худорода – ан не смей, нет прежнего выходу. Нешто смуте не быть? Ин в казаки побег, ин в шиши, а ин в леса глухие, в безлюдье. Лови – не переловишь. И всем худо: и пахотникам, и служивым, и боярам. Царям тож…
– Царей ему жаль! – ядовито прервал Романова Лыков.
– Горазд ты, Никитич, тень на плетень наводить, ухи вянут. Худо, молвишь, царям? А они при нас были, цари-то опосля блаженного Феодора? Все беззаконные, все ложные. Может, Отрепьев – царь, або Шуйский? Аль и Годунов тебе царем был?
– Я и у Годунова, опричь злой опалы, ничего не выслужил. Не тычь меня Годуновым! – осерчал Романов. Его затрясло от обиды. – Весь род наш пострадал!
– И я тож был в опале, и Шереметев вон, – не унялся Лыков. – Оттого толкую тебе: неча на Грозного валить годуновски вины. Грозный-то избором, а Годунов сплошь родовитое боярство сек. Сам худород и худородов возносил. Лучших же соромил. Не при нем ли чинились непотребны позорища? Богдану Бельскому по волоску каты бороду выбрали. Плаха-то куды пристойней! Стоном мы стонали…
– Ты-то не стонал, Борис, – ровным голосом произнес Шереметев, который, хоть и не хотел ни во что мешаться, все же не смог стерпеть явной неправды. – И легка опала твоя была. Нешто опала: воеводство в Белгороде? Не Пелым же, не Тобольск. Да и не без вины ты, знаю. Любо тебе козни заваривать, да местничаться. За то и наказан.
– Не клади охулку на меня! – вскочил и снова сел уязвленный Лыков. Он подобрался, словно зверь перед прыжком. Голова ушла в плечи, так что расшитый жемчугом козырь чуть не целиком выставился из-за нее. – Наказан был я за праведную тяжбу с годуновским потатчиком Пожарским. А вот ты, Федор! – и Лыков грозно выпрямился. – Ты, Федор!..
Мстиславский поднял было руку, чтоб остановить препирательство, но отступился, раздумал. Знал, если завязалась боярская пря, не сдержишь, покуда сама не утихнет. Да и нивесть когда в последнее время бояре схватывались открыто – есть смысл послушать.
Из Лыкова же хлестало, как из прорвы:
– Ты, Федор, молодец тихонею прикидываться: ласковое-де теля двух маток сосет. Куда ж ты норовишь, коли от нас уже покаяния взыскуешь? Вельми ты оглядчивый. Невольником тут ся выставляючи, мучеником мнишь прослыть: казнюся, мол, что с панами за един в осаде очутился. А не ты ль о прошлом годе канцлера Льва Сапегу нижайше упрашивал рязанску вотчинку, Годуновым у тебя отнятую, тебе воротить? И нежли не явил милость Сапега, нежли не получил ты от Жигимонта жалованную грамоту? Все лукавство твое вьяве!
– Спуста измену мне клепаешь, – с печалью в глазах усмехнулся Шереметев.
– И то, Борис, – вступился за Шереметева Романов. – Будя считаться. Никто из нас не свят.
– Ты, Никитич, не суйся! – еще больше взбеленился Лыков. – Я козней не спускаю.
– Родство бы хоть почитал, – укорил Иван Никитич.
Но Лыков, когда распалялся, забывал обо всем, кроме своих обид, хоть и был женат на родной сестре Никитичей, которым Шереметев доводился свояком.
– Все вы метите ополчиться на меня, окаянные! – возопил Лыков. – А я нешто честью поступался? Не в пример вам! Ты-то Никитич перед всяким расстилаться навычен, всем угодить.
У Романова вконец лопнуло терпенье. Он кривобоко вскочил и ударил посохом в пол.
– А ты, Борис, яко на духу скажу, навычен злобствовати. Все не по тебе. И повсюдь твоя правда. Да не умыслишь, что мы про твои скрытые проказы ведаем. При Шуйском, вспомни-ка, ты купно с Куракиным да иными втай тушинскому вору прямил, заговор готовил, а сам меж тем к царю Василью лобызаться лез. Эва праведность!
Тут уж не выдержал Куракин. Отстранив Лыкова, который, не помня себя от гнева, бросился на родича, он строго стал выговаривать Романову:
– Мы с князем Борисом тую пору бранных доспехов по вся дни не скидавали. Недосуг нам было изменничать. Кто Коломну от Лисовского отбивал? Мы с ним. Кто Скопину, не щадя живота, собил? Обратно же мы. Чужих заслуг нам не надобно, а чужих грехов тем паче. И повержен был Шуйский не по нашему заводу. Ины заводчики сыскалися. Те, что горазды были и на смертную расправу, ако встарь Кучковичи, сгубившие Боголюбского. Да упас Бог от кровопролития. И никто бы из вас не вступился, все попустительствовали. Никому Шуйский не был гож. У нас с Лыковым вины не больше вашей.
Увещательное слово Куракина остудило задир. С каменными ликами сидели они, отворотясь друг от друга. Лыков выпростал из-за спины откидной рукав охабня, обтер им потное чело. Романов снова принялся поглаживать калеченную руку. Шереметев откинулся к стене, призакрыв веки. Посверкали молоньи да сгасли. Миновала гроза.
Мстиславский, поглаживая сжатые в мертвой хватке точеные когти на подлокотниках, немного обождал и заговорил с обычной благопристойностью, будто никакой свары не было:
– Всем нам божья милосердья чаять. Ано призваны мы не ложным государям, а царскому благородному корени служите. Убережемся же от всякие шатости, понеже у нас един выбор, понеже радеем ноне Владиславу. Не в былое, а в предстоящее взоры устремим. Будем с терпением ждать приходу Владислава, с коим и его величество Жигимонт может пожаловать к нам своею королевскою парсуною. Посему заботы наши покой да тишину учинят. Царской казне невелик урон, коли мы из нее малую толику изымем. И той за глаза станет. Зато недовольство пресечем.
Свернул-таки Мстиславский на свою вязкую колею. Ловко отвел бояр от междоусобицы, никого не задев, но дав понять, что уже никому не дано отступить от уготованной участи.
– Останову ж не будет, ежели зачнем, – все же усомнился Шереметев.
– Что ж ты хочешь? Аль иное присоветовать можешь? – зло прошипел Лыков, так запальчиво вначале вступившийся за казну, но теперь наладившись досаждать Шереметеву.
– Малым поступимся, а большое сохраним, – покладисто рассудил Романов, неукоснительно держа сторону Мстиславского из-за боязни оказаться в немилости.
Нагово согласно подкивнул.
– Негожее, оскверненное отдадим, – взялся снять у всех камень в души Куракин. – Пошто нам беречь треклятые венцы Годунова и расстриги. Грязь на них. Отдадим без урону чести.
– В заклад ежели, – видя, что другие готовы поддержать Куракина, смирился и Шереметев. – Подоспеют оброчные деньги – выкупим. А о грязи так разумею, что к злату она не липнет.
Все вышло как нельзя лучше. И Мстиславский удоволенно расслабился, сняв с подлокотников руки и возложив их на тугое брюхо.
Больше ничего не могли удумать бояре. На том поладили.
4
Маскевич не смог бы назвать дня, когда обнаружил в себе перемену. Все, что он ранее снисходительно прощал буйным приятелям, скапливалось в нем исподволь, и перемена свершилась сама собой, не насторожив и не вызвав противления. Случалось, что непорочные ангелы становились падшими, но Маскевич никогда не был ангелом и потому не видел Надобности подсчитывать свои прегрешения, а тем паче опасаться, не перевесят ли они достоинств. Просто-напросто сошла старая шкура и наросла новая. Да и можно ли было оставаться прежним после всего, что довелось претерпеть? Кровь и насилие давно не взывали к совести. Пощадишь ты, не пощадят тебя. Замкнутый круг, злой фатум.
Удачно завершенная вылазка, дерзкая сшибка, ночной налет, лихой погром, либо сторожевое бдение на кремлевских стенах под грохот пушек, когда грозила и миновала опасность, – всё по отдельности принималось не только как дарованная свыше милость, а как блестящая победа, вновь утвердившая рыцарское превосходство над москалями. Застольная похвальба изукрашивала доблести щедрыми узорами красноречия.
Вторя приятелям, Маскевич тоже вовсю перехлестывал через край, легкую стычку превращая в упорное сражение, где полсотни удальцов во главе с ним обращали в бегство тысячу казаков, а если среди внимающих ему находились маловеры, хватался за саблю, готовый всякого убедить на поединке. Поначалу предпочитая ковшам чарки, он втянулся в пиршественные загулы во славу рыцарства, поощряемый беспутным братом Даниилом, который, по весне ворвавшись в горящую Москву с полком Струся, быстро стал душой гонористой шляхты. Пили до упаду, на спор, кто кого перепьет.
И другая, более заразительная пагуба одолела Маскевича: он стал корыстолюбцем. Лишь безумы, заряжая мушкеты жемчугом, палили из них для забавы в белый свет, – разумники же туго набивали кошели. Такой кошель, где, кроме жемчуга, были золото и самоцветы, Маскевич всегда носил с собой. Сыскал он возле зелейных погребов и укромный тайничок, куда складывал разную добычу: меха, парчу, серебряный лом. Да приключилось неладное. Ротмистр Рудницкий, присмотревший после пожара в Китай-городе для нового жилья небрежно вычищенный пороховой погреб, полез туда со свечой и взлетел на воздух. Огонь заплясал на обломках, подбираясь к заветному хранилищу Маскевича. Ладно, челядь спасла, что успела. Однако сбылось и старое поверье: на что глянет волк, того уже не считай своим, – многое было расхищено. А с кражами сам Гонсевский не мог покончить: в обычай вошли.
К приходу Ходкевича в поредевших полках царил полный разброд. Утомленное от долгого осадного сидения войско выходило из повиновения. Шляхте же опостылело справлять вымышленные победы да и поживиться уже было нечем. Кончились винные запасы, исчезли отборные яства, а мешок ржи подорожал настолько, что его по цене ставили выше мешка завозимого из дальних стран перцу. Вслед за неприхотливыми жолнерами высокородное панство изведало вкус тяжелого прогорклого хлеба с колючей мякиной. Да и заморенные лошади еле держались на ногах, и от вящей нужды по третьему разу была кошена скудная трава на кремлевских луговинках.
Подступали голодные дни, и ропот усиливался. Вольная шляхта вспомнила о том, что на исходе договорные сроки ее службы королю. Задумана была конфедерация, чтобы на ней избрать гонцов в Польшу. Все рвались домой. И Маскевич, давно истомленный ожиданием, еще усерднее стал печься о сохранности своих ценностей, для надежности заперев их в ларец, который упрятал за постелью.
Вместе с избранным рыцарством он выехал на долгожданную встречу с гетманом. Ехали плотным строем, зорко поглядывая по сторонам. Но угрозы не было: казакам было не до них, они укрепляли свой лагерь.
Сухой ледок замерзших за ночь луж с тонким звоном похрустывал под копытами, и тоска голых осенних далей передавалась всадникам.
Маскевича не оставляло беспокойство: быть ему нищим, если пропадет ларец. Однако нельзя же его везти с собой – риск куда больший. Утешая себя, он похлопывал по шее зябко вздрагивающего коня и нашептывал молитву. Поручик Войтковский присмотрелся к приятелю.
– Цо такего? Ян Кохановски? – спросил он не без издевки, размыслив, что начитанному Маскевичу при виде осенних красот пришла охота вспомнить вирши знаменитого польского поэта.
– Яки дьябел, не! – огрызнулся Маскевич.
Войтковский громко захохотал. Грубая шутка, мигом облетев ряды, вызвала игривые улыбки и непристойные добавки. Однако охватившая всех подавленность не располагала к веселью, и оно быстро угасло.
Предчувствие не обмануло. Остановившийся в Красном селе Ходкевич принял рыцарство более чем прохладно. Он уже был наслышан о шатостях в Кремле и решил пресечь смуту железной рукой.
Порывы ветра скручивали перья на шлемах, рвали с плеч епанчи, студили лица, но шляхта оставалась в седлах, выслушивая отповедь военачальника. И чем больше он бранился, тем большим становилось возмущение. Обида переполняла шляхту: слишком уж резво натягивал вожжи гетман, не лопнули бы ремни.
И когда Ходкевич договорился до того, что назвал рыцарство жалким сбродом пропившихся ослушников, в которых такое же средоточие всяких зол, как в сосуде Пандоры, нашлись смельчаки и начали перечить. Один из молодых шляхтичей даже выскочил на застоявшемся скакуне из рядов. Но ледяной зловещий взгляд гетмана и высоко вскинутая над головой булава остановили дерзнувшего.
– Квос эго![25]25
Я вас! (латин.).
[Закрыть]
Ходкевич повелел шляхте возвращаться в Кремль и немедля привести осажденные полки в боевую готовность. Вместе с гетманским войском они по сигналу должны были напасть на ополченский лагерь.
Как побитые псы, мрачней ненастной ночи, оскорбленные рыцари повернули назад. Проклятьям и жалобам не было конца, словно сама злоба взялась засеивать ими всю обратную дорогу.
Благополучно добравшись до своей каморы, Маскевич сразу же кинулся к постели. Ларца на месте не было. В остервенении поручик пнул сброшенный с кровати тюфяк и вылетел из дверей. Перепуганный слуга вжался в стену.
– Кто тут был? – заорал Маскевич.
– Не вем, – дрожащими губами пролепетал слуга и вдруг вспомнил: – Яков Немец шукал пана.
– Яков Немец! По цо? – представил поручик смиренно слащавую с наглыми подобострастными глазками рожу пахолика, который прислуживал брату Даниилу. Никто иной не осмелился бы подобраться к постели. Пронюхал лайдак про ларец и выкрал.
Маскевич тут же отправился на розыски негодяя. Но того и след простыл. Брат сказал, что он перебежал к москалям. Пришлось утешиться раздобытой где-то Даниилом тошнотной бражкой.
5
Дворянские и казацкие отряды были расставлены с тем умыслом, чтобы перекрыть все подступы к Москве. Однако сплошь кольцо не смыкалось. Непомерно велико пространство для охвата. Наспех возводимые крепостцы-острожки, что преграждали самые опасные пути, не могли длительно держать оборону. Рыхлая насыпь и хлипкий тын были дрянной защитой. И удержание острожков стоило немалой крови. Потому, уготавливая достойный отпор Ходкевичу, Заруцкий с Трубецким порешили стянуть все силы в одно место, к своим наиболее укрепленным казацким таборам возле Яузы. Атаманы не просчитались, Ходкевич и впрямь нацелился на таборы.
Резко и зычно взревели боевые рожки и нефири у Андроньева монастыря, мимо которою двинулось на приступ казацких укреплений гетманское войско. Смыкаясь с ним, взмахнули саблями подоспевшие из Кремля хоругви. Держались плотно, чтобы ударить сокрушительным тараном. Без надежных тылов и добрых припасов Ходкевичу не оставалось ничего иного, кроме как навалиться разом и сломить ополчение сходу. Невзирая на встречный огонь самопалов и пушек, латники отважно прихлынули к земляному валу и стали взбираться на него.
Но недаром ходила молва, что в рукопашной схватке пешие казаки превосходят конных. И казачество не посрамило себя. Войско гетмана застряло на валу.
В непрогляди порохового дыма только по суматошному лязгу железа и остервенелым воплям можно было угадать, какая упорная завязалась на валу сеча, какое там несусветное столпотворение. Подталкивая друг друга, ряд за рядом напирали на казаков проворные гайдуки, рослые алебардщики, спешенные удальцы-сапежинцы, но все словно перемалывались теснотой и давкой, бесследно пропадали в неразличимом скопище, что за клочковатой завесой грязного дыма металось поверх вала.
И когда поразвеялся дым, взору Ходкевича открылся весь крутой склон, усеянный грудами поверженных тел. Гетман понял, что рискует потерять войско. Бессмысленно было вводить в бой рыцарскую конницу, для которой нужно открытое поле, где она могла бы развернуться и показать себя. А лифляндские немцы-наемники, брошенные на поддержку польской пехоте, замешкались у самого вала, не решаясь рисковать головой. Других резервов у Ходкевича не оставалось. Продолжать битву – понапрасну истязать себя.
Творя молитву, гетман внезапно вспомнил образ святого Франциска, созданный несравненным Луисом де Моралисом, полотно которого ему привелось видеть в Испании. С безумным исступлением, со слезами на глазах Франциск обцеловывал фигурку распятого на кресте Езуса, которую благоговейно держал в пробитых железными шипами ладонях. Великое самоотвержение во славу господа! Но Ходкевич сурово отогнал от себя видение: нелепо укреплять дух скорбящим Франциском. Богу угодно иное: отступив, сберечь войско и нарастить его, дабы потом без всякой пощады грозным посполитым рушением наказать поганых схизматов. Расчет на то, что они изнурены долгой осадой, что без Ляпунова не смогут сплотиться, был роковой ошибкой. И ее нужно исправить немедленно. Ходкевич велел трубить отбой.








