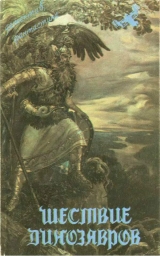
Текст книги "Купно за едино!"
Автор книги: Валерий Шамшурин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
В тот самый миг и выметнулась на поле ретивая конница Заруцкого. Атаман чутко уловил перелом в сражении. Явно в насмешку над хваленым рыцарством он нахлобучил на голову дерзкую магерку, ту самую шапку с пером, что была любима Баторием, и алый его кунтуш, в цвет польского знамени, заполыхал впереди, как пламя. Еще перед боем, не зная, чем он завершится, Заруцкий рассудил: ничто не утвердит его власть над ополчением – лишь отчаянная лютая отвага, в чем ему не было равных. Он либо все обрящет, либо все утратит. Либо разгром и посрамление Ходкевича, либо героическая смерть. Никакая середка его не утешит – он любил пить до дна, а ходить по краю. И удача вновь явила милость.
Уже изготовившись к, отходу, гусарские хоругви вынуждены были принять вызов. И пока основные силы, подчиняясь строгой воле гетмана, продолжали стягиваться, их прикрытие ринулось на казаков. Заруцкий быстро смекнул что к чему. И вместо того, чтобы схватиться в лоб, увлекаемые им конники резко уклонились в сторону и в мгновенье ока оказались за спинами разлетевшихся гусар, отрезав их от остального войска. Ловушка вышла на славу.
Не хватило времени опамятоваться гусарам. Их погнали, как стадо. Они пришпорили коней и пустились наутек, чтобы уйти от погони и успеть построиться для отпора. Но путь им преградила Яуза. Раскидывая копытами грязь, кони вязли в трясине заболоченного отлоя, судорожно вскидывались, сбрасывая седоков. Гусары рвали на себе застежки тяжелых доспехов, разметывали оружие и шлемы. Кое-кто пытался переплыть реку. И над замутившейся черной водой жалко трепыхались заплечные гусарские крылья – краса и отличие гордого рыцарства. Грязная топь поглотила многих, других добили казаки.
Обтерев мочальным пучком травы саблю и вогнав ее в ножны, спешенный Заруцкий снял с головы магерку, смял, бросил под ноги аргамака.
– Нехай сгинет!
В дружном гоготе казаков он распознал желанное одобрение. И только одно досаждало: как у Ходкевича не хватило сил разгромить коши, так и у ополченцев не доставало их, чтобы преследовать гетмана. Чаши весов качнулись и вновь встали ровно. До коих пор?
6
Захолодало. На голых ветвях деревьев дрожмя дрожат последние бурые клочки Листвы. А вся она мерзло гремит под ногами. Седые инеи густо обметали ее, прибили к земле блеклые травы. Далеко слышен конский топ. И все окрест словно распахнуто настежь – обнищавшей поздней осени уже нечего прятать.
В тесных земляных норах и переполненных приютных избах, черных от сажи и без потолков, с мутью волоковых оконец и сально лоснящейся грязью на столах и лавках, с кусачими блохами в умятой до трухи постельной соломе, стало непереносимо. Вынужденные для обогрева затапливать очаги, ополченцы задыхались в дыму, мучились от кашля, угорали. Скудная сухомятная еда тоже отвращала.
Встав поутру и не излив ни капли из пустого рукомойника – глиняного горшочка с носиком, висевшего на лыковой веревке, Ждан Болтин распахнул дверь и выскочил из спертой духоты на волю. Крутой сиверко пробрал до костей, мигом согнал сонную одурь.
Над соломенными да лубяными кровлями жалких пристанищ, перекошенными жердевыми огорожками, над избитой лошадиными копытами застылой комкастой грязью ополченского лагеря рваными полосами стлался дым разожженных печей. Ждан тоскливо вдохнул его горький запах.
– Довольно! – сказал он себе. – Не служба тут уже, а неурядство. Домой пора!..
Из нижегородских дворян, пришедших под Москву еще с Репниным и оставшихся тут, Ждан в ополчении был, пожалуй, самым безунывным. Но и его доняло безысходное и бедственное стояние под неприступными стенами. Как ни ряди, последней надежды лишились: победа над Ходкевичем обманула ожидания. Своих на валу потеряли больше, чем побили чужих, а гетман, отступив, оставил победителей с носом. Ему-то что – Москва все равно в его руках. Какой прок теперь колотиться лбами о каменные стены в драных тягиляях, поддерживая спадающие портки? На казаков глядеть нечего: им не честь, а добыча дорога. Сбились тут, как волки в запертой овчарне. Не зря ходят слухи, что мыслит Заруцкий сотворить из Москвы казацкую столицу. Упорно стоять намерен. На измор ляхов взять. Да как бы своих-то не переморил. Неужто его пустой затее потворничать? Довольно!
Ждан резво обежал нижегородцев и, перетолковав с ними, отправился седлать коня.
Малой понурой кучкой они выехали из стана и устремились к Владимирской дороге. Никто не препятствовал им.
Не одни нижегородцы самовольно тронулись в путь. Отъезжали служилые дворяне и стрельцы, а с ними конюхи и сытники, боевые холопы – кто в Переславль Рязанский, кто в Ярославль, кто в малые городки: Медынь, Козельск, Вязьму, Романов, Мещовск, Лихвин. Некоторые, не перенося самовольства, отпрашивались в отпуск у Трубецкого залечить раны, доглядеть поместье, собрать оброки, запастись кормами, справить новые доспехи и оружие. Был бы повод. Словно отвей, летящие с гумна, рассеивались во все стороны ратники. Таяло и мельчало земское ополчение. Остались большей частью дворяне из свежих пополнений, для кого отъезд, стал бы бесчестьем.
И теперь казацкие полки намного превосходили поместную силу. Одни радовались этому, другие огорчались. А казаки осели прочно: еще выше насыпали порушенный вал вокруг своего южного стана у Яузы, утепляли землянки, свозили с дальних покосов сено для лошадей. И до поры не задирали осажденных, как сами осажденные не тревожили их.
Изнемогшие враги негласно заключили краткое перемирие.
Дороги были свободны для всех. И через кремлевские ворота на северной и заходной стороне перемещались войска и проезжали обозы.
Раздраженный неудачей Ходкевич не пожелал принять Кремль от Гонсевского, но спешно наводил там порядок. Немцев-наемников, явивших нерасторопность в сече с казаками, он сразу хотел выдворить до единого, и те уже приглядывались к богатой утвари в Благовещенском соборе и серебряным украшениям на гробницах в Архангельском, чтобы заграбастать их напоследок. Рьяно взялся гетман и за строптивую шляхту. Однако поостыл, спохватившись: всех разогнав, он оставит Кремль без надежной защиты. И сменил гнев на милость.
Где не помогли угрозы и наказания – помогло золото. За стенную службу было назначено такое помесячное жалованье, которого русский служилый дворянин не получал и за год. Большинство, прельщенное небывалой мздой, согласилось ждать смены до января. Вместе с добровольцами из гетманского войска желающих остаться в Кремле набралось до трех тысяч. Маскевич не рискнул примкнуть к ним.
Потолкавшись в круговоротной толпе на Ивановской площади, где все галдели и потрясали оружием, он воротился в свой приют и велел пахоликам грузить имущество на телеги. Громогласные призывы, подогретые щедрыми посулами, его больше не воодушевляли. Никакое золото не окупит лишений, что всякого ждут в зимней осаде. Других обуяло беспечное ликование, а он уже окончательно прозрел. Не во власти человечьей ни зло и ни благо, потому не стоит искушать фортуну.
Завершив сборы, Маскевич спрятал на груди изумрудный крестик с нитью восточного жемчуга, что пришлось на его долю из початой боярами царской казны, и навсегда покинул опостылевшее жилье.
Гетман уже выводил свое войско из Кремля. Уходили и гусары Струся. Тяжело нагруженные разным добром повозки двигались вслед за хоругвями. Маскевич присоединил к ним свои телеги. Путь лежал в безопасные края, на Рогачев.
7
Раньше гетмана покинул Москву предусмотрительный капитан наемников Жак Маржерет, которого русские по-свойски прозывали Яковом. Он направился к северу. За ним тоже следовал длинный обоз. Немалое богатство вывозил француз. Но не меньше, чем им, он дорожил добытым из кремлевских тайников свитком с описанием сибирских земель. Бывалому ловцу удачи ума не занимать: он знал что чего стоит и что где сгодится.
Зарядили холодные дожди. Разливанная густая хлябь засасывала колеса. И охранявшие обоз латники свирепой бранью и тычками сгоняли из придорожных деревенек мужиков, чтобы вытащить из топей засевшие телеги. Бессчетные остановки выводили Маржерета из себя. Прославясь хладнокровием в бою, капитан терял выдержку. На все лады он проклинал дикую Московию с ее ужасными дорогами, куда его занесло по воле провидения. Даже убожистый городок Оксон на востоке Франции, где он появился на свет и который уже стал забывать, и тот отсюда виделся ему Эдемом.
Только с великими трудами добравшись до Вологды, капитан облегченно вздохнул. Как по мановению божьей руки, кончились дожди. Небеса наливались ровным сероватым светом. Над уютными тихими улочками с облетевшими березами и длинными поленницами по обочинам, величаво высились узкие шатры церквей купола белокаменного Софийского собора. Здоровенные молодки багровыми от студи руками полоскали с мостков на реке белье. Встречный люд посматривал на заляпанных еще не просохшей грязью иноземцев с добродушными ухмылками. Вологда жила безмятежно, будто нигде никакой беды не было.
Стоящий наособь, суровой каменной кладки, словно крепость, а оттого таинственный дом английской Московской компании стал Маржерету добрым приютом. Лихого капитана принял сам посол британской короны Джон Меррик. Они были старыми знакомцами. Сошлись еще при первом Лжедмитрии в ею Коломенском стане под Москвой и сразу разгадали друг друга. С тех пор их связь крепла.
Меррик, свежий, благоухающий, в лазоревом парчевом колете, щедро обшитом брюссельскими кружевами, и под цвет колета пышных штанах-буфах, разительно отличался от усталого, с обветренным бурым лицом капитана, что предстал перед послом в грубой суконной одежде и тяжелых сапогах. Истинному воину приличествовала скромная и темная одежда. Лишь витая рукоять шпаги отблескивала серебром. Да еще можно было посчитать за украшение белые страусиные перья на шляпе, которую Маржерет снял, раскланиваясь с послом. Несмотря на внешние различия, оба равно преуспели в изысканности жестов. Но церемонности они отдали дань только при взаимных приветствиях, как бы ритуально подкрепив свое единочестие.
Сели за стол. Наливая капитану и себе вина в золоченые кубки, Меррик провозгласил:
– До дна! Так пьют московиты. – И лукаво сощурился.
– Имеют ли московиты дно?
Маржерет по-своему истолковал посла и с трудом подобрал русские слова:
– Богата земля варваров. Дна нет.
– Богата, – согласился англичанин.
Перед его взором в единый миг промелькнули вороха пушнины, бочонки с воском и ворванью, неисчислимые запасы меда, пеньки, кож, перегруженные отменной семгой широкие сети. Накануне он побывал на северном побережье, гостюя в Холмогорах. Его лазутчики проникали еще дальше. Под личиной скупщиков они безвылазно засели на Печере в Пустозерске, расспрашивали о путях в заповедную Мангазею и даже к самому Китаю. Надо было всецело обратить на пользу британской короне неурядство в Московском государстве. До чего не дотянутся руки поляков и шведов – то должно принадлежать англичанам. И, верно, уже наступает пора призвать на Студеное море, к русским берегам, вместо торговцев, новых Дрейков и Гаукинсов[26]26
Знаменитые английские пираты XVI века.
[Закрыть]. Английский протекторат над северными землями неизбежен.
Меррик вспорхнул с кресла, сошел с ковра на голые каменные плиты пола. Его возбужденные шаги напомнили Маржерету легкий перестук конских копыт по твердой дороге. «Только бы снова не полили проклятые дожди», – озабоченно подумал он.
Сияющие пряжки изящных башмаков посла блеснули в глаза задумавшегося Маржерета.
– Кэптен покидает Московию? – словно разгадав ею мысли, спросил Меррик.
– Да, – поднял голову гость.
– Последнее наше судно ждет мой сигнал возле пирс Новохолмогорск. Оно есть к вашим услугам.
– Мерси.
– Но кэптен будет доставлен в Англию, – испытующе поглядел посол на Маржерета.
– Да, – не отвел взгляда тот.
Маржерет и не стремился на отчину. Покровитель его король Генри был убит безумным Равальяком, а вдове Генриха Марии Медичи, сварливой и мстительной толстухе, которая стала править Францией, он не хотел попадаться на глаза. Люто ненавидя покойного распутника-мужа, Медичи теперь не могла не преследовать его приближённых – закоренелых гугенотов. Никакая маска не поможет Маржерету. Во Франции помнят, что в молодости Маржерет вместе с королем оружием насаждал протестантизм, и он заведомо опасался крутой расправы, ибо покрывать его старые грехи уже некому. Слуга лишился господина. Протестантская Англия будет для него надежным прибежищем.
– Да! – с неколебимой твердостью подтвердил капитан.
– Вэрри велл, – вполне ублаготворился ответом Меррик.
Он снова впорхнул в кресло, явно тесноватое для его роскошных буфов, что вынуждало посла сидеть на самом краешке. Но Меррик свыкся с таким неудобством.
Его ставший надменно-снисходительным взгляд замер на огрубелой жесткой длани Маржерета, которой тот медленно вращал кубок, чтобы разглядеть узоры. Много крови пролила наемная рука, многие правители в ней нуждались. Служил Маржерет и цесарю Священной Римской империи на Балканах, и польскому королю, и Годунову, и обоим русским самозванцам, и снова Польше. Все ему платили за кровь. Но британская корона заплатит за иное: никто из иноземцев не знает о Московии больше, чем бывалый француз. Меррик читал его записки и высоко оценил их. Но он знал, что записки – только малая доля наспех переложенных на бумагу наблюдений и что капитан не из тех, кто будет хранить секреты, посчитав за измену и бесчестие разглашение их. Наемник есть наемник.
– Фист из ауа коншенс, – словно бы в забытьи перейдя на родной язык, заговорил Меррик, – энд ло из ауа сод. Белл, дис воз сэд бай Шейкспиа. О сомфин лайк дис.[27]27
Кулак нам – совесть, а закон нам – меч. Кажется, так было сказано Шекспиром, или что-то вроде этого (англ.)
[Закрыть]
Маржерет насторожился. Посол не без умысла проявил неучтивость, позволив себе запамятовать, что его гость не понимает по-английски, а даже малого небрежения к себе капитан не терпел. Не такой уж он простак, чтобы предоставить полную возможность англичанам помыкать им. Маржерет резко щелкнул ногтем по кубку.
– Я хотел спросить, кэптен, – заерзал в кресле посол, пытаясь сгладить допущенную оплошность. – Я хотел спросить: долго быть смуте в Московии? То гораздо важно…
– Сму-ута? – протянул Маржерет, думая, как повести себя, и в отместку послу заговорил по-французски. – С'эт энтерминабль Сэнт Бартоломе. Лe московит мэм нё сон па капабль де мэтр де л'ордр шез ё. Лё руа полонэ нон плю не пурра лез эдэ. Иль аттизра лё пасьон анкор давантаж. Сэ сольда нё сон к'юн банд дэзордонэ. Иль люи обеисс маль. Он а безуэн д'юн отр форс пюиссант…[28]28
Это бесконечная Варфоломеевская ночь. Сами московиты не способны навести у себя порядок. Польский король тоже не поможет им. Он еще больше разожжет страсти. Его войско – бестолковый сброд и плохо повинуется ему. Необходима другая крепкая сила… (франц.)
[Закрыть]
– Браво! – засмеялся и постукал ладонью о ладонь восхищенный находчивостью Маржерета посол. – Долг платежом красен, так говорят московиты… Кэптен не должен сердиться. Я не имел зло.
Маржерет самодовольно усмехнулся. Ему удалось сбить спесь с разнаряженного вертуна. Посмотреть бы на Меррика в сече. А что он скажет, когда увидит, чем располагает презираемый им наемник? Капитан протянул послу драгоценный свиток, где повествовалось о русских хождениях за Обь. Меррик жадно пробежал глазами первые строки.
– О! – удивленно воскликнул он. – О! Такой грамоте цены нет!
Капитан спокойно отобрал свиток и спрятал на груди. Посол проводил его до самой двери, рассыпаясь в заверениях.
На другой день Маржерет спешно выехал из Вологды к поморью, чтобы до крайнего срока успеть на корабль. Наступающая зима уже прихватывала ледком береговые воды.
Глава шестая
Год 1611. Глубокая осень. (Нижний Новгород)
1
Борзо мелькали, укорачиваясь, дни. Вот и Покров минул. А давно ли видел Кузьма последних журавлей! Высоконько летел клин над городом. Еле различили его глаза в линялых небесах. И если б не слабое, переливающееся, как вода в ручье, курлыканье, что заставило задрать голову, не приметил бы, пожалуй, Кузьма журавлиного отлета. Непременно захотелось углядеть вожака, и он стал всматриваться в острие клина. Рассмотрел лишь трепетную точку.
Согласно и четко перемещался клин. Такой-то бы лад в миру!
Кузьма вспомнил о журавлях, снова оказавшись там, откуда увидел их, – в подгорье, на конце склона, где его вывел из задумчивости смутный звук, почудившийся курлыканьем. Кузьма невольно глянул на небо, но звук был ближе и в нем явно пробился скрип тележных колес. Кто-то спускался по съезду. Староста обернулся. Вздернув голову саврасой лошаденки к оглобле, чтоб не страшилась раскатного уклона, узкоплечий тощий мужик осторожно сводил ее вниз, с усилием сдерживая и саму савраску, и напирающую на нее телегу, на которой в груде жалких пожитков сидели баба с ребенком. Гадать было нечего – беженцы.
Достигнув безопасной пологости и поравнявшись с Кузьмой, мужик, молодой по обличью, зыркнул на прохожего, но будто вовсе не ему, а самому себе с вызывающей ухмылкой сказал:
– Эх, матушка Русь, лыком крещена, дегтем мазана, квасом кроплена, не могешь ты постояти за себя. А уж за своих оратаев подавно!
– Чьи будете? – спросил Кузьма, зашагав рядом.
– Почитай, ничьи уж, – словоохотливо ответил мужик, верно рассчитавший на сочувствие. – С-под Коломны тащимся. Своя земелька неродной стала. Вота напасть кака! Нахлебалися беды досыта. Куды там казни египетски!
– Лютование?
– А то нет! Спасу никоторого. И чужаки, и свои теснят. Про Заруцкогото до вас дошло, небось?
– Наносят ветры.
– Кол ему в гузно! Избавитель! Творят казаки, что хотят. Нашу деревеньку всю разметали. Мы-то с бабой, слава Богу, упаслися: на базар в Коломну о ту пору ездили. А проку? На пусто уж место воротилися. Не то что снопа необмолочена – даже сохи не сыскали. Ну скажи, на кой ляд им соха, татям?…
Мужик остановил всхрапнувшую савраску и, сняв шапку, обтер ею потную морду лошади. Руки у него были мосластые, в крупных жестких узлах. Таким рукам чужда праздность. Больно стало Кузьме: нет страшнее пагубы, коли самые терпеливые пахотники покидают свою землю.
– А не подскажешь, осударь, – обратился мужик к нему, – далеко ль Земска изба?
– Езжай мне вослед, – ответил Кузьма, зная наперед, что беженец будет просить крова, но времени мешкать не оставалось. – Обождешь там; изба покуда на запоре.
– Ничо. Нам уже не к спеху, – обреченно вздохнул мужик.
Наведавшись в торговые ряды и таможню, Кузьма через Ивановские ворота прошел в кремль и поднялся по взгорью к Спасо-Преображенскому собору. Там уже заканчивалась обедня: после которой, как знал староста, должно быть оглашено важное послание из Троицы.
Сумрачное чрево собора, своды которого словно бы подрагивали от костровых отблесков множества свечей, было заполнено до отказа. Сюда пришел люд со всего города. Кузьма стал пробираться поближе к амвону, но скоро оставил всякие попытки, ткнувшись в спины, обтянутые парчой и бархатом: знай сверчок свой шесток.
– Увы, братие, увы, – гулко разносился по собору зычный глас протопопа Саввы. – Се бо приидоша дни конечные гибели: погибает Московское государство и вера православная гибнет… По грехам нашим попущает господь супостатам возноситиси! Что сотворим, братие, и что возглаголим? Да едино помышление будет: утвердитися в согласии. О сем же и грамота просительная во все грады Троице-Сергиева монастыря архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына.
В руках Саввы зашелестел разворачиваемый свиток. Протопоп начал читать. И всякое слово излетало из его, уст с благоговением и торжественностью. Но чем больше вникал Кузьма в смысл послания, тем горше становилось ему.
Уклонившись от истолкования истинных зол, порождающих распри, троицкие пастыри свалили всю вину только на Салтыкова и Андронова, кои, мол, единственно своими отступническими наущениями потворствовали вторжению ворогов на русскую землю. То была ничтожная кроха правды, самой малой жертвой покрывался всеобщий неизмеримый ущерб. Кузьма знать не знал, что подобными изворотами отличался Палицын, и что послание, вернее всего, внушено незлобивому Дионисию исхищренным келарем, а вовсе не плод их равных усилий. Но твердый разум старосты противился очевидному подлогу, хотя понятно было, что подлог содеян ради умиротворения в народе. И когда Савва дошел до строк, прямо призывающих всеми силами встать под начало Трубецкого и Заруцкого, Кузьме полностью открылась суть послания, и он возроптал в душе.
Не одного его смутил призыв из Троицы, но смиренное молчание в храме было схоже с безвольным покорством, которое сам староста не раз обнаруживал и преодолевал в себе.
Однако в прежние времена он больше всего пекся о своем достоинстве – теперь нужно было держать ответ за многих, кто опирался и надеялся на него. Пробил его час. И он не простил бы себе, если б смолчал. Нужно было решать бесповоротно: нынче либо никогда. Одно сдерживало. Не в его натуре выставляться напоказ, упреждать словом дело, и он еще колебался. Как наваждение, обездоленный мужик-беженец не давал забыть о себе.
– «…Молите служилых людей, – со слезной хрипотцой, словно сам писал грамоту, продолжал читать протопоп, упоенно донося до паствы упорное увещание высокочтимых им столпов церкви, – чтобы всем православным христианам быти в соединении, а служилые бы люди однолично, безо всякого мешканья, поспешили под Москву на сход…»
– Нет, не гоже нам единиться с Заруцким! – само собой вырвалось из уст Кузьмы, и все, кто был в соборе, вздрогнули, словно от нежданного громового раската. – Коль он на своей земле пакостит, заступник ли он ей? Худой-то славы не избыть. Не водилось такого на Руси, чтоб честь с бесчестьем смыкалися. Сами ополчаться станем! Сами сход учиним!
Сразу утратив воодушевление, Савва в поднявшемся неумолчном шуме кое-как дочитал троицкую грамоту. Изобличительная правота Кузьмы напрочь выбила его из колеи. И заготовленную на завершение речь о библейском Самсоне, что, вернув себе утраченные силы, погреб своих обидчиков под развалинами обрушенного им храма, протопоп не стал говорить.
Люд задвигался, затеснился, высвобождая узкий проход для знати, первой двинувшейся к выходу. Задержавшись возле Кузьмы, дьяк Семенов наставительно помотал жирным пальцем перед его лицом.
– Круто солишь, молодец. Тебе же расхлебывать!
Но шедший за ним стольник Алексей Михайлович Львов с мягкой улыбкой поддержал Кузьму:
– Не чаял я, что у нас в Нижнем таком смельчак сыщется. Надобен буду для совета – зови. Рад помочь доброму зачину.
На паперти Кузьму облепили посадские. Хлопали по плечу, одобряли. Но кое-кто проходил мимо, взглядывал искоса. Растолкав толпу локтями, к старосте пробился торговец Самойла Богомолов. Был он недовольный, сердитый. Бобровая шапка сбилась набекрень, обнажив лысину.
– Ты, Минин, днесь сговаривал на торгу таможенного голову поднять мыто вдвое?
– Было, – мирно ответил Кузьма, вправду замысливший увеличить таможенную пошлину, ибо приток денег в земскую казну оказался скуден.
– Своевольство! – взревел Богомолов. – Я те сто рублев на войско жертвовал. Вороти немедля!
– Спирин двести дал. Еще сулил. Не для себя сбираю.
– Сколь? – не поверил Богомолов. – Двести! Эва отвалил. Токмо его воля деньгой сорить, а с меня довольно. Не бешены у меня деньги. А ты еще мыто подымать!
– К поручной-то, небось, прикладывался. А уговор дороже денег, – хотел вразумить торговца Кузьма.
– Мало к чему я руку прикладывал! – не унялся Богомолов. – Давай поручную сюды – вычеркну свою подпись.
– Нету уже у меня поручной.
– Ухоронил, плут! Двор твой размечу, а поручню отдашь. По доброй воле она писана, а нонь моя воля ина.
– Езжай в Мугреево. Там она. У князя Пожарского.
– У кого? – изумился Богомолов и осекся. Он растерянно стал озираться вокруг, ища сочувствия. Но взгляд его натыкался лишь на озороватые усмешки.
Вот уж не думал – не гадал расчетливый торговец, что попадет впросак, когда его, как и других имущих людей, Кузьма, ссылаясь на Спирина и строгановских приказчиков, склонил дать поручную запись о денежном вкладе на ратное устроение. Деловые бумаги обычно хранились в Земской избе, и при желании их можно было изъять либо исправить. Но Кузьма, обойдя богатые дворы и собрав подписи, сразу же отправил свиток с Фотинкой к Дмитрию Михайловичу. Так он достиг двух целей: пресек всякие поползновения кого-либо из подписавшихся пойти на попятную, а тем паче учинить вредный сговор, и представил князю свидетельство твердой решимости нижегородцев снарядить войска.
– Ловко же ты нас всех повязал, – сумрачно сказал, придя в себя, Богомолов. – Даром не сойдет тебе то. Отступятся от тебя старшие, Минин.
– Старшие отступятся – молодшие возьмутся, – отозвался Кузьма, но услыхав, что по толпе прошел шумок, обратился ко всем: – Можно сберечь богатство да можно и потерять его. Есть кому зариться. Нагрянут супостаты и в нашем городе сотворят то ж, что и в прочих. Устоим ли в одиночку? Без вселюдского честного ополчения не устоим. Пошто ж скупиться? Завтра сход учиним. Завтра общей волей все порешим…
Богомолов слушал Кузьму вполуха. Он уже думал о Спирине. Его заела щедрота приятеля. И не хотелось ему себя уронить перед ним, не хотелось на посмешище прослыть скаредом.
– Двести рублей! – мотнув головой, вскричал он. – И князь Пожарский про то ведает. А я триста даю!..
Когда народ схлынул с паперти, на ней осталось только два человека: Кузьма и стоящий от него поодаль Биркин. Стряпчий начальственно поманил старосту к себе. Кузьма подошел.
– Поведали мне, ты у Пожарского был, – как бы нехотя разомкнул тонкие и сухие губы Биркин, показывая, что он только из-за крайней надобы снисходит до разговора с Кузьмой. – Не намекал ли князь о моих с ним перетолках? Коли служилые надумают ополчаться, собранная тобой казна должна быть у меня.
– Да впрямь ли? – пронзительно глянул на Биркина староста.
– Ну ты! – гнусаво прикрикнул стряпчий, выпячивая грудь. – Не в свои сани садишься.
Кузьма не удержался от улыбки. Смешон был Биркин, когда пыжился. Как бы ни напускал он на себя грозный вид, а не чета покойному Микулину. Не та стать. Явно взбивал себе цену стряпчий. Отчего ж не приметил в нем слабину Пожарский?
– Не тебе я подначален, – своим обычным ровным голосом сказал Кузьма, – а посадскому миру. У него и справляйся. Да прими добрый совет – наперекор встанешь – врозь мы будем. Всему делу урон тогда.
И Кузьма, отворотясь от закипающего гневом стряпчего, проворно сошел с паперти. Ему нужно было поспешать к Земской избе, где его ждал коломенский беженец и откуда он хотел разослать по городу десятских с оповещением о завтрашнем сходе.
2
День выдался на диво. Погожий, сухой. Верно, последний такой денек перед неотвратной Параскевой-грязнихой да порошихой. Блистало солнце и голубели небеса, будто и не осень, а пора вешняя. И ни обнаженные корявые дерева, ни вовсе омертвелая трава на склонах и в подножье Дятловых гор не вызывали предчувствия близкой зимы. Еще не опал жесткий лист с дикого вишенья, что встрепанными купами поросло на вымоинах, и еще скукоженными, теряющими чистый цвет кистями пыталась красоваться рябина меж амбарушками у Почайны. Только Волга насквозь прочернела от холода, и солнечные лучи отблескивали на ней мрачно да студно.
Вытекая из Ивановских ворот на крутой съезд и с другого конца валя через торг снизу, навстречу друг другу тянулись вереницы людей и скапливались нарастающей толпой возле Земской избы. Такого скопища давно не знавал Нижний. Собирались все, кто мог ходить. И расторопные мальцы уже удобно оседлывали сучья ближних дерев, налеплялись на лубяные кровли клетей, а двое даже отважились влезть на ребристый верх крыльца Никольской церкви, увенчанного маковкой с крестом.
Народ старался сбиваться кучками: свои к своим. Наособь – служилые дворяне и дети боярские, наособь – стрельцы, торговые гости, судовщики, монастырская братия и даже наособь – жонки. Но все эти кучки растворялись в несчетном множестве посадского ремесленного и промыслового люда: мучников, кузнецов, солоденников, оханщиков, квасников, холщевников, красильников, кожевенников, плотников, скорняков, возчиков и прочей тягловой черни, Вперед, по обычаю, пропустили знать и почтенных старцев.
И сойдясь всем миром, всем городом, может быть, впервые за все лихолетье нижегородцы почуяли, что все они до последнего накрепко связаны единой бедой и едиными надеждами, раз без всякой принуды, а только по своей охоте стремились сюда. Переливались, перебегали от одного к другому незримые токи, что всегда возникают при большом скоплении народа, и возбуждение нарастало. Толпа оживленно колыхалась. Говор слышался отовсюду.
Больше всего было шуму там, где скучились мининские понаровщики во главе со Степкой Водолеевым. Прибились к ним отважный Родион Мосеев, могутные кузнецы братья Козлятьевы, Гаврюха, старик Подеев, другие посадские мужики.
Степка, распаленный, шалый, в распахнутом армяке, не страшась послухов, крамольничал в открытую:
– Не поладит сход с Кузьмой, бунт учиню. Не можно Москву в беде бросить… Ей Богу, учиню! А попервости воеводску свору тряхану. Нашего борова-то, дьяка Семенова, взашей из Нижнего выпихну. Аль не ему войско бы сряжать? А он праздничает. Допустим ли до позорища?!
– Как бы не так! Не допустим! – горячились мужики. Но кое-кто из них трусовато пятился в гущу толпы: от баламутных речей добра не жди.
В окружении служилого дворянства, среди которого был стольник Львов, богатый помещик Дмитрий Исаевич Жедринский, сын боярский Иван Аникеев, что ездил когда-то посыльным в Рязань к Ляпунову, а также подьячий Воеводской избы Андрей Вареев, с внушительной серьезностью разглагольствовал стряпчий Биркин:
– Не в тягость уразуметь, за кои дела мясник в соборе ратовал. Не ляхи ему досаждают, а Заруцкий. На Заруцкого и норовит ополчаться. Мяснику ли судить да рядить? Возомнил о себе преизрядно…
Дворянство помалкивало: мол, там видно будет. Львов пристально разглядывал стряпчего.
Как всегда, степенно и неторопливо вели разговор торговые люди. Широколобый кареглазый крепыш лет тридцати, одетый ради схода в новую однорядку, с озабоченностью выкладывал:
– Припасы велики понадобятся. А мучна-то новина не добра ныне: сыра, серовата, в рот сунешь кисло, и вся комками…
Пышнобородый Замятня Сергеев, хоть и важничал, но не скрывал радости:
– Вот уж пра, мудер Кузьма: сапоги-то мои впрок придутся. Боле сотни ратников вмиг обуть смогу.
– Все, гляди, с лету пойдет, – поддакивали ему.
– Полно-ка вам пылью порошить, – не одобрил преждевременных заглядов Федор Марков. – Сход всяко повернуть может. Не сглазьте.
Торговцы прикусили языки.
Там, где тябили платки и кокошники, тоже плелись свои разговоры. Жонки делились страшными слухами.
– Сама, баит, видала, – горестно говорила высокая плоскогрудая баба, перекладывая на свой лад рассказ какой-то беженки. – Огнь кругом пышет, тела безглавые валяются. А мучители коньми, коньми молодок в груду сбивают. Да еще гычут бесы – потеха им. Одну с чадом грудным наземь сшибли. Так чадо-то поганый вражина копием проткнул и с копия в огнь скинул…








