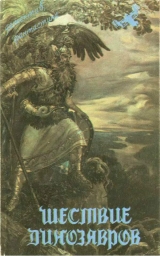
Текст книги "Купно за едино!"
Автор книги: Валерий Шамшурин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
– Пошто?… Пошто ты ко мне с кобылятиной суешься? – задыхаясь от гнева, взревел воевода. – Не ведаешь, с кем толкуешь?
– Прости, милостивец, – очумело захлопал глазами и мигом оросился на колени перепуганный приказчик. – Рассудил я, коль кобыла та курмышска, то и ответ за нее пред тобою держать пристало.
И не мог понять воевода, то ли всерьез завел речь о кобыле Симонов, то ли потешить хотел, а то ли насмешничал. Скользкий народец тут, не ухватишь. Еще более помрачнев, Елагин снова осведомился:
– Не утек у вас кто в Нижний?
– Покойно у нас, – вставая с колен, с прежней угодливостью ответил городовой приказчик. Но, помолчав, сказал обратное: – Коли по правде, то ины навострили лыжи. В Нижнем-то, вдругоядь уж слух прошел, мужик власть забрал. Из посадских де. Вот и сумятно у чувашей: кто верит тому, а кто нет. Прознают толком – и ни весть кака сшибка учинится.
– Шелепуг давно не видали! – выбранился воевода и, едва не сбив отскочившего Симонова, пустил коня вскачь. Стрельцы понеслись за ним следом.
Но погоня не задалась. За Ядрином Елагин напоролся на загородившую проезд конницу татар. Конница неостановимо крутилась на месте, взблескивали над головами кривые сабли, словно татары изготавливались к схватке меж собой. Посреди круга бешено спорили двое мурз в островерхих малахаях с лисьими хвостами назади. Воевода, зная по-татарски, прислушался.
Тот, что помоложе, гибкий и верткий, привскакивая над седлом, тыкал нагайкой в сторону Нижнего.
– Кире бор атынны! Хур итмэ безне!
Другой, плотный, крутоплечий, напирал и напирал на соперника, пытаясь своим конем оттеснить его коня.
– Узем белям мин кая барасыны! Кылган жил унгаена ята.
– Курше – колан бер берен бэлядан ташламаска тиеш.
– Минем куршем – Кырым ханы, синен куршен – Мэскэу. Элле Иван Грозный Казан каласын талаганны оныттынмы?…
– Татар дигэн даным бар. Мижгарлар белэн бергэ кубам дигэн антым бар.
– Ахмак син!
– Кара эгле бэнбе син![33]33
– Заворачивай обратно! Не позорь нас!
– Сам знаю, куда мне ехать! Ковыль всегда стелется по ветру.
– Соседи должны выручать друг друга в беде
– Мой сосед – крымский хан, а твой – Москва. Забыл, как Иван Грозный Казань зорил?…
– Я честный татарин. Я сказал: «Пойду с нижегородцами!» – и я иду.
– Ты болван.
– Ты негодный человек! (татарск.)
[Закрыть]
Враз поделившись надвое, татары поскакали в противоположные стороны. Меньшая их часть с молодым мурзой, словно не замечая елагинского отряда, пролетела обочь его, осыпав взвихренным снегом.
Такая непочтительность скорее обескуражила, чем возмутила воеводу. Что ему татарские поклоны? Тут взбушевалась сама стихия, а унять стихии было не в его воле. Задумавшись, Елагин вконец склонился к тому, чтобы открыто примкнуть к арзамасцам, с чьей помощью он умножит свои силы, и уж тогда наверняка удержит за собой отрезанные у Нижнего земли. А Нижний пусть устремляется на Москву, где обломает зубы об Заруцкого. Потому расправа с Биркиным – пустые хлопоты, в ней никакого проку. Так, поостыв, размыслил курмышский воевода, и у него пропала всякая охота продолжать маятную погоню.
Снова миновав заваленный снегом убогий Ядрин, где сонно топталась на въезде и выезде беспечная воротная стража, елагинский отряд выбрался в чистое поле, чтобы повернуть на Курмыш. Но дорога была еще не короткой, и стрельцы спешились, разминая затекшие ноги и давая лошадям отдохнуть.
Вдруг позади послышался частый перестук копыт. Низко склонившись к гриве коня, прямо на становище несся одинокий вершник. Налетев на стрельцов, он удивленно вскинул голову. Жгучими адамантами блеснули раскосые большие глаза.
– Чо, белены объелся? – заорал задетый его конем старый десятник, поднимаясь со снега.
Всадник хотел отскочить в сторону, но ему не дали. Несколько рук ухватилось за узду и седло. Подошел Елагин.
– Куда поспешал, молодец? Не в Нижний ли?
Неизвестный отворотился и молчал. Воевода понял, что угодил в цель. Кивнул своим:
– Обыщите-ка.
Стрельцы рывком сдернули молчальника с коня. Он яростно заизвивался в их руках, а одному зубами вцепился в ладонь. Тот в остервенении ударил строптивца по голове, сбил шапку. Длинные аспидно-черные волосы взметнулись и рассыпались по плечам.
– Ведьма! – в диком ужасе отпрянул стрелец.
Елагин увидел перед собой пригожую ладную девку.
Словно оберегаясь от насильничества, она прижала руки к груди, темный румянец проступил на ее скуловатых тугих щеках, а глаза горели неистово, отважно.
– Ай, да то ж Укули, черемиска! – воскликнул десятник. – Видывал я ее в Кузьмодемьянске. Сущая смутьянка, бесстыдница. Своих язычников к Минину бежать подбивала.
– К Минину? – как бы удивился воевода.
Девка подтвердила с гордым вызовом:
– Правда, правда!.. Минин верю, другой – нет… Минин дает, другой грабит. Буду с Минин говорить…
– Столковаться, вестимо, едешь, – чуть ли не ласково сказал Елагин, унимая горячность черемиски. – Худого в том нет. Езжай себе с Богом.
Не веря нежданной милости, она стояла как вкопанная.
– Езжай, езжай! – отечески повторил воевода и отвернулся.
Девка нерешительно подошла к коню, ловко вскочила в седло и, оглядываясь, тронулась по дороге мимо расступившихся стрельцов. Когда она вовсе успокоилась и уже принялась понукать коня, короткая стрела загодя взведенного самострела, которая легко пробивает доспехи, впилась ей в спину и пронзила навылет.
Бездыханно распластанное тело ее осталось лежать посередь темнеющей снежной равнины. Ничтожная отместка ублаготворила воеводу.
Но в Курмыше Елагина подстерегала новая напасть. Верный челядинец-ключник еще на крыльце подал ему грамоту.
– От посланцев князя Пожарского. Тут они возле, в деревушке Болобонове встали, ответа ждут.
В покоях Елагин поднес лист к свече, стал читать вслух:
– «Господину Смирному Васильевичу, дворяном, и детям боярским, и князем, и мурзам, и сотником, и торханом, и сотником стрелецким, стрельцом, и козаком, и старостам, и целовальником, и всем посацким людем – Дмитрий Жедринский, дьяк Кутепов челом бьют. По совету всей земли, велено нам быть на Курмыше, на Смирнова место Васильевича Елагина…»
Как ядовитую змею, воевода с омерзением швырнул грамоту на пол, принялся топтать ее ногами.
– Меня! Меня сместить умыслили, поганцы! И слыхано ли – «по совету всей земли»?! Куда махнули! С говядарем-то, с торговцем! Превыше всех!.. Так я и покорюся! Так и уступлю! На-ко выкуси! – заросший сивым волосом, как мохом, встрепанный, расхристанный и потому уже нечеловечески страшный Елагин зловеще воззрился на бедного челядинца. – И вы, небось, радешеньки выдать меня с головой?
– Что ты, благодетель! Нешто можно? – завопил ключник, трясясь. – И пес на того не лает, чей хлеб ест…
– Пущай те посланцы в деревушке сиднем сидят. А то погоняйте-ка их по округе: да хощем устроити, где попригоже. Дабы помыкалися вволю да в обрат пустилися. Ответа от меня им не дождаться!
Когда ключник ушел, воевода рухнул на скамью, и, заскрипев зубами, согнулся, словно его ударили в поддых.
4
Ободренные приходом смолян, в Нижний густо повалили уездные дворяне и дети боярские. Всякому, кто прибывал в ополчение, Дмитрий Михайлович учинял смотр. При отборе служилых людей князю пособляли Юдин да старый Алябьев, что не испытывал никакой нужды сверяться по разрядным росписям, ибо многих он знал в лицо.
Как и прежде на государевых верстаниях в службу, дворяне съезжались конны, людны и оружны. На дворе у Съезжей избы, на умятом, в сенной трухе снегу было пестро от разного люда. Одни побывали в сечах и держались с достоинством, хмуровато, важно, иные же были новиками – их сразу выдавали петушиные повадки и горластость. Дворяне большей частью не отличались богатым убранством: тягиляи преобладали над родовыми кольчугами. Некоторые же вовсе явились без доспехов. Но несмотря на то, что крепкие поместники Головины, Ружениновы, Онучины, Нормацкие, Голядковы выглядели намного справнее мелкопоместных Доскиных да Безделкиных, восседавших на разномастных неказистых лошаденках в окружении всего трех-четырех боевых холопов в совсем уж худой одежонке, и те, и другие с равной оживленностью после смотра спешили на Нижний посад к Минину за жалованьем.
Перед крыльцом за вынесенным из избы столом сидел Юдин и, дуя на коченеющие пальцы, заносил принятых в списки. Позади него кучкой толпились всеведы-окладчики, указывали, кто в какую статью годится. Князь с Алябьевым стояли обочь. Все, кто приближался к столу, поначалу беседовали с ратным воеводой.
Никаких заминок не было, покуда перед очами князя не предстал благолепный дворянин на буланом жеребце. Все в нем выдавало богатого ратника: искусные доспехи и шишак с насечками по околу, сабля в узорчатых ножнах на боку и сунутые за оба голенища чешуйчатых бутурлыков пистоля.
– Иван Борисов сын Доможиров, – назвался он.
– Собою и службою добр, с Ляпуновым Москву осаждал, – поспешил громогласно оповестить со стороны окладчиков толковый, с цепкой памятью Андрей Вареев.
– Погодь, погодь, – вдруг осадил его стоявший рядом разборщик от Земской избы Федор Марков. – Чего выгораживаешь? Наказано же нам: доброго по недружбе не хулити, а худого по дружбе не хвалити. Вестимо Доможиров-то где-то до Ляпунова был.
– Открой, – с недовольством покосился на Маркова Пожарский, которому явно приглянулся справный дворянин.
– Пущай сам ответ держит, – уклонился целовальник.
– Бесчестья за мною нет, – вызывающе слетело с уст Доможирова.
– Помилуй Бог, – вмешался настороженный Алябьев.
– Ты ж, Иван Борисов, на Нижний мордву водил да опосля тушинскому вору крест целовал.
– Целовал, – распрямился в седле Доможиров, и лицо его побледнело. – Не мог снести, что Шуйский лжою, без патриарха на царство был венчан, что служилых людей ни во что не ставил. По заслугам ли, скажи, Дмитрий Михайлович, он тебя пожаловал за твое рвение? Выморочным поместьицем наградил, а в стольниках-то так и оставил. А тебя, Андрей Семенович? Токмо в похвальной грамоте помянул.
Пожарский с Алябьевым молча переглянулись: сами допрежь таили обиду на прижимистого Шуйского да перегорела она в них! Выше всяких обид был ратный долг. Все же слова гордого дворянина добавили горькую каплю в их души.
Князь подошел к Доможирову, дружески протянул ему руку.
– Не принимай близко к сердцу, Иван Борисович, щипки наши. С охотою берем мы таких бывалых воев, каков ты. И всех, кто к нам по своей воле идет, подобру привечать будем. А коли и вина есть, отвагою да храбростью в схватке с ворогом за землю русскую она искупится.
Удоволенный Доможиров крепко пожал руку князю.
После дворян и детей боярских настал черед посадских, крестьян, казаков, всего притекшего люда, кто набирался «по прибору». Продрогший вконец Юдин ушел греться в избу, передав бумаги Варееву. Удалился и притомившийся Алябьев. Поубавилось число окладчиков: обговаривать да спорить боле было нечего – жалованье приборным полагалось единое, по меньшей статье.
Князь послал в Земскую избу за Мининым, который мог споро и точно учитывать, какая надобна справа для пешей рати, а также отбирал обслугу: конюхов, скорняков, оружейников, лекарей, возчиков, кошеваров, шатерников и прочих, умельцев. Тут ему замены не было.
5
Даже две одинакие свечи горят по-разному: одна – ровно, чисто, легко, другая – космато, жадно, с метаниями и потрескиванием. Так и натуры человеческие – не сыскать до конца схожих. И если они сближаются, а тем паче душевно единятся в рисковом многотрудном деле, то не враз и не без преткновений. Как бы ни был великодушен, открыт и отзывчив Пожарский и как бы ни был сдержан, нетщеславен и чуток Минин, у них далеко не все складывалось меж собой гладко. Бывало, нагар нарастал на пламени. И не только Биркин становился вящей помехой.
Князь поначалу радел только за отборное дворянское войско с упором на мощно вооруженную конницу, ибо не хватало сроков, чтобы подготовить из простонародья сноровистых копейщиков наподобие немецких кнехтов, которые слитно, а не вразброд могли вести бой в сомкнутых рядах. Кому, как не умудренному ратному воеводе было помнить и о более чем столетней давности битве при реке Шелвни, когда московская конница легко рассеяла едва ли не вдесятеро ее превосходящее пешее новгородское ополчение, и о недавней Клушинской сече, где огромной, но неразворотливой русской рати учинили полный разгром лихие гусары удачливого гетмана Жолкевского. Да и самому Дмитрию Михайловичу еще в начале своей службы на литовском рубеже не единожды доводилось уверяться в ратном превосходстве подвижных польских хоругвей. Правда, шляхта в бою своевольничала: всякий норовил выставиться напоказ и единолично добыть победу. Наипаче надо было противостоять тому твердостью и сплоченностью конного напора.
Минин же, опираясь на волю земства, внушал князю, что без большой посошной рати на обойтись. И не то чтобы он считал черных людей надежней служилого дворянства, а просто-напросто трезво рассудил, что на иссякнувшей силами Руси неоткуда было взять изрядного числа искусных ратников. Во вселюдском ополчении, а не в ополчении только служилых – спасение. И потому княжеские доводы Минина не устраивали.
Нет, они не препирались ни наедине, ни на людях: князь не снисходил до таких размолвок с непосвященным в тонкости ратной науки земским старостой, а Минин и не думал посягать на устои воеводы, однако каждый исподволь упорно вершил свое. В конце концов была найдена золотая середина: то, чего хотел князь, не могло всецело исполниться – и он признал свою промашку, Минин же отступился от мысли не давать предпочтения никому и набирать ополчение без отбора.
После отъезда почем зря мутившего воду Биркина, который не переносил посадского вмешательства в ратные дела, Пожарский спокойнее пригляделся к рассудительному старосте и потеплел к нему. Еще не было дружбы, но усилилась приязнь. Накануне у литейных ям они видели, как два встречных возчика, не сумев разъехаться на узкой дороге, схватились за грудки.
– С ворогом эдак-то не цапаемся, – вдруг опечалившись, тихо сказал Кузьма, – ако друг с дружкой. Окаянно нутро. Мира жаждем, а грызню не изводим. Из-за пуста сыр-бор разгорается. Середь нас добро творящий – простец, зло деящий – разумник. Богом расчищено да бесом взбаламучено. Отсель многи беды наши. Из нутра сперва беса-то гнать надобно.
– Полно мудровать, вожатай, да на мели белуг ловить, нам бы с тобой пушек поболе изготовить, – молвил с легкой усмешкой Пожарский и лишь некоторое время спустя задумался над словами старосты и согласился с ним: в буднем нельзя не видеть истоков вселенских злосчастий.
Когда в тот же день явился к нему напыщенный поместите Никита Федорович Волховский с жалобой на мининских сборщиков, что по земскому приговору взимали пятую деньгу со всякого двора, не минуя дворов и нижегородской знати, ратный воевода резко попрекнул его:
– Бес тебя искушает, Никита Федорович. Гони его прочь от себя. Ты, деньги жалеешь, а ины живота не пощадят, твое же добро оберегая. Помысли, кто кого позорит.
Не ожидавший такого приема и непочтения к себе, Волховский немедля ушел от Пожарского, раздраженно хлопая полами тяжелой бобровой шубы.
Чем ближе становился ратному воеводе Минин, тем больше дивился князь сноровке и надежности сподручника. В хлопотах об ополчении Кузьма не упускал никакой малости. Все прибывшие в Нижний были у него устроены на постой, накормлены и обихожены. Самых юных по-отцовски опекал, не уставал учить уму-разуму. Слышал Пожарский, как единожды он справлялся у нескладного детины с новыми сапогами в руках:
– Коли намокнут, где будешь сушить?
– На печи.
– Ан ссохнутся. Ты в них на ночь овса насыпь, верное средство.
С удивлением князь открыл в Кузьме умение ловко владеть копьем, когда тот делился с новиками ратным навыком:
– Тут нельзя плошать, ребяты. Коли поспешишь ударить, острие задрожит и вскользь придется. Коли промедлишь – потеряешь силу. Надобно выждати, чтоб было в самый раз по выпаду, и ткнуть с оттягом, коротко. Бей не в бронь, а туда, где защита слаба, в шею либо в пах норови. Да ратовище-то легонько насечками изрежь, обхват крепче будет…
Придя, по зову Пожарского к Съезжей избе, Кузьма увидел, как двое стрельцов пытались оттащить от князя верткого толстяка в драной меховой ферязи. Взмахивая длиннющими рукавами, толстяк вырывался из рук, грузно бухался на колени перед князем и орал благим матом:
– Не дай пропасти, милостивец!.. Токмо на тебя вся надея!.. Един я, Семей, из трех братов, един из Хоненовых смерти чудом избег. Тихон безвестно сгинул, Федюшку литовский дозор околь Смоленска уложил… Ни московски бояры, ни Жигимонт чести не оказали… Хоть ты яви божеску милость!.. Всего-то ничего мне и надобно: поместьица воротить. Пособи-и-и!..
По трясущимся мясистым щекам истошного крикуна катились мутные слезы. И не было, казалось, на всем белом свете горше человека, чем он. Но когда стрельцам удалось унять и повести его со двора, Хоненов, обернувшись, злобно крикнул:
– Пропадите вы все пропадом! Честью просил – не допросился, сам татем стану!.. А вину на вас, окаянных, положу!..
Пожарский только покачал головой до посетовал:
– Каков удалец! От службы отнекался, а поместье ему вороти! Ловко! Мало ли таких ныне?
– Где молотят, там и полова, – невозмутимо заметил Кузьма.
Тесной кучкой к ним приблизились иногородние мужики, почтительно стянули с голов шапки. Впереди оказалось пятеро курносых молодцов в тяжелых тулупах с рогатинами.
– Прознали дак мы, рать собираете… Ште, мекам, и нам-те дремать, средилисе да и – сюды, – тягуче, с пригнуской молвил старший из молодцов, щекастый парнище лет двадцати с васильковыми задорными глазами и кучерявым пушком на подбородке.
– Вятски нешто? – улыбнувшись, спросил Минин.
– Вяцки, из Котельниця, – охотно отозвалась вся ватажка, тоже заулыбавшись.
– Не горазды у вас к нам примыкать.
– Наче выждати, бают, надоть, – согласился старший.
– Дрокомели, бают нижегородци-те, с ослопами, тако-секо, Москву взелисе слобонять.
– А вы, чай, ослушалися?
– Знам дак, кто глотку-то пелит. С Курмышом они заедин, оттоле вестовшоки к нам зашастали, дак про вас всяко плетут…
– Из Курмыша вестовщики? – встревожился Пожарский.
– Оттоле, – подтвердил синеглазый парнище. – К Заручкому дак пристать манят. Да у нас дурней-то нет. Стрельчи нашенски под Москвой-то бывали, всюю правду-ат сказывали, ште да поште. Им вера – не вестовшокам. Ждите, ишо наши-те к вам навалят…
Вятских сменили другие мужики с костистым и чернобородым крестьянином во главе. Что-то знакомое уловил Кузьма в его приветной улыбке, когда он оскалил щербатый рот.
– Почал тать в крестьянску клеть ночью спускаться по верви, – неотрывно глядя на Кузьму, ни с того ни с сего стал рассказывать чернобородый, – a сам рече: «Сниде царь Соломон во ад и сниде…»
– Муромский! – узнав мужика, обрадовался Минин. – Вот так сретенье!
Они крепко, по-родственному, обнялись.
– Всех своих до единого к тебе привел, – показал чернобородый на дружно подавшихся к нему однодеревцев. – И жонка моя тута, Федосья, с лошадьми ее на задворье оставил. Все путя обрат отрубил. Примай с потрохами Семку Иванова! Надобен ли?
– В саму пору. Ноне, вишь, поутру кумекал, кого походну казну стеречь нарядить. А ты, ровно в воду глядел: раз и – возле. Ладно ли добралися?
– Со страхованием. Чуть не до сельца Богородского оружные нас нагоняли, допытывалися: куды, мол, правим. Я уж смекнул: неспроста то. «До Лыскова, – ответствовал, – на поселенье». Слух прошел, что в Суздали казаки сбиваются супротив вас, Арзамас же с Курмышом к ним приткнуться хотят…
Вторичное упоминание о Курмыше вовсе омрачило Пожарского. Ратный воевода дотошно расспросил Семена Иванова. Слухи о нарастающей вблизи угрозе ополчению подтвердил и чувашин Угадер из Чебоксар. Он добирался до Нижнего через курмышские заставы. Чувашин промерз до костей, изголодался, и язык его ворочался с трудом, но все же из его скудных слов можно было уразуметь, что опасность нешуточная.
– Смирной Елагин – хаяр киреметь! – ругался чувашин. – Его тюре-шара пугай мужика. Эх, айван народ!..[34]34
Хаяр киреметь – злой дух, тюре-шара – начальники, айван – простак (чуваш.).
[Закрыть]
Видя, как хмурится и ожесточается князь, Минин спросил его:
– Не пора ли, Дмитрий Михайлович, готовиться к походу?
Пожарский долго не отвечал, раздумывал.
– Нет, на авось трогаться негоже, – наконец сказал он.
– Мала покуда у нас рать, слабовата. Не все в сборе, кто сулился, казанцы не подошли…
– Хуже бы не было, коли замешкаемся.
Пожарского раздосадовала настойчивость старосты: сыскался указчик. Но князь тут же унял себя. Мысль о срочном выступлении рати не была уж такой никчемной и не стоило ее отбрасывать. Наверняка, подумал ратный воевода, Кузьма не раз пораскинул умом, прежде чем ставить на кон, а в предусмотрительности ему не отказать. И Пожарский снова ощутил притягательность разумного старосты.
– Добро. Соборно будем решать, советом и вскоре:
6
Охаянный и проклятый курмышским воеводой Елагиным Совет всей земли, объявившийся в Нижнем Новгороде, вправе был так прозываться. Своих выборных прислали сюда и смоляне, и вязьмичи, и дорогобужане, и ярославцы, и рязанцы, и вычегодцы, собирались тут ратные начальные люди из подмосковного стана, что порвали с Заруцким, из Калуги и Галича, из далеких украинных земель и даже из Поморья. А уж нижегородцам, как водится, сам Бог велел. Да и дело такое им было за обычай: еще во дни тушинской опаси не единожды обговаривали они свои осадные нужды единым земским сходом.
По заметенным февральскими обильными вьюгами улицам поспешали совещатели в Съезжую избу на конечный обговор. Народу набиралось свыше полусотни. Богатые, обшитые бархатом шубы знати мешались с овчиной и посконью, поповскими рясами, стрелецкими и пушкарскими кафтанами. Но никого не смущало то: уже не впервой крутая пора понуждает и знатного и худорода садиться на одну лавку и вести разговор наравне.
Были на совете новые лица, недавно прибывшие в Нижний известные ратные воеводы Василий Бутурлин и Федор Левашов, двоюродный брат Пожарского молодой Дмитрии Петрович Лопата-Пожарский. Вместе с Мининым и Спириным в окружении посадских выборных, явился богатый торговец из Ярославля, тамошний земский староста, Григорий Микитников.
Рассаживались молча, невесело. До всех уже дошли дурные вести о кознях Заруцкого и его приспешников. С тех вестей и повел речь Пожарский.
Минувшую ночь князь мучился бессонницей. Вновь заныли раны. Нездоровая желтизна проступила под его запавшими, сухо поблескивающими глазами. Он старался говорить ровно и строго, как ему подобало, но все же утомленность предательски обнаруживалась в его севшем сиповатом голосе, будто князь говорил через силу, с неохотой.
Из залепленных снегом пяти решетчатых окон сочилась хилая белесая муть, усугубляла тоску. Скорбен был застылый взор Звенигородского, сидевшего в распахнутой турской шубе за столом возле Пожарского и вяло кивающего его словам. И все, кто плотно сгрудился вокруг стола и кто расселся по лавкам вдали стен, были словно на одно лицо – тусклые, понурые.
Верно, кое-кому тут затея с ополчением уже мнилась тщетной. На что был сноровист Ляпунов, сумевший собрать многочисленное войско, а и то оплошал. Куда до него по калеченному Пожарскому, ежели и языком-то он еле шевелит? И опять же: против первого ополчения нынешняя рать – жалкая горстка, всего-то и набрано тыщи три. Где им биться с ляхами, коль и воровских казаков не осилят?
– Отовсель нам гроза, мало что от Заруцкого, – изъяснялся меж тем Пожарский. – Из Новгорода свеи могут грянуть, из Пскова – новый самозванец, под боком мутят уезд Курмыш с Арзамасом, мордву да черемис совращают.
– А крымчаки? – напомнил о самых коварных налетчиках Звенигородский.
– Крымчаки? – переспросил Пожарский, недоумевая, почему Звенигородскому понадобилось осведомиться о них и догадался, что тот с умыслом хочет нагнать страху. – Те покуда не сунутся. Шах Аббас ныне турок вельми донимает – не с руки им на Русь крымчаков натравливать, самим бы от персов упастись.
– Делагарди не преминет напакостить, – мрачно сказал Бутурлин, хлебнувший горя со свеями в Новгороде.
Но Пожарский, исподлобья глянув на нижегородского воеводу, не стал распространяться о свеях, повел разговор дальше.
– Порешили мы было следовать к Москве кратчайше, в Суздале учинить полный сбор, там дождаться ратников из Рязани да Вологды. Токмо Андрей Просовецкий упредил нас, овладел Суздалем. Идти туда – верная поруха.
– Нешто не выбьем казаков оттоль? – вскинулся смоленский дворянин Иван Доводчиков.
– Выбить-то, пожалуй, выбьем. Да с чем останемся? А нам Москву воевать – не Суздаль.
– Знатно рогатки раскиданы, – заметил стольник Львов.
– Выходит, Заруцкий все наперед расчел. Куда ни ткнись – кругом заграды.
– Навяжет, поди, окаянный нам еретицу Маринку с воренком, – сокрушился опасливый Звенигородский. – Токмо и надежда, что ляхи того не потерпят.
– Не заскучал ли ты, Василий Андреевич, по ляхам? – осерчав, не выдержал пустых сетований Звенигородского Алябьев. – С тебя, вижу, станется!
– Упаси и сохрани! – смутился тот и глухо уткнулся в шубу. Привык, что с ним перестали считаться.
– Что деяти-то будете, верховоды? Али отступиться мыслите? – насмешливо выкрикнул из угла один из стрелецких начальников.
– Годить, годить тут в Нижнем! Сюда Заруцкий не ринется – стены крепки, не по нему, а мы тем временем малыми силами его казацкие заставы на Владимирской дороге посметем, – предложил приверженный обороне Федор Левашов.
– Эко дело: малыми силами! – возразил вскипевший Бутурлин. – Комарины укусы. Покуда рать неполна, неча выставляться. Чего всуе мятемся? Ты сам-то, Дмитрий Михайлович, куда ладишь? Сижу, уразуметь не могу. Али на байки нас созвал?
Пожарский устало провел по лицу рукой, покосился на Минина. Тот, задумавшись, разглаживал глубокую складку на лбу. Но уловил взгляд князя, посмотрел твердо. Видно, то, что заведомо смущало Дмитрия Михайловича, нисколько не поколебало его. Все же Пожарский и сейчас не обрел полной уверенности, заговорил с растяжкой, как о чем-то крайне сомнительном:
– Нижегородцы склоняют меня идти на Ярославль…
– На Ярославль? – мрачно захохотал Бутурлин. – А почему не на Пермь? Крюк-то еще боле. Да мы все войско по дороге растеряем!
– Нет, не растеряем – умножим, – поднялся с лавки Кузьма. – Умножим! – повторил с силой. – Аки Волгу, притоками напитаем. Все дороги закрыты, на Ярославль же путь для нас торный, наезженный. Весь-то люд повдоль Волги свычный: и приветит, и пособит. Да и войско, идя без опаски, в походе гораздо обвыкнется. А от Ярославля до Москвы, вестимо, рукой подать. Самая для нас удобь. И уж ее не мы Заруцкого, он нас будет сторожиться. Да идти бы нам тотчас, до ростепели. Не так ли, Григорий Леонтьевич? – повернулся он к Микитникову.
Розовощекий, полноватый, молодой еще, но с цепким взглядом, что бывает у людей наторевших и оборотистых, Микитников заговорил живо и бойко, будто товар на прилавке раскидывал:
– Поспешить не худо. Ловко выйдет. Заруцкого-то вкруг пальца обведете. А то уж он и Ростов Великий к рукам прибрал. Его казачки к нам наведывались, да у нас они не чуют никакой опаски. Доберетеся ж до нас без великих помех. Мы встретим с радостью. Да что толковать, сами судите: я привез сюда весь наш денежный сбор и своих полтыщи рублев присовокупил. Дадим вам и ратных людей.
– Свеи к вам близко, не стерпят, – сел на своего конька Бутурлин.
– Хитро ли дело свеев умаслить? Им с места трогаться проку нет, к Новгороду тут же псковский самозванец подступит, – легко отбил довод Бутурлина Микитников, словно мелкую рыбешку от крупной откинул.
Все задумались. Затея была заманчивой, хотя и рисковой. Но и оставаться в Нижнем – войско томить. Лежач камень мохом обрастает.
– Мыслю, так-то верно будет, – первым высказался Алябьев, отличающийся прямотой.
– Соломон бы лучше не рассудил! – подхватил с лету одобрение старого воителя проворный Болтин, который в любых случаях предпочитал движение покою.
– Гут! – отозвался со своего места молчаливый немецкий голова, представлявший на совете иноземцев, что жили в Нижней.
– Попытка – не пытка, – согласился с ними и Бутурлин.
– Я бы… – хотел было настоять на своем Левашов, но махнул рукой.
Раздались еще голоса. Совещатели сходились на одном: поднимать ополчение в поход. У Минина светлело лицо.
– В старых книгах писано, – молвил Львов, одобрительно глядя на Кузьму, – «Не тщеславьем, не красотою ризною, не убранством почета достигают, но мужеством и мудростью». Так ли?
– Зо, – сказал немец с такой важностью, что совещатели засмеялись.
– Когда выступаем? – под смех спросил смолянин Доводчиков.
– Погодим до Великого поста, – осталось последнее слово за Пожарским. – Послал я гонцов в Казань – жду вестей от Биркина. А к Ярославлю допрежь вышлю с отрядом Лопату. Готов ли Петрович?
– Не посрамлю, брате, – тряхнул он кудлатой головой.
7
Церковь была пуста, и, ступив за ее порог, Кузьма с облегчением перекрестился. Коли и хватятся его в Земской избе – тут искать не станут: время ли первому сподручнику Пожарского шастать по убогим приходским церквам! А у Кузьмы вящая нужда побыть в уединении, дух перевесть, умом пораскинуть. Чуял, скоро и помолиться ладом будет недосуг.
Обмахивающий кадилом иконы сгорбленный от старости священник даже не глянул на Кузьму: служба свершена и прихожане теперь вольны разговаривать с Богом без пастырской помощи. Да и каким беспрекословным внушением мог помочь задичавший поп с космами нечесанных волос на плечах, трясущимися руками и в такой заношенной фелони, что она чуть ли не расползалась от ветхости? Церковная нищета – горький знак вселюдского прозябания. Скудели приходы – бедовала церковь. А тут и последнюю ценную утварь снесли из нижегородских храмов на ополчение, вовсе их опустошили. Окупятся ли жертвенные даяния? Может, пущего лиха надо ждать? Ни имущества не будет, ни веры, ни ратной удачи. Кого тогда винить?
И сами собой шевельнулись сухие губы Кузьмы, зашептал он сокровенное: «Душе моя, душе моя, пошто во гресех пребывавши, чью твориши волю и неусыпно мятешися?…»
Тишина в церкви успокаивала, врачевала. Плотные бревенчатые стены еще сохраняли тепло с утра протопленных печей. Легкий угарец смешивался с ладаном, и этот дурманный запах покруживал голову. Глаза отдыхали в сутеми. В большом подсвечнике у аналоя горело всего с пяток свечей, что мерцали словно речные желтые купавки. Почти целиком затененный тускло отблескивал иконостас красками деисусного чина. По-домашнему приютны невеликие деревянные церкви, где под крутым шатровым верхом все располагало к несуетному раздумью.
Творя молитву, Кузьма меж тем неотвязно размышлял о нежданном досрочном возвращении протопопа Саввы из Казани. В сильнейшем раздражении не похожий сам на себя протопоп явился один и сообщил Пожарскому, что не смог боле сносить злое грубство Биркина и что стряпчий ведет дело к тому, чтобы подчинить казанских служилых людей только своей воле, выставляя наперекор нижегородскому собственное ополчение. Князь досадливо морщился от слов Саввы, искал в них подвох: от обиды на Биркина, верно, лишнего клепает простоватый и вовсе неискушенный в хитростях ратного устроенья церковник. Так и не поверив Ефимьеву, Дмитрий Михайлович немедля послал гонца в Казань с тайным наказом. Кузьма счел то пустыми хлопотами, ибо нисколько не сомневался в истинности сведений протопопа, как и в том, что на казанцев уже полагаться безоглядно нельзя. Выходя из Воеводской избы вместе с Ефимьевым, все же спросил его:








