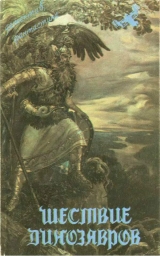
Текст книги "Купно за едино!"
Автор книги: Валерий Шамшурин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Маскевич бесцельно бродил у торговых рядов Китай-города с порушенными лавками, где когда-то кипела жизнь, но то время стало для него уже недосягаемо далеким. Он вспомнил о своем приятельстве с боярином Федором Головиным, когда они называли друг друга кумовьями и когда Маскевич ходил к нему на задушевные беседы, листая латинские книги, хранившиеся в боярском доме. Все пошло прахом, все развеялось с дымом пожара. Не возвратить. Былое быльем порастает, и не оно, а нынешние печали гнетут…
В укромных тенистых уголках на травке жолнеры играли в карты и кости, спуская ловкачам оставшуюся наживу, добытую больше трех месяцев назад на пожаре. Праздные игроки спорили, задирались, хохотали, заводили речи о кремлевских сокровищах, женских прелестях и выпивке. Одно было на уме у всех этих Вацеков, Войтеков, Франеков, Юзеков, Евдреков, которых шляхта прельстила легкой добычей, потому и пошли они за ней. И если щепетильный Маскевич не презирал их, то и не снисходил до приятельского общения с ними: у каждого – свой круг.
В уютном затишке, среди разросшихся лопухов вертлявый развеселый жолнер, прислонясь спиной к бревенчатой стене полуразваленной конюшенки, смачно рассказывал историю, что приключилась с римским папой Клементом. Как-то папа побывал в Польше, где его на славу угостили пивом, которое доставили из благодатного местечка Варки. Оно ему так пришлось по вкусу, что даже на смертном ложе он в бреду просил варецкого пива, без конца повторяя: «Пива з Варки». Собравшиеся кардиналы рассудили, что папа призывает какую-то святую, и стали истово молиться, возглашая хором: «О санкта Пива з Варки, санкта Пива з Варки!»
Дружный хохот покрыл последние слова рассказчика. Услышь такое кто из ксендзов, счел бы за великое кощунство. Но черных сутан не было вблизи. На что им эти простые грубые души? Они и без креста пойдут, куда им укажут.
Маскевич горько усмехнулся и хотел было задержаться, чтобы послушать другую забавную историю, за которую уже принялся рассказчик, но раздумал и пошел дальше.
Невыносимо опостылело Маскевичу все вокруг. И он мечтал теперь только об одном: вырваться отсюда при первой же оказии. Но как? Может, попросить Гонсевского, чтобы он послал его с увещевательной грамотой к королю? Нет, тут иные найдутся, более ловкие. Маскевич ничего просить не будет, у него есть свой гонор, своя честь.
Возвратившись в Кремль и по воле фортуны встретив Гонсевского на Ивановской площади, Маскевич и не подумал обратиться к нему, тем более что за паном начальником гарнизона подобострастно семенил кремлевский казначей Федор Андронов. Вот уж у кого ни капли достоинства! Но если бы слышал Маскевич, что говорил на ходу ясновельможному пану ничтожный потатчик, он еще больше стал бы презирать его.
– Единым махом узелок-то рассечем, – тыкался сзади бородой в крутое плечо Гонсевского Андронов. – Грамотку казачкам подкинем, якобы собственноручно Ляпуновым писанную… Хитрое ли дело учинить? У меня подъячие и не то могут, навострилися сукины дети… А не станет Ляпунова, Заруцкий с Трубецким не велика помеха… Вся рать и рассыплется… Полная воля нам…
– Вербум![14]14
Согласен (латинск.)
[Закрыть] – не поворачивая головы, буркнул начальник гарнизона.
– Чего? – не смог уразуметь лукавец.
– Добже! – повторил по-польски Гонсевский. Андронов с радостной послушностью кивнул и тут же приотстал.
У Грановитой палаты Гонсевского остановил ротмистр Скумин и просительно что-то зашептал ему, показывая на удаляющегося Андронова.
– Задужно чешчи хаму![15]15
Много чести хаму! (польск.)
[Закрыть] – донесся до Маскевича громкий и внятный ответ.
6
Афанасий сговорился со смолянами пойти до Арзамаса вместе. Не то чтоб он устрашился пуститься к Нижегородским пределам в одиночку, просто поостерегся: кругом толковали о беспрестанных разбоях на дорогах, а береженого Бог бережет.
Смоляне собирались копотно. Надо было разжиться пропитанием, починить одежку, раздобыть лошадей и телеги, а кое-кому и разыскать родичей, что поверстаны были на службу еще к Скопину-Шуйскому да позатерялись. Набиралось человек за триста, а ежедень подъезжали и подходили новые беженцы. Ляпунов помогал, чем мог, и настрого наказал своим людям не чинить смолянам никаких помех.
Миновала седьмица, как Афанасий проводил рать, которую воевода Максим Лихарев повел на подмогу Антонию в Поморье, а смоляне только еще завершали сборы.
Напоследок все скучились у Разрядной избы, дабы честь по чести попрощаться с Ляпуновым. Терпеливо ждали, когда он появится. Афанасий чинно беседовал с Кондратием Недовесковым. Тот говорил ему:
– Постыдно от боя-то уходить. А с чем воевати? Ни сряды, ни оружия. Рогач запечный нешто у кого попросить?… Коня нет, кольчужку выкинул – прореха на прорехе, сапоги худы. Да и у соратников моих, вишь, сабля на пяток, а копье на десяток людишек. На посмех вой, хуже голи перекатной. Срам!.. Уж испоместимся и, даст Бог, срядимся, иное будет. Прокофия Петровича за его милости не оставим…
Дробью копыт внезапно хлестнуло по ушам. В облаке пыли на всех рысях вылетело из-за острожного вала несколько десятков вершников.
– Дальни, видать, – с тревогой стал всматриваться в конницу Недовесков. – Надрывают лошаденки жилы, натужно ломят…
Передний всадник влетел в толпу, с надрывной одышкой крикнул:
– Ляпунов тут?
По изможденному усталому лицу грязными струйками тек пот, помятые доспехи густо запорошены пылью. Афанасий узнал Василия Бутурлина.
– Где Ляпунов? – в терзающем его нетерпении снова вскричал он.
– Казаки на круг его позвали, должон сей миг прибыть, – ответили ему.
Бутурлин закрутился в седле, не зная, как ему поступить: то ли дожидаться, то ли немедля скакать в казацкие таборы. Взгляд его встретился с напряженным взглядом Афанасия.
– А, помор! – вспомнил он соловецкого гонца и сразу же, будто от сильной боли скривился. – Уступили мы свеям Новгород. Сука сблудила холопска – Ванька Шваль, втихую мерзавец открыл Понтусу ворота, впустил. Одоевский с Исидором сдали город, а мы… мы билися насмерть. Да впустую все, одолел Понту с…
– Про Аммоса ведашь что, софийского протопопа? – спросил Афанасий.
– Ставь свечку ему, сгиб Аммос. Засел он в своем дворе с посадскими, дольше всех держалися. Нипочем их свеи не могли взять, запалили двор. Сгорели мужики, не далися живыми.
Афанасий стащил шапку с головы. Поснимали шапки и все вокруг. Скорбно молчали. Слышно было, как взвенькивали удила да тяжело дышали и всхрапывали кони.
– Не посидети уж боле под Протопоповой рябинкой, – словно бы про себя молвил Афанасий и намертво сцепил зубы.
– Что ж мы?… Что ж мы учиняем? – хмуро оглядел всех Кондратий, и все повинно опустили глаза. – Ни Смоленска, ни Новгорода, ни Москвы… Куда наша сила подевалася? Кто ее похитил, кто порчу напустил? И пошто же тыщи в сечах головы положили? За лжецарей али за землю свою?… Не сами ли с собой больше воюем, нежели с ворогом? Переругалися, передралися в кровь. Нету нам за то оправдания. Нету…
Недовесков застонал с хрипом, как умирающий, по шадроватым каленым щекам его горохом катились слезы. Долго в нем, видно, копилось да прорвало. И жутко было всем от его суровых слез.
Снова раздался вблизи конский топот. Юнец, посланный проведать, почему замешкался Ляпунов в казацком стане, вихрем несся обратно, нахлестывая коня.
– Колотите!.. Колотите в било!.. Неладно там…
Нарастающей бурей бушевало казацкое коло. Посреди него лицом к лицу стояли Ляпунов и вспыльчивый атаман Карамышев, который гневно потрясал искомканной грамотой.
– Глядите, братья, каку измену Прокофий творит! – надрывал он голос, пытаясь перекрыть сплошной ор. – Писано тут, что воры мы да насильники – следует нас имать, побивать и топить, где ни попадемся, а по вызволении московского государства истребить до единого!
– Душегубец!.. Кат!.. Июда!.. – неслось из хрипасимых казацких глоток.
– Ляхам предался…
– Нашей кровью тешится…
– Нами дорожку себе устилает…
– Всех сулит оделить землею, опричь казачества. Казакам – дулю!..
– Холопами своими нас числит, христопродавец…
– Помыкать норовит…
– В рыло тую цыдулю ему!..
Уже тянулись к Ляпунову хваткие мослатые руки.
Он возвышался над толпой, неколебимо и бесстрашно, как путник, застигнутый врасплох злобной собачьей сворой и здраво рассудивший, что лучше переждать остервенелый лай, чем отбиваться. Лишь после того, как шум позатих, с удручением и горечью сказал:
– Подкинули вам поклепный лист, казаки, нет моей вины.
– Брешешь! – взвился Карамышев. – Верные люди бумагу у ляхов перехватили. – И ткнул листом в глаза Ляпунова. – Смотри, твоя рука!
Прокофий спокойно взял грамоту, расправил, всмотрелся.
– Верно, схожа с моею, токмо не я писал.
– А рука все ж твоя?!
– Его, его рука, сличали уж! – с готовностью подтвердили из толпы. И вновь она разом пошатнулась, взревела. Грозно взблеснули вырванные из ножен сабли.
– Не щади!
– Руби изменника!
Первым наотмашь ударил Карамышев. Еще несколько сабель впились сзади в отпрянувшего Ляпунова. И он упал навзничь. Казаки стали свирепо добивать его.
Из толпы вырвался Иван Никитич Ржевский. Уязвленный после московского пожара не пожелавшими с ним знаться боярами он бежал из Кремля и переметнулся в ополчение. Не был ему по сердцу Ляпунов, но Ржевский не мог снести неправедной с ним расправы.
– За посмех вы Прокофья гробите! – с отчаянием стал раскидывать он убийц. – За посмех! Нет вины на нем!..
Обагренные кровью сабли вновь взвились, и заступник повалился рядом с Ляпуновым.
Мстительная толпа огромным диким табуном бросилась к Разрядной избе, чтобы разнести ее в щепки. Чуть не столкнувшиеся с ней смоляне и ратники Бутурлина в смятении свернули с пути.
Глава третья
Год 1611. Лето. (Нижний Новгород)
1
Напитанная застоялым зноем июльская ночь тяжело нависла над безмолвным нижегородским кремлем. Пелена облачной мути заслоняет звезды, Ни освежающего дуновения ветра, ни собачьего лая, ни единого огонька – все замерло в недвижности сонного обморока, все пребывает в отрешенности и забытьи глухой ночной поры.
Подняты подъемные мосты у проездных башен, накрепко заперты ворота, опущены грузные запускные решетки и завешены деревянными щитами боевые окна – проемы между зубцами на стенах. Кремль отгородился от всего мира, чтобы никто не мог помешать его заповедному покою. Но всегда наготове укрытые в башнях медные затинные пищали с горками ядер возле них, и терпеливо ждет своего часа установленная на широком раскате могучая пушка «Свиток».
С дозорной вышки на Часовой башне молодой сторожевой стрелец Афонька Муромцев осовело вглядывается в смутные очертания строений внутри кремля, угадывая рядом с куполом ветхой Архангельской церкви тесное скопище кровель воеводского двора, окруженного тыном. Полное спокойствие там.
Афонька переводит взгляд на невидимую Дмитриевскую башню, пытается разглядеть идущую от нее через весь кремль в подгорье к Ивановским воротам Большую мостовую улицу, но все его старания напрасны. Стрельца одолевает дремота, глаза слипаются. Но спать нельзя – надо дожидаться смены, а Афонька хочет показать свое радение.
Он расстегивает кафтан, почесывает потную грудь и томительно размышляет, чем еще занять себя и тем убить время. Потом вяло переходит мимо вестового колокола на другую сторону и долго прислушивается к тишине, внимая слабому журчанию речушки Почайны, бегущей в овраге неподалеку от стен. Больше нет никаких звуков, а на Волге, в которую втекает Почайна, – тишь глубокая, бескрайняя, нерушимая, сколь ни вслушивайся. Афонька переминается с ноги на ногу, гонит дремоту скрипом настила. Пустая затея – сон валит неодолимо.
Тогда Афонька оборачивается к ближней Северной башне и, напружась, кричит тягучим позевистым голосом:
– Сла-авен Нижний Нове Го-о-ород!
Но ему никто не отвечает. Он снова кричит, уже требовательно и сердито, догадываясь, что его беспечный сосед вздремнул.
– Славен город Вологда! – с большим запозданием доносится до Афоньки со стены из-за тесовой кровли ходовой площадки – гульбища глуховатый досадливый отклик.
И вот уже затевается неспешная перекличка от Северной башни к Тайницкой, от Тайницкой к Коромысловой, от Коомысловой к Никольской и по всей крепостной стене, по всему каменному кольцу.
– Славен город Володимир!
– Славен город Кострома!
– Славен город Рязань!..
Величают и Псков, и Коломну, и Вятку, но стольную Москву никто не поминает. В чужих руках Москва, поругана, обесчещена, и не размыкаются уста, чтобы по обычаю воздать ей хвалу. Лучше молчанием обойти, не бередить душу. Тем паче о злодейском убийстве Ляпунова уже наслышаны, и вовсе пропала надежда на скорое вызволение столицы, Нечего славить то, о чем скорбеть надлежит.
В глухоте ночи тонут голоса, сменяя друг друга.
Но всполошенный дозорщиками, не стерпел и тоже встрял в перекличку какой-то шальной кочет-горлодер в кремле, ему подпел другой, и, услышав их, опамятовались, закукарекали наперебой петухи сперва в ближней подгорной Стрелецкой слободке за кремлем, а после во дворах Нижнего и Верхнего посадов. Заклокотала от петушиного ора ночь. Словно напуганная бойкими хрипастыми воплями, порассеялась небесная муть, и остро взблеснула звездная россыль в деготной мгле. Опахнуло землю бодрящим свежачком – верный знак близкого рассвета.
Пробудились, заворочались на дощатых ложах в своем заклепе – каменном пристрое к стене у Ивановской башни, два потаенных узника. Оба они были чужеземцы, вместе несли наказание за одну вину. И сроку им не было указано.
Один из них легко соскользнул с голых досок, настланных на козлы, подошел к решетчатому сквозному оконцу и замер, прислушиваясь к ночи, явно чего-то ожидая.
– Квид ту, патер меус?[16]16
Что ты, отец мой? (латин.)
[Закрыть] – встревожился второй, почуяв, что соузник поднялся неспроста. Говор вопрошавшего был неестествен и невнятен, четкая латынь прозвучала на диво мягко, и ее можно было разобрать только привычному уху.
Стоящий у оконца, конечно, все понял, но не ответил, лишь зашелестел широким рукавом хламиды, крестясь. Ему пока не о чем было толковать и, набравшись терпения, он чутко улавливал каждый звук, каждый шорох извне в ожидании важной вести, из-за чего почти не спал все последние ночи.
Мрак скрадывал его обличье, но все же темнота в узилище была более сгущенной, чем за оконцем, и потому лежащему на одре можно было углядеть еле различимый, однако твердый обвод узкой головы с тяжелым надбровьем, точеным крючковатым носом, впалыми жесткими щеками и острым подбородком. Суровая гнетущая сила исходила от недвижно стоящего у оконца человека, невольно вызывая у того, кто назвал его отцом, смешанный с преклонением страх.
Долгих одиннадцать лет странствующий монах, или, как о нем писано в тайных бумагах, «гишпанские земли чернец» Николай Мело пребывает в Московии. Занесло его сюда со своим младшим спутником издалече, из таких неведомых земель, что учинявшие допрос подьячие Посольского приказа в Москве никак не могли взять в толк, за какими пределами лежат оные земли, что намного дальше сказочной Индии. Не те ли они, где обитают люди о двух головах и водятся говорящие птицы-сирины с человечьим ликом и крылатые звери-чудища? И не сам ли измыслил пойманный разбойник-латынянин Мело некие Филиппины, откуда он якобы прихватил с собой обращенного им в католическую веру и схожего с дикими сибирскими язычниками узкоглазого детинушку, коего именовал братом Николаем, что по рождению-де был японцем? Как ни бились приказные с Мело, пытаясь распознать сущую правду, но злодей упорно стоял на своем, и, поразмыслив, – а государевых сыщиков не проведешь, тертые калачи: ври, ври да не завирайся! – они записали неразгаданного японца индейцем. И уж вовсе запутал, заморочил головы нечестивец, когда принялся повествовать, как он, подданный гишпанского короля, очутился сперва за морем-окияном в некоем Новом свете, в опять же таинственной Мексике, а оттоль его угораздило перебраться на другой конец земли и уж тогда через Индию да Персию доправиться до Русии. Прок-то какой был? Пошто же ему Москва вдруг запонадобилась? Любопытства для и проездом, молвил. Тьфу, бес лукавый, вот заврался, аж бумага не терпела – рвалась и перья ломались от его бредней! Вельми мудрено кружева плел да верилось с трудом, ибо открылось: не с добрыми умышлениями пожаловал он в стольный град, где схоронился на дворе фряжского лекаря из Милана, а от приставов, аки заяц, сиганул. Грамотки при нем были зело сокровенные – от персидского шаха к гишпанскому королю и, наипаче того, к самому папе римскому. Судить да рядить нечего – лазутчик.
И еще в достопамятные Борисовы времена угодил злосчастный Мело с крестником на дальние Соловки. Шесть лет они протомились там, покуда тайные наущатели в сутанах не известили о них севшего на московский престол самозванца, и он сразу же повелел отпустить невольников с миром. Хотели было воспротивиться тому соловецкие старцы, памятуя, что и от малого хищника на воле – большая пагуба, однако не посмели препятствовать – отпустили.
Воздавая хвалу великодушию нового государя, скитальцы снова отправились в Москву. Но, видно, была им туда заказана дорога. На место внезапно свергнутого самозванца сел царь Василий, и они прямехонько угодили в его руки. Заточил их Шуйский уже поближе – в Борисоглебский монастырь возле Ростова.
Иной бы сломился от подобной напасти – только не Мело, который издавна примыкал к ордену нищенствующих монахов святого Августина и, почитая заповеди того ордена, заботу о душе ставил выше заботы о грешной плоти, ибо плоть всего-навсего – орудие души. Спать на голых досках, стойко переносить глад и безводье, зной и стужу, ходить в рубище, удовляться самым малым привычно для монаха, вручившего себя божьему провидению и пекущегося не о телесном, а о величии духа: спиритус флят уби вульт[17]17
Дух веет, где хочет (латин.).
[Закрыть]. Зная несколько языков, Мело на Соловках изучил и русский, дабы по монастырским книгам постичь догматы православия. Хочешь закалить тело – закаляй душу, такому наставлению следовал монах, и так он поучал крестника.
Засланный в Московию выведать удобные пути меж Востоком и Западом, а заодно выпестовать приверженцев, дабы они стали опорой для укоренения католичества на Руси, бывалый проповедник-скиталец не преуспел ни в том, ни в другом. Уже не было на свете его высочайших покровителей: вместо отдавшего Богу душу папы Клемента правил в Ватикане папа Павел, а почивший от подагры гишпанский король Филипп Второй сменился Филиппом Третьим. Но Мело не изменил своему предназначению и не утратил надежды, что свершит заповеданный ему подвиг во славу католической церкви. Все в мире переменчиво, а божий промысел вечен.
И выпал августинцу случай связать свои тайные помыслы с изгнанной, но не усмиренной русской царицей Мариной Мнишек, которую в то время пакостливый Шуйский сослал в Ярославль. Борисоглебские стражи, не зная толком, кто такой Мело, надзирали за ним без всякого прилежания и не держали в затворе, а Ярославль был недалеко, и дерзкий монах отважился на отлучку, чтобы повидать царицу-опальницу.
Жгучим июльским полуднем, когда разморенный жарой люд разбрелся по тенистым закутам и на дорогах было пустынно, Мело пробрался в город и под видом просящего подаяния нищего отыскал двор, где жила Марина. Они проговорили до ночи. Умудренный лис, поведав о своих злоключениях и о том, сколько упорства ему довелось проявить в отстаивании истинной веры перед неистовыми соловецкими старцами, так поразил своим благочестием и многими познаниями страстную католичку, что она тут же была готова просить его в духовники.
Обнадеженная смутными слухами, что Дмитрий жив, что он успешно громит войска Шуйского и вскоре должен вызволить ее, Марина встала перед распятием и поклялась не оставить в беде страстотерпца. Где бы ни был отец Мело, заверила пылкая шляхтянка, она найдет его и приблизит к себе. Сговорившиеся отверженники расстались со слезами умиления в очах.
Долгая отлучка Мело не сошла ему с рук. Нашлись соглядатаи, что приметили его в Ярославле, донесли кому следует. И оба монаха были отправлены подальше от сумятных мест – за крепкие стены в Нижний Новгород.
Уже не один год они тут. Состарился Мело, усох, на, сплошь облысевшей голове исчезла тонзура, и даже хламидка пришла в такую ветхость, что ежели что и осталось в целости, так только одна засаленная вервь, которой он перепоясывался. Все же и теперь Мело не падал духом. Месяц тому, когда его с крестником водили в мыльню, к ним подскочил пьяный ярыжка-оборванец и, срамно кривляясь, сунул украдкой в руку августинца бумажку. В мыльне Мело развернул ее, прочел: «Spera! Sapienti sat. Maria»[18]18
Надейся! Умному достаточно. Мария (латинск.)
[Закрыть].
С той поры Мело напрочь лишился покоя, но его робкий сообщник не примечал в нем особой перемены, ибо наставник по-прежнему был скрытен и строг, понуждая к непрестанному посту и молитвам. Только вот целыми днями стал простаивать у оконца и часто поднимался среди ночи. Ныне тоже поднялся.
Вслед за криками оглашенных петухов снова наступила оцепенелая тишина. Будто бы сама ночь затаила дыхание и прислушивалась к чему-то.
– Эй, сидельцы, – вдруг донесся снизу до оконца тихий, как шелест листвы, вкрадчивый шепот. – Спите, небось?
Мело клещисто вцепился в решетку, приник к ней всем лицом. Глуховатым сдержанным голосом ответил:
– Не спим. Молви, сармат.
– Наказано повестити: опосля Новолетья, опосля дни Симеона-столпника вызволенья ждите. Придут по вас.
– Кто? Кто придет? – стал допытываться Мело.
Но больше он ничего не услышал. Почудилось только: кто-то опасливо прошаркал по траве…
Светало. Афонька Муромцев, опершись на бердыш, спокойно задремывал на своей вышке. Кричали уже вторые петухи. Слушая их в полусне, Афонька блаженно улыбался. Тело его обмякло, и ратовище неожиданно выскользнуло из рук. Бердыш упал, задев край вестового колокола.
Афонька очнулся и испуганно обхватил глухо загудевший колокол: не дай Бог некстати учинить сполох, позора не оберешься. Он поднял бердыш и огляделся. Все спокойно. Толь-ко от Ивановских ворот по Большой мостовой улице поднимался какой-то человечишко.
Дозорщик всмотрелся: никак Митька-юрод. Ишь ни свет, ни заря попер дурачина. И куды? К заутрене, чай, в Спасов храм тащится. Так ить и попы спят еще. Ан дураку-то закон не писан.
Все больше яснели небеса, и Афонька стал смотреть по-за Волгу, где вот-вот должен был зарозоветь окоем. Новый день высылал зарю, чтобы она привольно раскинула свои алые полотнища над всем Нижним Новгородом.
2
Летняя пора – хлопот гора. Верно молвят, летний день год кормит. Работа валится на работу – недосуг на лавке бока отлеживать: с делами только управляться поспевай, сам себя догоняючи. И все, что взрастает на земле, безотложные сроки назначает.
Не успели отцвести вишенные да яблоневые сады на Дятловых горах, как в полный разгар вошла полевая и огородная страда. За городом еще до Николы вешнего посеяны хлеба, и засверкали в росах, покрывшись веселой травной щетинкой, пашни, а в кремле и на посадах у кого за добротными заметами, а у кого в открытую – за хлипкими жердевыми огорожами позадь избенок пышные от назема гряды уже радовали глаз тугими перьями лука да чеснока, всходами моркови и репы, обильной капустной рассадой.
По узким посадским улочкам, что неровно растягивались повдоль нагорья, сползая к оврагам и кручам, опутывали склоны, изволоки и вымла, в заревую рань густеющим к повечерью убывающим скопом проходили стада. А перед тем, как погаснет закат, слышался разнобойный топот лошадей, которых гнали за город в ночное. И гнусавый гуд пастушьих рожков, сухой треск барабанок, хлесткие удары кнутов, мычанье и блеянье скота, а потом сочные лошадиные всхрапы и перестук копыт возбуждали хозяйской радостью извечной обремененности и потому сообразности жизни.
Летом город становился похожим на большую раскиданную деревню, да, по сути, он и был деревней, мало отличаясь от нее по укладу и обиходу. Все те же заботы, те же труды-тяготы и те же обряды и песни.
Привычные летние празднества не мешали работе, а словно бы даже подгоняли ее, как путника знакомые вехи-приметы.
И первой памятной приметой был день Вознесенья Господня, когда протопоп Спасо-Преображенского собора всем ведомый Савва Ефимьев собирал паству и устраивал чинный крестный ход из кремля к Печерскому монастырю. А потом на поле за Казанской заставой отмолившиеся грешники впадали снова в грех, славя без всякого удержу на развеселом гулянье языческую ладу и пуская по рукам языческий же «колосок». Издревле так повелось – не совладать церкви, мирилась. Желанной передышкой были Троицыны дни, зеленые святки. Чуть ли не весь город сходился в ближнюю рощу, что в трех верстах у села Высокова, глазели, как девки развивают березку и водят хороводы, как бегают к Волге и пускают по течению венки. Так бы и забавились, да подоспевала полотьба, а там и сенокос. Перед большим покосом была еще усладная Купальская ночь.
В прежние годы ни один праздник не заканчивался ладом: кого-то осмеют вселюдно, кому-то вспомнятся старые обиды, кто-то с перепою одуреет, а кто-то встретит соперника, и заварятся потасовки, развернутся кулачные бой: «Эй, сторонись, пужливые, зашибем!». Бывало, что и головы проламывали. Не без этого. Однако обходилось: после праздника побитых отхаживали, заклятые враги разгуливали в обнимку. Теперь драки случались чаще. И не было в них молодечества – одна свирепость, когда и первая кровь никого не останавливала. Уж не только молодь – степенные мужики схватывались. Хватало забот губному старосте с его приставами. Даже если и ничего не приключалось, все равно любая потеха смахивала на мрачное беснование. Чему радоваться-то? Мнилось нижегородским мудрованам, что далеко от них беда-поруха, ан она уже ступила на порог. Вездесущая, пронырливая, злобная.
Не где-нито, а по ближней округе шастало ныне лихо, оставляя за собою пустеющие деревни и пашни. Никто не дерзал пускаться в дальний извоз, и в Нижнем ниоткуда не ждали обильного прибытка. Вроде, не в осаде, не взаперти жили, а все одно не расправить плеч – теснило. С пришлым людом доносило в город немало пагубных вестей, что усиливали нестроение и сумятицу. Смущенный разнотолками о боярских переметах, лукавых увещаниях польского короля, казацком душевредстве в подмосковных станах, и о новых, нивесть отколь бравшихся царевичах, посадский мир терялся в догадках, что же воистину вершится на русской земле и на кого же ему опираться. В конце концов большинство сошлось на том, чтобы всем быти по-прежнему, никаких смутьянов в город не пущать, даже если они и приказные чины, свою воеводскую власть не переменять, дурна друг другу не чинить и ратовать за избрание царя всей землею. А уж что до прочего – то как оно выйдет. В чужие свары мешаться – пущую беду накликивать.
Как и все посадские, Кузьма страдовал в заволжских поемных лугах. Косили тут уже не на своих делянах по семьям, а на земском наделе заедино – для общего тягла, для ратного припасу, И люда сбилось множество. Почтенные горожане находили кого послать замест себя либо откупались, но Кузьме нравилось быть среди людей, поработать на равных, состязаясь в умельстве и ловкости, и он явился сюда со всеми.
Перед Купальской ночью, со своим обычным тщанием сладив шалаш из нарубленных ивовых веток, он улегся спать. Истошные вопли разбудили его. Кузьма вылез из шалаша и, еще не пришедший в себя, смурной, стал глядеть на языческое игрище. Вокруг полыхали высокие купальские костры, а все покосники, окаченные водой, как бесноватые, дергались возле них, орали, визжали, улюлюкали, скакали, мельтешили быстрыми хороводами. Мелькнул перед Кузьмой разгоряченный потный лик обычно смиренного Потешки Павлова, с ухмылками да кривляниями потряс бородой старик Подеев, взмахнул руками, будто хотел взлететь, грузный оханщик Васька Шитой. Жутко смотреть.
Молодые парочки, подхватив соломенное чучело Лады, принялись прыгать через костры, за ними пустились и мужики.
Раньше Кузьме тоже, верно, было бы весело, но теперь его угнетала тоска. И он снова полез в шалаш.
Снилось Кузьме вселенское, без конца и краю полыхание, падающие огненные стены, метание черных ломаных теней, от чего ему хотелось бежать без оглядки, но он не мог даже шевельнуться, покуда снова не возник перед ним преподобный Сергий…
На другой день, намахавшись вдосталь косой, Кузьма не стал спешить на артельное хлебово – не до кулеша. Пошел лугами, куда глаза глядят.
Первая вечерняя звезда слабым свечным огоньком затеплилась в небе. Истомная и немая, до звона в ушах тишина обволакивала дали, недвижную гладь высокого травостоя, одиночные купы ракитника, затемневшие зеркальца озерков. Изредка только слышался коростель и плавный сонливый выдох испускающей из себя тепло земли.
Кузьма наугад вышел к берегу Волги, сел у кустов на еще горячий песок.
Река, казалось, замерла в тяжелом безмолвии своей разливанной широты, лишь изредка ее темная шелковистая вода чуть приплескивала у набухших растопырных коряг, словно ластилась к ним. Наползая исподволь, сумерки неотвратимо и жадно сжимали прозор. И во всем обозримом Кузьме почуялись полная безысходность и податливое покорсгво.
Вновь овладели им неотвязные думы, отягощенные последними черными вестями.
В последний дни ходят и ходят упорные слухи на торгу, что все московское ополчение перешло к изменному атаману Заруцкому, который, мол, уже похвалялся посадить на престол сына распутной Марины Мнишек. С него станется – посадит! И будут помыкать Русью, всем ее людом ежели не ляхи, так цареныш-выблудок. Дотерпелись, допотворствовались! И ладно бы бояре. Им свои вотчины чести дороже. Но прочим-то неужто глупой животиною быть свычно: куда погонят – туда и гоже, хоть на заклание?
Он вспомнил вчерашнее ночное веселье, буйные игрища и пляски, и ему стало обидно за посадских. Разумел Кузьма, зряшная та обида, ибо не ему судить испокон заведенное и Купала вовсе не при чем. Но все тошней ему было от мирской беспечности. Нет, он не стерпит, он восстанет! Кому иному все едино, а ему невмоготу: всклень налито. Надобен почин, и он почнет, сам набатом станет. Неспроста видения были…
Сзади затрещало, встрепенулся лозняк, кто-то встал за спиной. Кузьма обернулся – старик Подеев.
– Хватилися, вишь, а тебя и след простыл, Минич, – словно винясь, смущенно сказал Подеев. – Занедужил, ай?… Без тебя и за кашу не сели, ждем-пождем. Подымай-кося, не побрезгуй овчинного котла…
3
О своих чудесных видениях Кузьма поведал протопопу Савве Ефимьеву, с которым издавна водил дружбу.
Рассудительный Савва взял за обычай наперед обмыслить, а потом изъяснить. И Кузьме поначалу ничего не сказал. Да и урочное время для нет подоспело – обедня. Потому попросив Кузьму обождать, он справил службу, неспешно переоблачился в ризнице и вышел из храма, когда с паперти уже схлынул весь люд и убралась восвояси даже самая набожная старуха.








