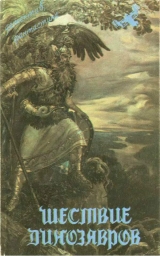
Текст книги "Купно за едино!"
Автор книги: Валерий Шамшурин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
В обыденном одеянии Савва выглядел простовато, крупное раздобревшее лицо и тяжелые, в узлах руки были по-мужичьи грубы, и не зря Кузьма считая протопопа человеком единой с ним породы.
Они привычно побрели по кремлю к Дмитриевской башне, прошли обочь нее и встали под старой ветлой у затянутого ряской пруда Сарки, где по мутным прогальям смиренно плавали домашние утицы.
– Всяко человецам блазнится, Козьма-свете, – издалека начал протопоп, именуя содруженика по церковному велелепно Козьмой. – Всяко. У мнозих алчба сокрытая да тщеславие вельми искусительны наваждения воспаляют. – Савва хитро прищурился, указал рукой на пруд. – Поди, точию крякушам все без надобы, абы утробы насытити, – И вдруг с неупрятанным намеком предостерег: – Упаси тя Бог от гордыни.
– Попусту не пожаловал бы к тебе, – без обиды молвил Кузьма. – Нужда привела, Саввушка. Не подобиться же твоим кряквам. Совета прошу.
– Яз о сем и вякаю, – протопоп мягко коснулся ладонью плеча Кузьмы. – Ано, чую, не словеса ти надобны – подспорье.
– Знамо, – подтвердил Кузьма.
– Видения твои в смятение мя привели, – чистосердечно признался Савва. – Великий подвиг вещают, велий. Апостольский. По силам ли?…
Кузьма промолчал.
Корявая ветла дремотно шелестела над беседниками, заслоняя их от солнца. По другую сторону пруда дружно грудились, выпирали торцами серые схожие избы и пристрои, над которыми высился резной гребень крутой тесовой кровли дьячьего дома. Копошились в пыли куры. У скособоченной огорожи пухлый малец в грязной рубашке стегал лозиной крапиву. Утицы поочередно выбирались на берег и ковыляли по луговинке. Сущий был покой, и даже не верилось, каким гибельным смрадным тлением охвачена вся Русь.
– Эх, лежала секира при корени, а ныне его сече, – по-бабьи горестливо вздохнул Савва. – Разлад – злосчастие русское, Козьма-свете. Не велика заслуга клич бросити, был бы прок. Ты-то что ж таишься, коли с нуждою пришел. Удумал что?
Савва со старанием принялся оглаживать пышную бороду. Кузьма посмотрел на протопопа умными пытливыми глазами, которые навыкли не только все примечать, но и сразу оценивать. Заговорил ровно:
– Новое ополчение надобно, а ополчаться опричь нас некому, ибо тверже ныне города на Руси нет, никоторой изменою не замараны…
Он говорил, что несогласие, учиненное властями, довело народ до самоистребления, что днесь всякий разбойник, вот хоть тот же Заруцкий, мнит себя вершителем, своевольничает, как хочет. А люди мечутся, пропадают за пустые посулы, не зная, где истина и к кому пристать. Уже нет города, где бы не буйствовала смута, не творилась измена, не свирепствовало зло. То, что ворог не растоптал, свои дотаптывают. Воеводы беспомощны, и веры им нет. Никому иному, как самому народу, беды не отвести. Но народ должно сплотить. А сплотит его лишь единое радение о защите всей земли. Один Нижний покуда не заражен растлением, однако и тут час от часу жди беды. Медлить больше нельзя. Уповать не на кош. А не поднимутся нижегородцы – их постигнет та же участь, как и прочие города. Тут последний щит Руси, последнее прибежище надежды и веры.
– Ано малолюден Нижний, – уже все прикинув, приступил Кузьма к самому главному. – Едва ль три с половиной тыщи дворов в городу, на посадах и слободах. Годных мужиков в рать стянуть – от силы тыщи полторы, а то и мене: но уезду бы даточных побрать. Да и людишки голы. Ни бранной снасти, ни припасов не хватит. Стало быть, деньги надобны. И большие. Пуще того печаль: нет у нас ни единою вожатая, кому заобычно ратно устроение. Репнин хвор, Алябьев нерасторопен, иные все мельче.
– Такожде и ты не македонянин Александр, – усмехнулся протопоп, перестав колебаться в том, что содруженик замышляет дело тщетное.
– Я-то? – отвлекся было Кузьма, но не принял неловкой шутки, не утерял деловитости и продолжал: – С чужа доведется звать. Да беда, перевелися воители. Ведаю из достойных мужей токмо одного – князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Его надоть кликати. Храбр и честен князь. В пожженной Москве до упора стоял, последним из нее ушел да и то не по своей воле – ранен был. Всяк наслышан о том…
– Не пойдет князь! – вконец разуверился в затее Кузьмы Савва.
– Должон пойти, – не поколебался Кузьма. – А пойдет – и дворяне, и дети боярские пойдут. Вот и войско.
– Бог весть, – развел руками протопоп. На Кузьму пахнуло невыветрившимся ладаном.
– Пойдет! И ты пособишь в том.
– Яко же, Козьма-свете?
– С печерским архимандритом Феодосием перетолкуешь, умолишь его съездить к Пожарскому, призвать князя к нам.
– За оным и пришед к ми еси?
– За оным.
– Пойдем-ка охладим чрево кваском. У мя добрый квасок, ядрен, – хотел уклониться протопоп, круглые щеки которого вдруг заблестели обильным потом.
– Выходит, токмо на амвоне ты герой, токмо словесами пылишь, на кои и наш приходской батюшка тороват? – не пощадил почтенного сана протопопа Кузьма, но укорил не с гневной досадой, не с истошностью, а с холодной горечью. И в его прямом взгляде не было ожесточения – была все та же зацепистая пытливость.
Однако Савва возмутился не на шутку: ишь ты указчик сыскался, еще ни коня и ни воза, а уже запрягает, будто не Репнин, а он в Нижнем воевода, то-то на посадах к нему льнут, то-то на торгу ему потворствуют! Кабы токмо людишек – церковь к рукам прибрать возжелал! Нешто не гордыня? Нет, потакать ему – себя в грех вверзать.
Все доброе, что ценил в Кузьме, вмиг забыл обиженный протопоп. Не осталось и слединки от его спокойного благодушия, что уже давно привилось к нему обиходным церковным навыком назидать и наставлять, а никогда не быть поучаемым. Лицо Саввы налилось кровью, щеки затряслись, борода воинственно вздернулась.
– Убодал еси! Осудил еси! Не яз ли за тя повсегда горой? Не яз ли ти благоволю? Дружбу с тобой веду, семейству твоему покровитель? Ох, не изрыгай, Козьма напраслину! И рассуди, нешто мы с архимандритом отважимся своевольничати, нешто потужимся без благословения патриаршьего? Ермоген – наш владыко и наш предстатель пред господом: благословит на деяния – сил не пощадим. Слава Богу, церковь покуда на незыблемых устоях ся держит!
– Пошлем, к Ермогену, – не уступил Кузьма.
Выдержка не изменила ему, и он ничем не показал, что дрогнул или растерялся. Видно, загодя приготовился к противлению протопопа, раз обдумал и худший исход.
Распыхавшийся Савва внезапно сник, в остолбенении уставился на Кузьму.
– Полонен же Ермоген, недоступен. Погибель верная – домогатися его.
– Надежного человека пошлем, Романа Мосеева. Он уже хаживал, не устрашится.
– Буди ж, господи, милость твоя на ны, – перекрестился протопоп.
Трудно было довести до каления Савву, но и отходчив он на диво, умел и людям прощать, и себе, не зря же прозывался в Нижнем миротворцем. Как ни в чем не бывало, Савва потянул Кузьму за рукав.
– Пойдем-таки, Козьма-свете, изопьем кваску-то. Жажда томит. Уж не посетуй на мя – от жажды воспалился.
Без всякой охоты Кузьма пошел за протопопом. Дорогою явилась мысль о Фотинке: вот кто в самую пору сгодится, близок был к Пожарскому, поможет упросить князя. И Кузьма озаботился тем, как поскорее известить племянника, чтобы он спехом прибыл в Нижний.
4
Биркин проснулся первым. И сразу же в нем стала разливаться желчь от липучей духоты чулана, запаха кислого пота и блаженного сытого похрапывания приткнувшейся к нему плоти. Он скосил глаза: в жидком рассеянии утреннего света, бьющего из щелей досчатой стенки, распластанное в бесстыдной наготе рыхлое тело вдовицы вызвало омерзение. Вдовица была непригожа, грузна, неряшлива. Засаленный гайтан со съехавшим на подушку крестиком обвивал ее шею, и Биркин еле сдержал искушение немедля же удавить тем гайтаном свою обрыдлую полюбовницу. «Вечно мне всякая дрянь достается, – озлобился он, – объедками с чужого стола пробавляюся…»
Он увяз в Нижнем, как увязают посередь распутицы в чистом поле странники, сбившиеся с пути. Какая ему тут корысть после утраты Прокофия, для которого он со всем усердием пытался собрать пополнение, выискивая по уезду бежавших с ратной службы и нерадивых дворян и детей боярских? Какая, ежели теперь в том ни малого проку: из поместий и прежде не удавалось вытащить нерадивцев, а с более покладистых уже не взять откупного, дабы мздой, оправдать ему свои неусыпные труды?
Но, нет, упаси рог, вовсе не стяжательство направляло его рвение. Он хотел честно отличиться и хотел быть замеченным сильными мира сего: не век же ходить в стряпчих. Он большего достоин. Однако никто в нем особо не нуждался: ни бежавший из Тушина старик с собой не позвал, ни московская знать не приветила.
Один Ляпунов его сподобил приязнью, ибо верные люди у рязанца были наперечет, а Иван как-никак близок ему по родству. Вот уж когда он расправил крылышки, вот когда перед ним открывалось поприще, что сулило ему и удачу, и славу, и высокие чины. Он еще молод, цепок, ретив, умом не обделен.
В Нижнем, куда его с легкой руки послал Прокофий, все поначалу складывалось как по писаному: выгодные знакомства, добрая опека, пособления, неразлей-дружба со стрелецким сотником Колзаковым. Кое-кому, конечно, и насолил своей наступчивостью и рьяностью, да ведь всем не угодишь – перетерпят. И вдруг гром среди ясного неба: убит Ляпунов! Даже скудные десятки служилых и даточных, кого удалось набрать, рассыпались по сторонам – поминай как звали. И вновь из первых он стал последним, из нужных – лишним. Не громкое деяние, а бездельное прозябание ему ныне уготовано.
У Биркина засаднило лопатку. Он закинул руку за пропотевшую спину, остервенело почесался. Вдовица шевельнулась, еще теснее привалилась к нему, но глаз не разомкнула. «Квашня протухлая!» – с неиссякшей злобой выбранился про себя Биркин.
Солнце все больше накаляло чулан, рвалось во все щели, и в его сильных слепящих лучах, словно в безумной панике не находя себе места, роилась пыльца. «Неужто и я навроде никчемной пыли?» – с тоскою отверженного спальника, которая находила на многих до него и будет многих же терзать после него, подумал Биркин. Монашеская скукота уже привиделась ему, сырой спертый запах известковых монастырских сводов, трепыхание одинокой свечки в келейном полумраке, тусклая лампадка перед образом Одигитрии. «Тьфу!» – тут же отогнал он от себя постылое видение.
По стене чулана стукнула снаружи отяжелевшая яблоневая ветвь. Невдалеке вспорхнула в раздорном галдеже воробьиная стайка. В сарае с грозным нетерпением хрюкнул боров. «Хоть земля разверзнись, спит корова!» – забыв о злобе, поразился Биркин несокрушимости безмятежного духа вдовицы. И опять предался своим раздумьям.
Нет, он не смог бездельничать. Мысль о новом дворянском ополчении, которому он будет зачинщик, придала ему сил. Но сколь ни упорны были его попытки пробиться с той мыслью к нижегородскому первому воеводе – ничего у него не выходило. Немощен, вдалбливали ему, Репнин, немощен да и все тут. В хворь Репнина он не шибко верил – уловка: подсмотрел, как воеводские двери отчинялись перед дьяком Семеновым. И он не отступался до той поры, пока не прозрел: незадачливым же хочет повязаться, никудышная опора Репнин, как и отец его, ничем не проявивший себя в Ливонском походе при Иване Грозном. В новое уныние повергло то прозрение. И вот уже который день он напрягает голову в размышлениях о достойном ручателе и сподвижнике.
– Ты уже пробудился, соколушко? – наконец раскрыла запухшие глаза и томно заворковала вдовица. Она смотрела на Биркина, как на медовый пряник. Обожание да ласка всякому милы. Сам никого не любя, Биркин хотел, чтоб его хоть кто-то полюбил безоглядно, принес себя ему в жертву. Пусть неопрятна да похотлива вдовица, зато от него без памяти. Кто еще приголубит молодца без притворства при его-то невзрачности?
Биркин простил себе все свои черные мысли о блудливой женке и безропотно покорился ее по-мужицки крепким объятьям.
Нагрешив в свою меру, вдовица вновь раскинулась по широкой постели и начала толочь пустоту:
– Проснулася, гляжу, а ты уже очиками хлоп-хлоп. И солнце хлещет из дыр, хлещет, ровно занялось все, ровно пожар учинился…
«Пожар, – повторил про себя бестолково Биркин, чуя, что чем-то привораживает его вылетевшее из суетных уст слово. – Пожар… Пожарский… Пожарский, сотоварищ Ляпунова!..»
– Ягодка моя! – чмокнул Биркин взвизгнувшую от ответной долгожданной ласки вдовицу, бодро вскочил с постели и стал натягивать порты.
5
Кабак на торгу поделен надвое: большая половина – для всех, малая – для лучших людей. Из почтения к Минину кабатчик Оникей Васильев пускал его брата Бессона на малую, чистую.
Тут гораздо пристойней: и свету поболе – в двух оконцах не бычий пузырь, а редкостное зеленоватое стекло, и убранство не в пример – поставец с посудой, на лавках полавочники из мурамного сукна, и гомона никакого. Хоть заморских гостей привечай. Но, посидев до легкого опьянения, когда уже развязывало язык, и почуяв стесненность среди толстосумов, которые его, как последнего тут человека, не желали слушать, Бессон перебирался к вольным бражникам, У них-то всяк дудел, что хотел.
На сей раз Бессон сидел у «чистых» дольше, терпеливо вникал в их степенные речи. На него опять накатило: порешил бросить пьянку, взяться за ум и договориться с кем-нибудь о выгодном подряде. Однако чем усерднее он вникал во всякие пересуды рядом, тем скорее приходил к безотрадной мысли, что подряда ему не видать. Купцы толковали о повсеместном оскудении, разоренных городах, пресечении торговых путей, нарушении исконных связей, разбоях на дорогах, о том, что пора вовсе сворачивать большую торговлю, понеже торговать не сегодня-завтра будет нечем. В конце концов они перекинулись на свои обыденные дела: ручательства, заклады и сделки.
Один из них – высокий носатый старик в небогатом, но справном кафтане – стал предлагать на продажу записанный за ним двор сгинувшего под Москвой сына, невозмутимо перечисляя, что в том дворе есть:
– Двое горниц, в закрой рублены… Одна на жилом подклете, друга на бане… Промеж имя сени с крыльцом, покрыто тесом под едину кровлю… В столовой горнице шесть окон красных, оконницы слюдяны… На дворе два погреба дубовых, а над имя сарай, дранью покрыт… Да на дворе ж колодезь рубленой еловой, конюшенка без стойлов… Огород есть… Под тесом вороты створчаты с калиткою…
Бессону невмоготу сделалось от усыпительной нуди, которую с любопытством слушали другие. Он встал, непочтительно хыкнул. Торговцы посмотрели на него сердитыми укорными глазами.
– А чтоб вас! – взмахнул шапкой Бессон и, пнув дверь, выскочил через сени в большую половину.
Там ему обрадовались, словно только его и не хватало. От длинных, заставленных глиняными кружками и залитых вином столов понеслись крики:
– Караул, деревня, мужики горят!.. Сам Бессон Минич до нас снизошел! Примыкай, осударь, к нашей ватажке!
– Бессонушка – душа божья, подь сюды!..
– Не обидь, брат, к нам пожалуй!..
Все знали загульного и щедрого Бессона: если у него заводились деньги, до полушки спустит, а никого чаркой не обнесет. И на его бескорыстье отвечали тем же.
Пестрый люд сбился в кабаке: мелкие торговцы, мастеровые, скупщики, таможенные сборщики, возчики, дрягили, заезжие крестьяне, ярыжки и еще всякая никудышная рвань и голь. В самые темные углы забились угрюмые пропойцы, что проматывали собственные пожитки, унесенные из дома втайне от забитых жен. Несмотря на то, что кабатчик держался строгих правил и пожитков на вино не менял, они ухитрялись быстро сбывать их барышникам и расплачивались с кабатчиком уже чистой монетой.
Бессон присел к ближнему столу, зная, что потом не минует и остатних. Ему живо подставили кружку, и он опорожнил ее одним махом, будто страдал от жажды. Заел вяленым лещом, огляделся. Все лица были знакомы, кроме одного.
Прямо напротив Бессона сидел крупный лысоватый мужик с дерзкими навыкате глазами. По бурому загару, встрепанной неухоженной бороде, пропотевшему грязному вороту рубахи можно было догадаться, что мужик с дороги.
– Из каких палестин к нам? – спроста, без околичностей спросил его Бессон.
– Бых и там, куда Макар телят не гонял, – улыбнулся мужик. Бессон смекнул, что странник не из простых, и захотел повести с ним разговор дальше.
– Не выпытывай, – толкнул локтем Бессона его сосед по столу красильник Елизарий. – Мало что. Не дай Бог, послухи заявятся.
– Послухов испужался! – загоготал сидевший поодаль молоденький конопатый разносчик из калашного ряда Шамка. – Царя нету – чего страшиться? Ноне все вразброд и гласно. Вали, чего Бог на душу положит, – судить некому!
– Эх ты, тюря с хреном, – покачал головой Елизарий.
– За приставом, чай, не сиживал. Да ране бы первым тя на дыбу вздернули.
– То ране! – отмахнулся удалой Шамка.
– Коли есть секреты, докучать не стану. Вольному воля, – сказал мужику ставший покладистым после кружки Бессон. Ему нравился застольник.
– Чего уж там, малость открою, – благосклонно уступил незнакомец. – У Болотникова в войске я служил, опосля по всей Руси скитался. А зови меня Анфимом.
– Кака ж тут тайна?
– Да никоторой, – слишком пристально посмотрел в глаза Бессона мужик, явно что-то затаив.
– А он-то про все небось ведает? – кивнул на Елизария Бессон.
– Не ведаю и ведать не желаю! – уж больно горячо отрекся красильщик.
– Отколь ноне? – не отстал от мужика Бессон, которого все больше начинало разбирать любопытство, и он уже всерьез прилип со своей докукой.
– А из-под ее, из-под Москвы-матушки.
– Худо, брате. Беда. Лютование. Околь Москвы живого места нет, хоть шаром покати. Людишки бегом бегут. А где ухоронишься? Токмо у вас, гляжу, благолепий…
– Эй, почтенным! – крикнул нетерпеливый Шамка. – Вы чегой тоску нагоняете? Не в Боярской думе, чай? Винцо выдыхатся, наливайте-ка. – И, начав раскачиваться, затянул, как пономарь: – Свяже, хмелю, свяже крепче…
Все разом закачались, налегая плечами друг на друга, горласто подхватили:
– Свяже пьяных и всех пьющих, помилуй нас, голянских…
Чокнулись, выпили. Шамка встал и, обратившись к иконе в темном углу, ублаготворенно вскричал:
– Господи, видишь ли, а то укажу!
От бешеного хохота чуть не рухнул потолок. На большую половину заглянул сам хозяин, властно прикрикнул:
– Креста на вас нет, богохульники! Добуянитеся, приставов покличу.
И наказал подручному целовальнику:
– Ты у меня приглядывай, приглядывай! Не токмо вино наливать наряжен…
– Верно, народ без узды не может, – во всеуслышанье объявил известный пролаза площадной подьячий Крюк после того, как ушел кабатчик. – Воля нам, яко свинье грязь: вывалятися да выблеватися.
– Ну ты, почечуй! – выскочил из-за стола ковалихинский кузнец Федька. – В тягло бы тя купно с нами, по-иному бы запел! Кровавой бы слезой умылся!
– Все то неправедны цари виною, все то неправедны, – в один голос запричитали смирные до сей поры крестьяне.
– Их грех. Юрьев день отменили, нас захолопили. Молися теперя на каждого зверя. Да нам бы волю-то!
– Окститесь, мужики! Чего жалитесь? – перекрыл шумиху гортанный бас однорукого мрачного калеки в стрелецком поношенном кафтане. – Аль о себе пристало нынче горевать-печься? Неужто не чуете: не токмо воли, ано и живота вот-вот лишимся? Не прости… Не простится нам…
Безудержный кашель стал сотрясать его. Он схватился за горло и, закинув голову, отвалился к стене. Полсотни человек, набившихся в кабак, пристыженно замолкли. Помаленьку снова заговорили, но уже тише, без ругани.
– В посаде бают, – тесно приклонившись к Бессону, стал делиться с ним последними слухами Елизарий, – де братан твой норовит денежными ссорами московским сидельцам пособить, потому его в земские старосты на новый срок прочат.
– Кузему-то?
– Его. Да ишо мне нашептали намеднись: вовсе не для сидельцев ему деньги понадобились, а…
– Кузему?! – вдруг уязвило Бессона, и он, топивший свою незадачу в кабацком вине, считавший себя обделенным, до озлобления возревновал к везучему брату. – Да Кузема-то спит и видит, как прибрать к рукам весь торг! Да Куземе-то мошну бы набить! Да от Куземы-то скареда, днем огня не…
– Гля, Митенька заявился! – крикнул кто-то от двери и все повернулись туда, где, гремя ржавыми веригами и зябко кутаясь в лохмотья, хотя на воле была жара, а в кабаке еще и духота, трясся на пороге юрод.
– Что, Митенька, студено? – озорно подмигнув застольникам, спросил Шамка.
– Ой студь! Ой мороз! – пожаловался юрод и стал дуть на грязные крючкастые пальцы, словно они и вправду закоченели.
Митенька появился в Нижнем нивесть отколь в начале лета, но его уже знали все: убогих, как и сирот, по обычаю привечали сердобольно. Незамолимым грехом было обидеть несчастного, не пустить на двор, не подать хлеба. Правда, в Нижнем обитали свои юроды, которые не терпели чужаков, но они на диво быстро смирились с новичком, словно он их околдовал или чем-то умаслил. Да и всегда встрепанный, похожий на расклеванную птицами еловую шишку косоглазый жестковолосый Митенька больно уж был неказист и пришиблен, чтобы его отторгнуть.
– Хлебни-ка винца для сугреву, Митенька, да повещай нам, – сказал Шамка, готовя всех к новой потехе.
Митенька вцепился в кружку, глотнул, дернулся и, приведя себя в полное исступление, начал вещать ворожейным распевным голосом:
– Пала в ночи звезда хвостата, пронеслись в нощи псоглавцы с метлами люты, завелися от их оборотни ненасытны, оборотни ненасытны – человекоядцы. Почали плоть человечью рвати да глотати, в кровь длани окунати… Ой да заяснело, заяснело внезапь. Грядет, грядет вой грозен. Вой – атаман грозен да могуч. Атаман могуч да и праведен…
– Уж не Заруцкий ли праведник-то? – дернуло съязвить догадливого Шамку, но на сей раз выходка не прошла: на нее не отозвались. Кабак внимал только юроду.
– В деснице у него меч разящ, – не моргнув глазом продолжал Митенька, – в шуйце же младенец, лицом ангельским светл. И сияние от младенца на всю землю православну. Да токмо иным лихим людям он очи позастил, ядовиту стрелу они на младенца невинна точат, зане оборотням кровопийным хотят услужити. Тута они меж нами…
Все в недоумении воззрились друг на друга. А вкрадчивый голос юрода надломился, плаксиво задрожал:
– Тута они. Уготовляют злу пагубу христопродавцы, нову смуту уж сеют. А подбивает их исподволь корыстолюбец лукав, торговец алчбив по прозванию Козьма…
В кабаке стало тихо, как в могиле. И неожиданный сильный удар кулаком по столу заставил всех вздрогнуть.
– Ты Кузьму не трожь, лешево копыто, кикимора болотна! – в свирепом гневе заорал Бессон, вступаясь за брата и напрочь забыв все, что сам на него наговаривал. – Да Кузема последнюю рубаху отдаст, а не покорыстуется! Складно ты врал да видно, куды клонил. Агнцем прикинулся, волчья утроба! Гони его, робяты, в хвост и в гриву!..
Митенька съежился, по-ребячьи зашмыгал носом и снова мелко затрясся.
– Не забивай юрода!.. Не греши на убогого!.. Чай, не со зла он – от малоумия! – нашлись у Митеньки заступники.
Ни слова не говоря, из-за стола вышел Анфим, схватил юрода за цепь на груди и швырнул к дверям.
– Лети, нетопырь!
Юрод мигом поднялся и выскочил за порог. Но тут же снова появилась в дверях его мохнатая скособоченная головенка, глянула кривыми зыркалами исподлобья, ехидно сморщилась.
– Попомните ишо Митеньку! Попомните! Напущу на вас лихоманок: трясею, гнетею, ломею, пухнею, корчею…
– Сгинь! – топнул ногой Анфим, и юрод бесповоротно исчез.
Неуютно стало в кабаке. Мужики, испытывая неловкость, опускали головы, отводили друг от друга глаза.
– Хвалитя имя пропойцыно, аллилуйя! Хвалите его, стояще пред ним, – завел было безунывный Шамка кощунственную пьяную молитву. Его никто не захотел поддержать. Люди стали расходиться.
К Бессону подскочил кузнец Важен, дружески стукнул корявой рукой по плечу.
– Плюнь, Бессонушка, на тебе греха нет. То ли грех, что не дал братана в обиду? А братан твой дело благо затевает, ведаю я. При надобности пособим ему, миром всем пособим…
– Айда, товарищ, ермачить на Волгу, – бойко подвали два расторопных удальца, один из которых напоказ вытряхнул из рукава увесистый кистень.
В опустевшем кабаке остались только двое: Бессон и Анфим. Допивали остатки. Бессон набрался крепко! Заплетающимся языком клялся Анфиму в любви:
– По душе ты мне, брат… С первого взгляду по душе пришелся… Потаенный, баишь, ты человек?… И я тож потаенный… Не гляди, что с кабацкой голью дружбу вожу… Я ого-го каков, высоконько воспаряю!.. Хошь тебя озолочу?… Хошь двор продам? Задешево… Двое горенок, в закрой рублены… Една на жилом подклете, ина на бане… Конюшенка без стойлов…
По щекам Бессона текли и скапливались в курчавой бородке слезы невыразимого умиления.
6
Перед тем, как переправиться через Оку, Фотинка с Огарием, изрядь притомленные после пешего перехода в двадцать с лишком верст, что пришлось им одолеть по жаре от самой Балахны, сели отдохнуть у приплеска. Было далеко за полдень, жара спадала, и свежее дыхание реки мягко обвевало распаленные потные лица.
С кунавинского берега за полноводьем сомкнувшихся Оки и Волги Нижний виделся дивным сказочным городом. На зеленых округлых горах и под ними он пестрел вольной роскидью тесовых и драничных кровель, лемешных маковок и шатровых верхов, прапорцев, шестов и церковных крестов, подсвеченных косым солнцем. Там и сям переливчато вспыхивали и слепили глаза слюдяные просверки. Нарядным багряным пояском, обвивающим покатые склоны, казались прясла кремля.
О вечной земной благодати хотелось думать при виде пребывающего в покое города.
– Все б сидел тута да оглядывал, – сказал Фотинка.
Огарий обтер потрепанной скуфейкой лицо и ответил Фотинке старой пастушьей приговоркой:
– Беда, Ваньша, снегу не будет – всюю зиму пропасем… Воля твоя, да мешкать ни к чему бы: у самого порога, почитай.
Их уже подзывал к себе приметливый лодочник:
– Эй, страннички, садись – отваливаю! Копейка – перевоз.
– За единого? – вздумал поторговаться Огарий.
– Бога не гневлю, за обоих…
Переехав реку, они стали взбираться по закаменелой пыльной глине крутого съезда.
У ключа, бьющего обочь дороги, худенькая девица в тесном выгоревшем сарафане подцепляла коромыслом полные ведра. Друзья подошли к ней, когда она уже уровняла коромысло на плечах и, статно выпрямившись, ступила на дорогу. Тут и перехлестнулся ее взгляд со взглядом Фотинки. И таким голубым сиянием оплеснуло Фотинку, что он даже отшатнулся.
И, верно, вовсе бы смешался вдруг оробевший детина, которого не устрашали никакие ратные сшибки, если б не Огарий.
– Спаси Бог, красава, ако ты нам на удачу ведра наполнила.
Огарий молодцевато, как бывалый угодник, отвесил поясной поклон, махнув сорванной с головы скуфейкой по дорожной пыли. Тоже немало смущенная от взгляда Фотинки девушка одарила учтивого потешника кроткой улыбкой.
– Спасибо и вам на добром слове.
Видя, что разговор завязался, Огарий уже не мог отступиться.
– Красну речь красно и слушати. А не напоишь ли водицей?
– Так вот родник-то, пейте, – повела плечом девушка.
– То не по обычаю, – возразил Огарий, глянув на проглотившего язык дружка. – Выйдет навроде того, яко в праздник жена мужа дразнит, на печь лезет, кукиш кажет: на, мол, те, муженек, сладенький пирожок… Ну-ка, Фотин, приложися.
Окаменев лицом, Фотинка с безвольной покорностью снял ведро с крюка и поднес ко рту. Пил долго, без передыху, покуда не расслышал безудержного смеха, сыпавшегося мягкими серебряными звоночками…
– Ой упьется же!
Фотинка оторвался от ведра, смутился еще больше и в растерянности снова припал к нему. Теперь уже и Огарий не мог удержаться. Хохоча, он стал толкать Фотинку, чтобы тот унял себя, но детина еще крепче сжал ведро и пил не отрываясь.
– Отступись!
Фотинка пил.
– Отступися, безум!
Фотинка пил. Стало уже не до смеха.
– Да лопнешь же, пузырь! – наконец в сердцах крикнул Огарий. Фотинка опустил ведро. Он был багров, как вареный рак. Пот сыпался со лба градом. Девушка с Огарием заглянули в ведро: воды поубавилось заметно.
– Здоров водохлебище! – снова зашелся Огарий, засмеялась и девушка, но уже без веселья, словно бы жалеючи неловкого детину.
Фотинка ошалело похлопал глазами и тоже принялся хохотать. Голос у него от ключевой студи сел, и хохот смахивал на похмельное сипение неуемного бражника, отчего всем стало еще смешнее.
– Тому ль не пить, кого хмель не берет! – отсмеявшись, изрек Огарий. – Не откажи нам и в другой услуге, красава: укажи дорожку к Минину. Знашь ли такого?
– Дядю Кузьму?
– Вот ти, племянничек, и племянница объявилася, – подмигнул Фотинке Огарий. – Его, его самого!
– Да он возле, в межах с нами живет. Ступайте следом – доведу.
По дороге Фотинка понемногу оправился от смущения и даже решился заговорить с девушкой.
– Далеко воду нести.
– Далече. Зато нет воды слаще.
– Уж куда слаще, чуть цело ведро не выхлебал.
– Я аж перепугалась.
– Неужто?
– Пра. А ну-ка в роднике воды не хватит.
Они враз засмеялись тем чистым простодушным смехом, от которого им стало легко и который сблизил их.
У ограды мининского подворья девушка показала на ворота, а сама свернула в заулок.
– Как зовут тебя? – крикнул ей вслед совсем осмелевший Фотинка и замер в ожидании.
– Настеной, – отозвалась она. Рассыпались, замолкая, серебряные звоночки…
Крепкие створчатые ворота были распахнуты настежь. Свежие колеи от тележных колес тянулись в глубь двора. Верно, хозяин возил что-то. И вправду Фотинка с Огарием увидели Кузьму Минича в распущенной рубахе и с вилами в руках, сваливающего сено с телеги. Щуплый отрок помогал ему, носил травяные вороха в сенник.
– Ах ты, Еремкин сын! – несказанно обрадовался Кузьма, увидев Фотинку. – Жду-пожду тебя… Нефедка, – окликнул он отрока, – беги в горницу, скажи мамке, чтоб стол накрывала.
Нефед охотно бросил работу и, даже не взглянув на пришлецов, прошествовал к крыльцу.
– Э-эх! – не скрыл досады Кузьма за неприветного сына и кивнул на Огария. – Кто ж с тобой, племянник?
– Братка названый, вместе у князя Пожарского служили.
– Ну коли так, – подивился Кузьма, с сомнением оглядывая малорослого и хилого голована, – добро пожаловать с честью!
– Честному мужу честен и поклон, – по обыкновению не полез за словом в карман Огарий. – Больше почет, больше и хлопот.
– Чую, зело смирен ты, молодец, – смекнув, что Огарий не даст себя в обиду, подшутил Кузьма.
– Ой, смирен, яко козел на привязи. Ибо испытано: аща обрящеши смирение, одолееши мудрость.
Колючий человечек явно настаивал на уважительности к себе и заведомо пресекал всякие попытки пренебречь им. Кузьме не надо было больше испытывать его, он оценил гордеца и уже одобрительно глянул на Огария, не вступая с ним в досужую перепалку. Да и заботили его свои думы.
– Давно вы оставили князя?








