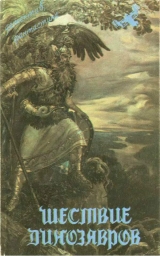
Текст книги "Купно за едино!"
Автор книги: Валерий Шамшурин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
– Сладка байка да зело диковинна, – в сомнении покачал головой Кузьма.
– Бредни! – отрезал Болтин.
Биркин, застегивая пуговицы на кафтане, с боярской величавостью выплыл из-за стола. Всем надо было показать, что он тут наиважнейший чин. И с назидательной строгостью он сказал Минину:
– Никому ты не веришь, староста, оттого и делам помеха. А мне доводилося слышать историю оную. И коли ее с толком огласке предать, польза будет немалая. Народ к нам со всей земли хлынет.
– Пра! – выкрикнул, словно подстегнутый, Бессон. – За Ерофей Егорычем множество пойдет. Он тягло сымет, полну волю даст, а казну, что собрана на ополчение, меж неимущими поделит!
– Всяк правды ищет, да не всяк ее творит, – усмехнулся Кузьма.
И тут все насторожились. В сенях раздался громкий топот, послышалась ругань. Дверь распахнулась настежь. В избу скопом ввалились оружные люди, среди которых Кузьма сразу углядел кормщика Афанасия. Наконец-то пожаловали смоляне! С одежды их мелкой крупой осыпался снежок.
– Челом вам бьем, люди добрые! – отвесил поклон нижегородцам разрумянившийся от холода Кондратий Недовесков. – Пошто у порога мужиков с дрекольем поставили? Еле мы прорвалися. Ишь бережетеся!
Он обвел всех веселым благодушным взглядом и вдруг вскинул брови от изумления, увидев того, кто выдавал себя за царского отпрыска.
– А, Ерошка! Отколь тут еси? В Арзамасе мужиков смущал, ноне в Нижнем принялся. Мало тебя батогами угощали!
Самозванец по-заячьи прытко рванулся к двери, сшиб с ног остолбеневшего Бессона, повалился сам.
– Чтоб в Нижнем завтра духу твоего не было, а то не поздоровится! – выговорил ему Кузьма и устыдил Бессона:
– Ты, радетель, спьяну пень с колодой не путай. Потешников у нас в городу и без тебя избыток.
Смоляне захохотали. Незадачливые Бессон с приятелем мигом поднялись и, не глядя друг на друга, выскочили наружу.
– Гораздо запорошило на воле-то? – как ни в чем не бывало спросил Минин Недовескова, сбивающего с рукава кафтана снег.
– Знатно порошит, – тут же отозвался он. – Афанасий наворожил нам погодку лихую!
6
Князь Василий Андреевич Звенигородский ехал на воеводство в Нижний Новгород. Ни от кого бы не стал он таить, что несладко ему жилось в осаде, но покинул князь голодную Москву без радости. Напутствуя его, Федор Иванович Мстиславский поведал о великих бесчинствах в подначальных Боярской думе городах и приуготовил ко всяким каверзам. Князю и самому было ведомо, что московских бояр в народе считали изменниками, а потому давно перестали внимать и пособлять им. Опричь того, он состоял в родстве с проклинаемым всюду Михаилом Глебовичем Салтыковым, который был женат на его тетке Иулиании, а такое родство по нынешним временам хуже позорного клейма. Вот и тянул князь, сколь мог, с отъездом, ссылаясь на осеннюю распутицу, однако, как только отвердели дороги, ему все же пришлось сняться с места.
За Рогожскую заставу обремененный топыристой поклажей обоз князя сопровождала полусотня конных жолнеров, слезно вымоленных у Гонсевского, но, отъехав всего две версты от Москвы и вытянув постыдным вымогательством обещанное вознаграждение, полусотня повернула назад, и князь вынужден был продолжать путь с малой охранной челядью. Где-то рядом рыскали свирепые казаки Заруцкого да упаси Бог. И все же почти до самого Нижнего князя не оставляло сильное беспокойство, и он с опаской поглядывал из своей колымаги на всякую стоящую при дороге вежу или мужицкие скопища в селениях. Оборванные, со всклокоченными бородами мужики были безбоязненны, дерзки и злы. Неслись вслед воеводе хула и похабщина.
Ночевал Звенигородский в крайних избах, откуда его челядь безо всякой жалости выталкивала на холод хозяев. Однако спать в убогих зловонных лачугах, где тишина была наполнена тараканьими шорохами, он не мог, проводя ночи в тяжелой полудреме за выскобленным ради него до первозданной белизны столом и непрестанно ожидая разбойничьего налета. Князь был в больших летах, со старческой бессонницей свыкся, но одно дело безмятежно бодрствовать на пуховиках в повалуше своего обжитого терема и совсем иное – в пахнущей дымом, прелым тряпьем и пойлом для скотины крестьянской халупе, прислушиваясь к заупокойным стенаньям ветра. Повсеместная нищета, запустенье, а еще больше бессилие перед выматывающей смутной тревогой доканывали его.
Многое переворошил в памяти Василий Андреевич за время своих ночных бдений: жизнь была прожита изрядная. Вспоминал князь счастливую пору великих надежд, когда совсем юным он был отличен назначением головой в сторожевой полк, проявивший себя в Ливонском походе, и когда, спустя годы, после удачного посольского похода своего отца Андрея Дмитриевича в Персию к шаху Аббасу, он удостоился чести возглавлять строительство самой могучей на Руси крепости в Смоленске. Вспоминалась и горестная пора опалы при Отрепьеве и Шуйском, чему была причиной долгая сердечная приязнь усопшего Годунова к Звенигородским. Да, не прошла даром ревностная служба оплеванному всеми Борису, будто он был порождением лютым бед. И по сей день мечут презрительно взгляды иные бояре в сторону Звенигородских.
Не раз уж доводилось юлить да заискивать перед теми, кто ране сам униженно набивался в друзья. Нелегко смирить гордыню, нелегко твердость поменять на покладистость – тут никакая личина не сгодится, надо было и впрямь поступаться старыми привилегиями, чтобы обрести новые. И тут старший брат Василия Андреевича Федор оказался расторопнее. Через Салтыкова завел он дружбу с всесильным канцлером Львом Сапегой. Дважды уж ездил к нему. Правда, посылая с ним в подарок канцлеру лисью горлатную шапку, Михаил Глебович нанес Федору страшную обиду, обвязав ту шапку тесемкой с печатью, из-за опаски, что его родич может подменить подарок, но Федор стойко сносил и не такие оскорбления. В лицо плевали – знай, утирался. Вестимо, где теряешь, там и находишь. Опять же: где унижается достоинство, там оно и возвеличивается. Верноподданические услуги вполне окупили хлопоты Федора, который добился у канцлера высокого чина окольничего для себя и брата. И уж ничего ему после не стоило подписаться под боярскими грамотами Шеину с требованием немедленной сдачи Смоленска полякам и Филарету о повинном признании Владислава. Что и говорить, умел Федор выходить сухим из воды. Однако все зыбко в мире сем, где густо перемешаны ложь и правда. И как угадать, самая ли прочная та нить, за которую ныне ухватились Звенигородские?
Размышляя о хитроумии Федора, Василий Андреевич припомнил слова того о нижегородцах. Брат уже воеводствовал в Нижнем при Годунове и не со стороны знал о тамошних жителях. «Оные люди, – говорил Федор, – вельми толковы и работящи, верны слову и держат язык на привязи. Да, изрядно горды и неуступчивы, задарма с них ничего не возьмешь. Приручить их можно токмо лаской. Наговори им короб улестных словес – и попрячут ежовы иголки, разомлеют. Тут уж не зевай, а помаленьку стравливай дружку с дружкой. Весь-то задор на себя и обратят…» Но впору ли ныне придется мудрость братова? Не прежни времена…
На полдороге застиг Василия Андреевича первый снегопад. Правда, не густ был снежок, скупой крупкой сеял, а час от часу белее и белее становилось окрест, и ко всем тревогам добавилась новая: дай Бог успеть до обильного снега, не удосужишься в крайний срок сменить колесо на полоз и увязнешь в заносах. А менять несручно: все возы надо перекладывать. И уже велел Звенигородский немилосердно гнать лошадей.
Миновав Павлов Острог, он выслал вперед оповестителей. Надеялся, что по обычаю встретят его нижегородцы с хлебом-солью. Но у городской заставы никого не было. Ни один колокол не ударил в его честь. Как незваный гость, въехал Василий Андреевич в Нижний. И надо бы осерчать ему, повернув обратно и потребовав виновников на расправу, да не смог: чуял, себе причинит тем большее зло.
Только в кремлевских стенах, выйдя из колымаги, Звенигородский облегченно вздохнул. Десятка три богатых возков и расписных саней в пестрых разводах и цветах скопилось возле Съезжей избы. Лучшие люди Нижнего, вырядившись в дорогие шубы – бобровые да куньи, крытые гладким, косматым и тисненым ярким бархатом, аглицким да немецким сукном, кучкой стояли у крыльца, терпеливо ожидая воеводу. Серебряными блесками переливался на одеждах снег. Поодаль истуканами замерли стрельцы в праздничных малиновых кафтанах, поедая глазами нового начальника. И ощущение того, что в Нижнем все блюдется по старине и что он наконец-то обретет тут желанный покой, умиротворило Звенигородского. Князь приветно улыбнулся подавшейся ему навстречу знати, выслушивая разноголосицу похвал и пожеланий, но страшная усталость подкосила его ноги, и он бы, верно, упал, если бы приглядчивый дьяк Семенов не подхватил его подмышки и не довел до крыльца.
– Примем его милость по-христиански, – обернулся он к собравшимся, кивком головы давая знак до поры не тревожить сморенного воеводу, – накормим, напоим да спать уложим, а уж опосля за дела возьмемся. Расходитеся покудова…
Звенигородский долго не мог прийти в себя и долго не смолкал по-комариному назойливый звон в его ушах. Так и сидел недвижно в шубе на лавке, поникнув головой, пока звон не стал затихать и наконец пропал вовсе. Василий Андреевич поднял мутные страдальческие глаза и увидел перед собой дьяка с большой кружкой кваса в руках. Князь выхлебал квас до дна. Поотмяк.
– Что ж вы, сукины дети, – как бы жалуясь, а вовсе не бранясь, одышливо вымолвил он, – древлих законов не чтите?
– Прости, благодетель, за оплошку, не сумели принудой народишко собрать, – без какого-либо трепета и как в чем-то не слишком предосудительном покаялся дьяк.
Звенигородский внимательно глянул на него: не пьян ли? Потом снял горлатную шапку, за ней суконный колпак, тафью, провел ладонью по мокрым от пота реденьким волосам.
– А оброк-то собрали? Пошто в Москву не выслали?
– Собрать собрали с лихвой да не у нас казна.
– У кого ж?
– Земство ее к рукам прибрало.
– Диво дивное! Земство, вишь, прибрало. Изымите!
– Поздно, князь, уже не в нашей то власти. Мы сами тут ровно в полоне.
– Смута?
– Нешто можно допустить? Смуты у нас нет.
Вовсе не было похоже, чтоб тучный дьяк со своей масляной рожей и громовым басищем был чем-то удручен. И ничего не мог понять Звенигородский из его невразумительных ответов. Князя впервые за последние сутки клонило в сон, и он отложил разговор на завтра.
– Ну сочтуся я с вами!.. Ну разберусь!..
Уже бредя под руку с грузным дьяком из Съезжей избы в отведенные ему покои, воевода опамятованно встрепенулся:
– Смуты нет, а смутьянов, верно, не повывели. В темницы их покидать! А тех, кто в темницах ноне, предать смерти!..
7
Монах Николай был разбужен едва начало светать. Вставшие у порога стрельцы не торопили его, невозмутимо наблюдали за недолгими приготовлениями. И монах понял, что у него не осталось никакой надежды. Он пал на колени и хотел сотворить молитву, но молитва не шла на ум, вся латынь забылась. Строгий облик отца Мело всплыл в памяти. Наставник медленно шевелил струпьистыми губами, будто подсказывал. Напрасно. Несчастный узник ничего не разобрал. Предчувствие близкой смерти все сильнее сжимало сердце, и дух не мог совладать с охваченной ужасом плотью. Опершись рукой о ложе, Николай все же сумел подняться. Драная шубейка, которой он покрывался, ложась спать, висела на его иссохших плечиках, как на колу.
Стрельцы молча расступились, и осужденный вышел из темницы.
Чуть покалывал легкий морозец. Синяя сумеречь шевелилась в падающем снеге, сочной сгущенной тенью лежала вдоль внутренней крепостной стены.
Тропка была узкой, и все шли гуськом – со стрелецким десятником впереди. Едва не упираясь бердышем в хилую спину смертника, за ним следовал Афонька Муромцев. Маленький, тщедушный и покорливый инородец вызывал у молодого стрельца жалость. Как слышал Афонька, вреда он никакого не причинил и казнить его, по афонькиному разумению, не было нужды – лучше отпустить бы с миром на все четыре стороны: пущай себе разгуливает сморчок. Тем паче по-русски не смыслит, все одно, что глух и нем, Надо ж такое наклепать на убогого, будто он подослан злодействовать в Нижний польской еретичкой Мариной! Совсем тронулись умом начальные.
Навстречу шествию вынесло бабенку с пустыми ведрами. Она растерялась, метнулась на рыхлую обочину, оглядывая всех испуганными глазами.
– Чего под ноги прешь! – грубо крикнул ей десятник и остановился, озадаченный дурной приметой. Все сбились в кучу.
– Чай, то вещий знак нам, – внезапно высказал вслух свое смятение Афонька. – Неправедно творим, неправедно…
– Заткнися, щенок! Не твоей голове о том судить, – разозлился десятник. – Что-то изрядь нонь праведников расплодилося, а благочиния все нет.
– Шемякин суд-то, – не отстал Афонька.
– За изменные речи самого вздерну. Не вводи во грех!
И десятник широко перекрестился, заслышав заутрений благовест.
Они неспешно двинулись дальше. Монаха стало знобить. Чтобы отогнать страх, он снова начал вспоминать молитву. Но вместо нее из самой глубины памяти пробилась незатейливая древняя детская песенка. И осужденный без конца повторял одни и те же родные слова, которые если не успокаивали, то отвлекали его, спасая от безудержного отчаянья:
Неизбежное должно было свершиться. Но он умрет с тем, что никому не отнять у него. Дух его улетит в покинутую Японию, где жестоко правит сёгун Токугава, но дух тот не будет одним из признаков несчастных эта[30]30
Парии, отщепенцы (японск.).
[Закрыть], заброшенных по воле рока в чужую землю, и не покаянной мольбой странника, порывающего с католичеством, которое навязал ему суровый проповедник Мело, а вечным благословением милой родине. Снег облетающих лепестков сакуры кружился в глазах и смешивался с русским гибельным снегом.
Глава седьмая
Год 1611–1612. Начало зимы. (Печерский монастырь. Мугреево. Нижний Новгород)
1
Сребровласый и старчески сохлый архимандрит Феодосий, расслабленно отвалившись на высокую, увенчанную резным крестом спинку жесткого кресла, с мудрой бесстрастностью внимал протопопу Савве, который изо всех сил пытался воспламенить его. Блестело от пота чело Саввы, нелегко ему давалась увещевательная речь, но он упорно гнул свое. «В Разрядный приказ бы Ефимьеву ведать ратным набором, а не в храме отправлять требы», – всякий раз, когда взглядывал на кряжистую протопопью стать, думал архимандрит.
Мысль Кузьмы склонить печерского настоятеля на поездку к Пожарскому гвоздем засела в голове протопопа, хотя он поначалу всячески противился той мысли, находя разные отговорки. Однако, побыв на мирском сходе, воодушевленный Савва вроде бы вконец уверился в правоте посадского вожака. Быть ополчению в Нижнем, а коли так – не обойтись без умелого честного воеводы. Пожарский придется кстати. Опричь его, нет лучшего руковода окрест.
На другой день после схода Кузьма вновь затеял старый разговор с протопопом, придя к нему в ризницу. Среди тесных стен, завешанных церковными одеяниями, Савва ощутил себя попавшим в собственную западню. Отговорок у него уже не находилось, да и сам он посчитал постыдным отпираться. Все же не изменил своей привычке медлить:
– Тяжко бремя воскладаеши еси на мя, Козьма-свете. Строг, непокладист архимандрит. Прогонит – сорому не оберуся.
– Кто ты, коль не отступник? И ермогенова слова тебе мало, и воли паствы твоей? Али сызнова на квасок меня потянешь?
Обидно насмешничал Кузьма, и Савва не мог выдержать его пристального взгляда. К архимандриту пошел полный решимости.
Беспрестанно поминая гермогеново послание, а также слезную грамоту троицких старцев, Савва с неостывшим от разговора с Кузьмой возбуждением внушал Феодосию, что воеводская власть в Нижнем потому лишилась людской приязни, что по недомыслию напрочь отворотилась от народа. Неровен час, народ озлится и на православные храмы, чиня бунташную колготу, ежели церковь не сподобится поддержать народный зиждительный дух, сойдет с уготованной ей господом пастырской стези. Не в хвосте, а в голове подобает быть церкви.
Не мог не согласиться с протопопом Феодосий. Все верно говорил Савва про церковь. Надобно крепить величие ее. Сам о том денно и нощно печется. Да не его вина, что один упадок кругом.
Мысли печерского настоятеля перетекли в обычное русло. Многажды сбирался он затеять большое каменное строительство монастыря, дабы возвернуть ему былую мощь. Еще в конце царствования Федора Иоанновича постигло обитель страшное несчастие: оползень снес все до единого строения. Ютятся монахи в наскоро срубленных келейках, молятся в убогих обыденных церквушках. Како тут величие! Захудалый черносошный мужик ныне живет гораздо приглядней. И хоть втае тяготел Феодосий к нестяжателям, не гнался за пышностью да излишеством, но не единожды с завистливой печалью поглядывал на икону, писанную при Иоанне Грозном, на коей был представлен основатель монастыря Дионисий возле пятиглавого собора дивной лепоты. Бесследно исчез собор под оползнем.
Уже скопил архимандрит деньги на такой же новый храм. Благо, было с чего имать: у монастыря земли обильные, и леса боровые за Волгою, и пашни, и покосы, и бортные ухожья, и рыбные ловы, и бобровые гоны, и своих крестьянишек сотни душ. Только в разброде ныне те души, а то и в бегах. И не впрок скопленное богатство, некуда употребить его. Смута отвадила от богоугодного строительства. Бренное повседневье с его тревогами и страхами напрочь заслонило помыслы о вечном.
Невольная ухмылка тронула блеклые уста настоятеля.
– Довлеет дневи злоба его.
Слова прошелестели почти беззвучно. Но выговорившийся Савва разобрал их. Простоватое мужицкое лицо его омрачилось. Приняв скупое речение Феодосия за отказ и, по всегдашней покладистости и осмотрительности, в иную пору не посмев бы перечить, протопоп на сей раз чуть вопом не возопил с досады.
– Уповахом на тя, отче. Боле не на кого. Ты днесь старейший в Нижнем. Князь Пожарский не дерзнет отринута твоего благословения…
Феодосий молча поднялся с кресла, подошел к стенным иконам. Савва напряженно следил за ним, стараясь проникнуть в мысли архимандрита.
В сумрачной брусяной кельице с окошками на заснеженную Волгу становилась отшельничья тишина. Утомившись глядеть на щуплую недвижную спину архимандрита, Савва перевел взгляд на заполненные уставной кириллицей страницы распахнутой книги, что лежала на столе. Книга была древняя, заветшавшая. Не сочинение ли то велемудрого Павла Высокого, либо усердный труд достопамятного мниха Лаврентия, что некогда своими деяниями прославили нижегородские Печеры?[31]31
Павел Высокий и Лаврентий, создатель известной летописи, названной по его имени Лаврентьевской, жили в Печерском монастыре в XIV веке.
[Закрыть] В пример бы им потщиться и Феодосию.
Стоя перед иконами, не с Богом советовался архимандрит, а только сам с собой. Не было у него уверенности, что нижегородцы соберут изрядное ополчение, могущее освободить Москву. Однако каким бы Оно ни было, а все заступа. И выбор пал на воеводу доброго. Давно известен Феодосию род Пожарских, что не прельщались мамоной и чтили нестяжательного Максима Грека. Нынешний князь, толкуют, достоин своих предков. Жертвенник. В Москве зело отличился. Он тут, а по его почину в иных градах объявятся смельчаки и сберут останние силы. Не могут не объявиться, ибо тогда конец православной русской земле. Что ж, надобно поднять над ними святой крест. Достало бы только мочи на маетную поездку.
Когда Феодосий обернулся к Савве, тот было снова принялся за увещевания. Аохимандрит остановил его слабым движением руки.
– Будя витийствовати, протопопе. Не оставим мы господа, и господь не оставит ны. Бысть по-твоему, поеду яз…
Савва с радостным умилением схватил сухую длань архимандрита. Глаза его вспыхнули, как новые лампадки.
– Присно тя в своих молитвах будут славить христиане, Феодосие!
Не позволяя расслабляться душе, Феодосий давно с равным спокойствием принимал и хвалу, и хулу. Потому лик его остался бесстрастным.
2
Получив согласие Феодосия, нижегородцы не замедлили с отъездом. В Мугреево вместе с архимандритом выехали отряженные земством посланцы. В пути блюли строгий порядок. В голове верхом был Фотинка с молчаливыми монахами-стражами, за ними – запряженная цугом четверка крепких лошадей тянула архимандритский возок, следом стремя в стремя двигались на боевых конях Ждан Болтин с сыном знатного поместника Дмитрия Исаевича Жедринского Тимофеем, затем – в розвальнях посадские выборные от торговых людей Федор Марков и от мастеровых Баженка Дмитриев и позади всех, за санями с дорожным припасом, – два десятка отборных молодых вершников-копейщиков в новой кольчужной сряде. Чем не высокое посольство!
Ехали бором. День был ясен и блескуч от солнца. Сквозь засыпанные пышным, словно лебяжий пух, снегом сосновые лапы проблескивали острые золотистые лучи, и на поворотах дороги вспыхивали так, что заставляли жмуриться. Иссиня-белый и еще не слежавшийся наст обочин отсвечивал девственной чистотой. Царственно строгая тишина заполняла лес, где струилась и струилась с ветвей блистающая радужным многоцветьем снежная пыльца.
При такой красе все мрачные думы само собой отступали прочь. Однако Болтину было не до красы, тоска угнетала его неотвязно.
Взглядывая на обтянутый толстой кожей заиндевелый архимандритский возок, что плавно покачивался на увалистой дороге, Ждан обмысливал втолкованные ему наказы. Не по душе были честному дворянину тайные умышления некоторых служилых, поддавшихся Биркину. Коли вознамерится Пожарский стать во главе ополчения, Болтин должен будет заявить ему о желании служилой верхушки удалить посадского старосту от всех дел по ратному устроению, а наипаче от казны: мол, довольно зависеть от мужика, он свое содеял, а прочее – не его печаль.
И беспрестанно преследовал Болтина вкрадчивый шепот лукавого стряпчего:
– Погоди, дадим волю да оставим казну мяснику, он и над Пожарским власть возьмет. Кто не падок на золотишко? Торговец при войске, аки блудница. Едино совращение…
Поклявшемуся по горячке до поры хранить молчание Болтину было совестно перед Кузьмой, и он, маясь душой, отводил глаза в сторону при расставании с ним. Потому и простились наспех, без дружеской сердечности. Тяжел был утаенный предательский камень за пазухой – и Болтин, пытаясь отвлечься, то и дело встряхивал понурой головой. Напрасно безмятежный Тимофей Жедринский, дивясь замкнутости обычно бодрого и отзывчивого Ждана, заговаривал с ним – сопутник угрюмо отмалчивался.
Да, неладное может сотвориться вскоре. И, видно, зря намедни Ждан уверял сошедшихся в избе посадских, что служилые дворяне во всем заедино с ними.
– Икнул бес молоком да отрыгнул чесноком, – выслушав Болтина, язвительно откликнулся дерзкий Степка Водолеев.
И хоть одернули огурщика Михайла Спирин и поддакнувший Спирину Богомолов, которые опасались всяких раздоров не по времени, Степка сказал вслух то, о чем думали да умалчивали прочие. Не всегда правда ходила от красного угла, ходила она и от двери, подле которой обычно и пристраивался на корточках Водолеев вместе с родной ему посадской чернью, чтобы держать ухо востро и подковыркой прерывать медоточивые речи.
Это верно, что посадские едины с Мининым – они и кружат возле него, как пчелы возле Матки, а вот за служилых Болтин ручался опрометчиво, известно ведь: не хвали ветра, не извеяв жита. Ничем еще себя не проявили служилые, кроме пересудов о жалованье, и, право, не все из них одобряли самого Ждана, без всяких оговорок примкнувшего к Минину.
Ох, каялся теперь Болтин, что по прямоте своей целиком доверился злокозненному стряпчему, который эту честную прямоту и употреблял ныне себе на пользу, а Минину во вред. А ведь никого не видел Ждан рядом достойнее Кузьмы, последнего добра не жалеющего ради ополчения: вон и позолоченные оклады, снятые с домашних икон, на общее благо в земскую казну вложил. И никто, опричь Минина, не прозрел так, дабы в жертвовании и самоотвержении вопреки повсеместному хапанию найти путь к спасению государства.
Недалекое трескотливое постукивание желны о сухую лесину заставило Болтина на миг поднять глаза. Мельком он увидел малиновую шапочку деловитой птицы, прильнувшей к стволу старой осыпавшейся сосны. Приметили дятла и другие.
– Ишь ты, колотит! – восхитился Тимофей, покосясь на Ждана. – Удачу нам наколачивает. Благо, не белка встренулась, худой знак. А желна – к удаче, право слово.
Болтин через силу улыбнулся, а спустя малое время и вовсе повеселел. Наконец-то он рассудил поступить проще простого: в любом случае не поминать при Пожарском о посадском старосте, будто ничего и не было наказано.
3
Фотинку поразили перемены на княжьем дворе. Въехав первым, он даже растерялся, выискивая глазами свободное место, где можно было бы разместиться. Двор кишмя кишел народом.
Возле расседланных лошадей, рогожных кибиток и набитых сеном кошевней скучивались боевые холопы, челядь, крестьянский люд. У бревенчатых стен дворовых построек были составлены копья и рогатины вперемешку с насаженными торчком на древки косами. Из людской выбегали девки с горячими ковригами и раздавали их кому попадя. Вверх и вниз мотался журавель колодца.
Невдогад было Фотинке, что, прослышав о нижегородском посольстве, сюда съехались из дальней и ближней округи посланцы вяземских и дорогобужских служилых дворян, пребывающих на постое в Ярополчской волости, одиночные ратники, оставившие подмосковный стан, мужики-пахотники, которым невмоготу стало терпеть набеги разорителей. Но, не ведая, отчего случилось такое столпотворение и кто такие люди, заполнившие двор, Фотинка все же смекнул: не подай князь надежды на скорый возврат к ратным делам, к нему бы не потянулся народ.
Нижегородцы были встречены радостным гулом. И многоликое сборище враз пало ниц перед выбравшимся из возка Феодосием и не поднялось с колен, покуда все посольство вслед за своим архимандритом не прошествовало до крыльца и не вступило в княжеские хоромы.
Дмитрий Михайлович принял нижегородцев в той же самой горнице, где он привечал по осени их посадского старосту. Склонив лысеющую голову, он шагнул навстречу архимандриту, и тот перекрестил его. Фотинка углядел, что в Пожарском и следа не осталось от прежней удрученности. Князь был спокоен и светел ликом. Праздничная, расшитая серебряными нитями, с невысоким козырем парчовая ферязь ладно облегала его стан и придавала князю несвычную для Фотинки боярскую величавость.
Хотя и пригласил хозяин к столу, нижегородцы, подражая строгому Феодосию, не шелохнулись, блюли посольский чин. И стояли они, как положено, по старшинству: в почтительном отдалении от Феодосия и монастырского старца-схимника, державшего перед собой икону, – Болтин с Жедринским, чуть отступя – Марков и у самых дверей – Дмитриев да Фотинка. Каждый неотрывно смотрел на князя. И Фотинке было слышно, как в сильном волнении билось в его груди сердце…
– Княже, – негромким, мяклым голосом произнес Феодосий, – вседержитель-господь браздою и уздою, сиречь скорбьми и бедами, востязуе род христианский сынов русских, дабы испытати дух наш. Велия злоба содеяся и многомятежная буря воздвижеся, реки крови истекоша. В ликовании враз наши. А купно с ними и злодеи-изменники. Горе им, яко в путь Каинов ходиша!.. – Архимандрит перевел дыхание. – Бог же наказует ны, Бог и милует. Всклень налита чаша терпения и грядет час возмездия. Княже, зовет Нижний Новград тя, встань во главе рати нашей.
– Благодарствую за честь, – поклонился князь архимандриту и всем нижегородцам. – Да в Нижнем, знаю, почтеннее воители есть. Стану помехою им.
– Все служилые за тебя, Дмитрий Михайлович. Не по высокородству мы избираем, по ратной доблести, – поспешил Болтин заверить князя.
– Посады, Верхний и Нижний, бьют челом, – добавил Марков.
– За тебя все у нас до единого, – сказал свое слово и Жедринский.
– Просим, княже, – подтвердил Дмитриев.
– А воевода ваш?
– Воевода наш не мычит, не телится. Голосу его не слыхивали, – с резкой прямотой высказался Дмитриев. Кузнец с Ковалихинской овражной улицы не умел сглаживать углы. Да и самим обликом он походил на выросший из земли несворотимый угластый камень. Даже подпаленная борода его была так густа и плотна, что смахивала на тяжелый грубый слиток.
– Воевода Звенигородский московскими боярами ставлен и, вестимо, не без ляшского совету, – стал разъяснять Пожарскому рассудительный Марков, смягчая резкость бесхитростного кузнеца. – Препоны чинить нам он едва ли отважится. Супротив его весь люд. Посему або воевода к тебе примкнет, або мы его из города выставим.
Пожарский задумался. Несогласие с нижегородским воеводой явно не устраивало его.
Фотинка с нарастающей тревогой следил, как строжало лицо князя. Ему ли не знать: если Дмитрий Михайлович круто свел брови, он уже не поддастся никаким уговорам, поступит только по-своему.
– Прости моему окаянству да худости моей, осударь, – не стерпев, снова выставился Дмитриев. – Скажу тебе: не опасайся. Мы земством воеводе и пикнуть поперек не позволим, враз угомоним. Ты у нас будешь набольшим.
– Я раздорам не потатчик, – жестко молвил князь. – Я на воеводско живое место не зарюся. Люди разнесут: пришел де Пожарский в Нижний бунт учинять и корыстоваться. Ищите другого.
– Поладим с воеводою, – постарался успокоить князя Болтин. – Возле него много наших людей: Алябьев, Львов да вот еще отец ею, – кивнул он на Тимофея Жедринского. Обиды воеводе не будет: за ним – его, а за нами наше.
Дмитрий Михайлович промолчал. Уже два раза он отклонил просьбу посланцев, отклонит в третий – вертаться им не солоно хлебавши. Таков обычай: после третьего отказа не настаивать, ибо уже себе урон чести.
Смятение охватило нижегородцев. И даже Фотинка, более всех уверенный в князе, не на шутку испугался: а вдруг князь и впрямь замыслил отступиться. Надеясь на последнюю выручку, все устремили взоры на архимандрита.
– Всяк бо незлобив, – притронулся рукоятью посоха Феодосий к груди князя, и несмотря на то, что в его тихом бесцветном голосе вовсе не было упора, он проявлялся в том строгом достоинстве, с которым держался архимандрит, – всяк бо незлобив честному словеси веру емлет, а коварлив в размышление ся погружает. Попусту мы бы не полошили тя, княже. Церковью дело твое освящено. Постигни сие. Постигни, что яз, дряхлый старец, не просить тебя пришел, а призвать. И унижением твоим вящим будет гордыня твоя предо мною.
– Не пеняй, отче, – невольно отступил на шаг Пожарский. – Нет у меня большей заботы, чем спасение земли русской. Токмо дело хочу ставить наверняка да ставить не на топи, а на тверди. Горького урока Ляпунова не забываю.
– У нас того не случится, Дмитрий Михайлович! – с жаром воскликнул Болтин, но тут же вспомнил о кознях Биркина против Кузьмы и осекся.








