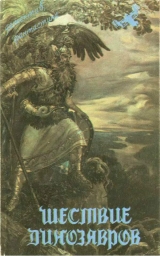
Текст книги "Купно за едино!"
Автор книги: Валерий Шамшурин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
– Ты, Федор Марков?
– За Кузьму, – не раздумывая, ответил целовальник, которого нисколько не обидело, что другого предпочли ему: Кузьму он почитал.
– Ты, Петр Григорьев?…
– Ты, Микита Бестужев?…
– Ты, Афанасий Гурьев?…
Было полное единодушие.
– Пиши приговор, – склонившись к подьячему, указал Спирин. – «Посоветовав всем миром, излюбили есмя и выбрали к государеву делу и земскому в Нижнем Новеграде в Земскую избу нижегородца же посадского человека в земские старосты Кузьму Минина… Ведать ему в посадском мире всякие дела и во всех мирских делах радеть, а нам, мирским людям, его, старосту, во всех мирских делах слушать, а не учнем его слушати, и ему нас надлежит к мирскому делу нудить…»
Когда каждый подписался на оборотной стороне приговорного листа, Спирин шагнул к Кузьме, дружески обнял.
– Ну помогай тебе Бог! Авось, выдюжишь. А мы не оставим.
И подмигнул весело.
– Пропадай яйцо, а не курица!
Провожая выборщиков, Кузьма сошел с крыльца; и сразу же его окружили мужики.
– Наша взяла, робяты! Что я вам баял! – кричал Водолеев.
– Не плошай, староста! Плечьми подопрем! – подбодрил однорукий стрелец.
– Верши не ложью – все будет по божью!..
– Будь больший, а слушай меньших!..
– Что мир порядил, то Бог рассудил!..
– Вали на мир, мир все снесет!..
– Чай, соборно и сатану поборем!..
Наказы и подковырки сыпались со всех сторон. Кузьма только головой вертел.
– Не устрашись, благодетель! Ослобони Москву! – тянула к нему из толпы дряблые темные руки простодушная старуха, у которой в московском пожаре сгорела вся родня.
– Эх, Минич, кто везет, того и погоняют! – сочувственно протиснулся к Кузьме Подеев. – Дай-кось я тебя облобызаю!
И добрый старик с неспешной чинностью трижды поцеловал Кузьму. Тот на миг прижал его к себе, потом ласково отстранил и взбежал на крыльцо. Лицо и борода его серебряно блестели от дождя. Он в пояс поклонился посадским.
– Исполать вам, люди добрые! Что замыслил – от того не отступлюся! Правда в том. А вы – моя упора…
Понемногу все разошлись. Утягивали и Кузьму с собой, но он отговорился. И до темна просидел с подьячим и сторожем: доставали из ларя и коробьев окладные книги, подворные списки по десятням, поручные записи, платежные отписи сборщиков, проглядывали да раскладывали как сподручно. Кузьма хотел подготовить все загодя, чтобы до полушки высчитать, на сколько в крайний предел потянет посад сверх всяких обложений. Нужда подгоняла его.
Уже запирали избу, как увидели поспешающего к ним по грязи пристава Якова Баженова с чадящим факелом. За приставом развалисто вышагивал крутоплечий простоволосый мужик.
– С почином тебя, староста! – утирая рукавом мокрое лицо, сказал Баженов. – Вот приволок к тебе починного бродяжничка. Меж двор плутал, а кого выискивал – Бог весть.
– Еще баушка надвое сказала, кто кого приволок, – усмехнулся ражий мужик, и стало ясно, что такого силком идти не понудишь.
– Не здешний? – спросил Кузьма, хоть и сам видел, что перед ним чужак.
– От самых Соловцов странствую. Монастырский кормщик яз, Афанасий…
4
На последнюю ночевку перед Нижним Афанасий остановился в разоренном и заброшенном починке возле лесной опушки. Видно, тут побывали лиходей. Прясла, опоясывающие двор, были поломаны. На самом дворе раскиданы глиняные черепки, тряпье, тележные колеса, клочья драной овчины и солома, струпьистой язвой выделялось большое круглое пятно кострища. Изба стояла нараспах – с оторванной дверью и погубленными у входа стенами.
Афанасий неприкаянно прошелся по двору, поднял и зачем-то отряхнул и повесил на оградный кол детский сарафанишко, ковырнул носком сапога золу кострища, вывернув из нее обугленную коровью кость, и направился к овину, обочь которого густо темнели заросли высокой конопли. Набрав по пути охапку соломы, он, зайдя в овин, расстелил ее на сушилах.
Уже гасла в омертвело недвижных тучах заря, наваливалась кромешная темь, и Афанасий не стал медлить: прикрыл дверь и улегся на свою отшельничью постель.
Но сон не брал его. Разрывали голову думы. Не меньше чем пол-Руси он проехал и прошел, а повсюду все та же беда – вопом вопит, кровью захлебывается, трупными червями кишит. Воистину, не скончание ли света? И чем укрепить измаянную душу? И почему не может уняться старая боль о своей сожженной свейскими грабителями под Колой семье, когда он изведал после того столько чужой боли, что она давно могла бы заслонить ту давнюю и уже как бы тоже чью-то, а не его собственную? Нет, видать, одна не может заслонить другую, они спекаются воедино и окалиной нарастают на сердце, тяжеля его.
Нещадна вражда. Но неужто неусмирима? Сами, же люди порождают ее себе на муки и погибель. Сами же! Безумство? Или так предопределено Богом? Что ж, пущай он карает греховников. А невинных-то пошто? Беспорочных-то за какую немилость? Им-то больше всех и достается… Может, бес проворней Бога? А, может, зло по временам уравновешивает себя с добром, жестокость с милосердием, а смута с покоем? И подошла как раз такая пора? Да ведь и у нее должна быть грань. Где ж она?
Вот уж никак не ожидал он злобства в уездном Арзамасе, куда подался с обездоленными смолянами. Правда, в слободке под самым городом прижившиеся там с начала лета беженцы повестили их об опасности, но смоляне, рассчитывая на права, данные Ляпуновым, не больно остереглись – пошли к городскому дубовому острогу в открытую. Все же на крайний случай недели, у кого была, кольчугу под одежду и нацепили сабли.
Знатная же им готовилась встреча! На широком зеленом долу по обе стороны дороги возник перед ними плотный строй насупленных стрельцов с рогатинами, бердышами и чеканами.
– Куды прете? – сердито заорали из строя, и смоляне остановились в замешательстве. Верно, жалкими и слабыми показались они стрельцам, усталые, запыленные, в залатанных кафтанах, с бедным скарбом и увечными на телегах. Стрельцы с самонадеянной ленцой шагнули вперед.
– По указу троеначальников, – выставился Кондратий Недовесков.
Но его сразу оборвали:
– У нас един начальник – стрелецкий голова Михайла Байкашин, ему и послушны.
– Кликните его сюда.
– Чего захотели! Так он и разлетелся… Поворачивай оглобли, сказано!
Кондратий сорвал с головы шапку и махнул ей, подавая своим знак. В единый миг развернулись бывалые вои в линию и выхватили из ножен клинки. Неустрашимо, отчаянно, как пристало ратникам, готовым на верную смерть, двинулись они широким твердым шагом. И эта безгласная, сомкнутая, словно ее сковали одной цепью, живая стена поколебала стрельцов. Только что перед ними была растерянная толпа, а теперь явилось грозное войско. Арзамасцы невольно отшатнулась. И когда стена приблизилась вплотную, в упор, они стали расступаться, а кое-кто поспешно попятился. Ловко выбитые саблями из рук, попадали на землю чеканы.
– Покажем Смоленску сноровку! – крикнул Недовесков.
И смоляне плашмя начали наносить удар за ударом. Несколько стрельцов упало со страху. Некоторые припустились к острожным воротам. Строй вовсе распался. Уклоняясь от ударов, один из арзамасцев покаянно завопил:
– Да уймитеся, бесы! Ишь и попугать нельзя!
Но смолян уже охватил боевой задор. Они напирали во всю мочь. И посрамленные стрельцы вконец перетрусили, бросились наутек. Смешавшись с ними, смоляне вбежали в острог.
Легкая победа не принесла радости. Смолян в Арзамасе утесняли, как могли. Все приходилось добывать через силу – и кров, и пропитание. Непросыхающий от возлияний косматый дьяк в Съезжей избе отводил скользкие глазки от Недовескова и угрюмо бурчал:
– Свалилися на нашу голову! Самим, чай, жрати нечего. А тут корми еще нищую ораву…
Собравшись в Нижний, Афанасий оставил Кондратию своего коня и половину денег. Благодарный Недовесков посетовал:
– Не продержимся мы тут долго. Арзамасские власти хвальбивы да бессовестны: насулили с испугу три короба, а содержат хуже, чем полотняников. Так-то ценят проливших кровь за отечество!.. Пришли-ка весточку из Нижнего. Коли явится там нужда в ратниках да будет доброе привечание – тронемся туда…
Удрученным и смятенным вышел кормщик из Арзамаса, но дорога успокоила его. Она тянулась вдоль чистых боров, приютных березовых рощ, духмяных полян с бокалдами стоялой воды, то желтея по обочинам шапками пижмы, то розовея от метелок иван-чая, выводила на распаханные увалы, где местами золотели еще стройные ряды невывезенных суслонов, напоминающих Афанасию по обриси лопарские вежи.
Он невольно сравнивал эти благодатные места со своими, что знал с детства, и от увиденной земной красы затосковал по северу, его вечно трепетавшим от ветра чешуйками-листьями хрупким березкам, бесконечным ягельникам, болотным зыбунам, светлооким озерцам, хрустящей гальке на берегах, могучим гранитным глыбам и даже назойливому комариному звону. Он будто въявь узрел непролазь цепкого багульника, диких оленей, переходящих вброд речку, высушенные солнцем до серебристого блеска тоневые избенки, стремительный ход червчато отливающей в потоке упругой семги, тоскливый крик беспокойных крачек, приливную с клочьями водорослей пенную волну, молочно-белое свечение пустынного моря, где вольготно тюленям и белухам и которое по-хозяйски бороздил его надежный карбас.
Изобилие жизни и многоликость ее восторгали Афанасия. И ни в чем он не испытывал нужды, лишь бы видеть и впитывать в себя всю добрую земную лепоту, движенья, запахи к краски естества, его непреклонную волю и жажду рождаться и рождать, расти и заполнять землю. И он уже было совсем забыл, что его обрекло на долгое странствие, зачем и куда ему надо спешить.
Разоренный починок, чья-то жестоко истерзанная доля воротили ему боль и печаль. Он не мог найти истоков людского озлобления и самоистребления, для него их просто не было, ибо земля щедро наделила людей всем для разумного и согласного житья. Пользоваться бы и оберегать…
Только перед самым рассветом Афанасий понудил себя заснуть.
Но с пробуждением снова явилось к нему смутное беспокойство. Сперва он подумал, что пробудил его воробьиный гвалт. Меж соломенной кровлей и задней стеной был виден узкий прогал, и воробьи, снаружи залетая под стреху, мельтешили в нем, копотно и галдежко устраиваясь на верхнем бревне, откуда сыпалась труха. Но миг спустя Афанасий расслышал смутный шум голосов.
Он вскочил с ложа и приник к двери. Сквозь щель в мутной пелене непогожего утра с чуть накрапывающим дождичком рассмотрел, что творилось на дворе.
Пестрое людское сборище походило на цыганский табор, сбивающийся у высокого пламени костра. Люди были одеты чудно – в разноцветные тряпицы, вывороченные мехом наружу шкуры, пятнисто крашеные сермяга. Один из них ягодой кормил медведя из рук. Другой отрешенно вертел колесико повешенного на грудь гудка, и тягучие стонущие звуки напоминали то гудение пчелиного роя, то натужное поскрипывание осей груженой телеги, едущей посередь широкого поля. Третий ловко метал вверх и тут же ловил несколько репин кряду.
«Да то ж скомрахи!» – догадался Афанасий и облегченно вздохнул. Он растворил дверь, без опаски пошел к костру.
На повернувшихся к нему ликах добрых двух десятков шутов тенью проскользнули настороженность и угроза. Но от костра по-козлиному скакнул к Афанасию потешный инородческого обличья малый в колпаке с бубенцами, глумливо пал ему в ноги.
– Большому боярину наше почтенье! И величанье!
И мигом все взметнулись, засвистали, похватали да напялили на себя уродливые личины, заиграли в гусли, домры и сурны, загремели в накры, окружили Афанасия пляшущим хороводом. Дрыгая ногами, они дурашливо кланялись ему. Афанасий попытался выйти из круга. Но не тут-то было. Цепко обхватили его руками, зашарили щекоча по одежде, не дали и шагу ступить. Так и стоял он недвижно, покуда враз не смолкла бесовская музыка и не рассыпался хоровод.
– Вы, ненароком, не с облак свалилися, оглашенные? – миролюбиво улыбнувшись, спросил Афанасий.
– Мы-та? – скривил хитрую, с вислыми усами рожу малый в гремучем колпаке. – Мы вси из уезду Казненного, из стана Спаленного, из деревни Разоренной.
– А в той деревеньке, – скороговорно подхватил другой потешник в долгой шляпе, увитой лентами и утыканной петушиными перьями, – без числа скотины и дичины: у баушки Василисы пятигодовалы крысы, у псаря Антошки три бешены кошки, у старосты Елизара дохлых куликов пара, заяц косой да еж босой, мышь бегуча да лягва летуча, а еще корова бура, да вот незадача – корова та дура!
И потешник-шпыня резво ударил в бубен, а потом, отбросив его и шляпу приятелям, подпрыгнул и прошелся колесом.
Детинушка, что кормил медведя из рук, вывел своего ученого зверя к Афанасию.
– А ну скажи болярину, Михайла Иваныч, кое место у тя порото.
Медведь, как бы стыдясь, угнул набок башку и принялся усердно потирать зад.
– Кажи таперича, сладко ли московским болярам под ляхом.
Зверюга обхватил лапами морду и жалостно зарыкал.
– Уважь, Михайла Иваныч, яви, ако доноси казачки на радостях плясати учнут, – возвысив голос, выкрикнул шутник и защелкал пальцами.
Пока медведь неуклюже топтался на месте, кормщик искоса посматривал на сошедшихся кучкой скоморохов. Приметил, что и они взглядывают на него и перемигиваются. И тут в груде сваленной у костра и с небрежением покрытой грязной рядниной рухляди его Зоркие глаза рассмотрели рукояти навязней и шестоперов, сабли в ножнах. Вовсе не скоморошья снасть.
Малый в колпаке отделился от других и пошел прямо на Афанасия. Лицо его было недобрым.
– Сказывай, странничек, пошто тут очутился? – будто на дознаний в губной избе, строго вопросил он.
– Ночевал вон в овине, – стараясь показаться беззаботным, ответил Афанасий.
– А куды путь держишь?
– Куды Бог приведет, навздогад.
– Не в Нижний ли? – впился глазами в кормщика мнимый скоморох. – Тут одна дорога – в Нижний.
– Вам-то кака печаль, куды бреду?
– Палкой подпоясамшись, на суму опираючись, – съязвил допытчик. – А чего ради?
– Погорелец яз, пристанища взыскую.
– Ой ли? Пропустя лето – да в лес по малину.
Их уже плотно обступила вся бродячая братия. Слушала, вникая в каждое слово.
– Кой мне прок на себя клепать?
– Да уж больно ты, дядя, важен. Тея потешают, а ты нос воротишь.
– Таков уж есмь.
– Отпустили бы мы тея с Богом, – с нарочитой душевностью вздохнул малый, – да сдается нам: не соглядатай ли ты? Уж не обессудь, соглядатаев мы, убоги людишки, не поваживаем.
Резко взбрякнули бубенцы на колпаке, когда малый кивнул головой братии. Чуть ли не вся ватага разом накинулась на Афанасия. Он поднатужился и распихал насевших на него. Но где уж одному управиться с двумя десятками! Хлесткие удары свалили его наземь. Нещадно избиваемый, он почел за лучшее прикинуться оглушенным и не шевелился.
– В овин его, робяты! – указал малый.
Афанасия за ноги поволокли через двор, втащили в овин, накрепко приперли дверь колом. Обтирая кровь с разбитого лица, он стал прислушиваться к голосам.
– Неси-ка головню от костра, живо!
– Никуда он не денется взаперти-то. Зря невинную душу загубим, есаул.
– Молчи! Без вины нонь никоторого нет.
– Вот вам крест, видал я его с Ляпуновым. Он в наших таборах был.
– Не то беда. А то, коли он нас в Нижнем застанет да выдаст.
– Донесет, не смолчит! И узников не вызволим, и самим голов не сносить.
– Чего толковать, давай головню!..
«Вот угораздило: одна, видать, нам стежка выпала, перехлестну лися! Верней верного, что под личинами скоморохов злодеи-казаки Заруцкого по наущению Марины посланы. Нипочем их нельзя упустить!» – соображал Афанасий, озираясь в полумраке. И вдруг уткнулся глазами в воробьиную прореху: непрочна, поди, в том месте кровля-то.
Он метнулся к задней стене, подпрыгнул, ухватился за верхнее бревно и, легко пробив головой и плечами подгнившую солому, перевалился наружу. Выручили его дремучие заросли конопли. Забравшись в них поглубже, Афанасий увидел, как яро занялся овин.
5
Поутру за столом в горнице прибавилось едоком: Кузьма приютил у себя соловецкого посланца. Они проговорили чуть ли не до третьих петухов, но, несмотря на бессонную ночь, вышли к столу со всеми.
Еда была обильной по-обеденному. Из одной широкой мисы ели жирную лапшу, закусывая мясным пирогом, за лапшой – разварного судака, за судаком – гречневую кашу, за кашей – молочный кисель, а под конец Татьяна Семеновна вынесла едокам жбан знаменитого в Нижнем напитка – бодрящего можжевелового кваса. Насытились впрок: предпраздничный день будет хлопотливым – едва ли кто поспеет к обеду.
Когда отложили ложки, Кузьма по обыкновению повел речь о неотложных хозяйственных нуждах:
– Без меня сёдни управляйтеся – у меня с Афанасием дело. Тебе, Сергей, нонь туго придется, торговля бойко пойдет: всем на праздник свежанина требуется. Рубщиков-те добавь, найми. Да сходи сперва на животинну бойню, догляди, чтоб убоину чисто пластали и без промешки в лавку везли. Вон Фотина с Нефедьем для пособления возьми. – И вдруг спохватился: – А Бессон куды запропал?
– В мыленке, чай, дрыхнет, – смущенно сказал Сергей, пряча глаза, словно нес вину за Бессона.
– Стара притча. И крепко налился?
– Лыка не вязал. Все про незнаемого нова дружка толковал, привесть к тебе хотел.
– Ведомы мне его дружки! Ты тормоши-ка озорника, будя ему прохлаждаться. Скажи, Кузьме-де теперь непристойно перед посадом за него ответствовать, пущай то сам раскумекает.
– Скажу.
– А у тебя, Танюша, небось, супрядки? Девок поболе собери, Настену позови.
– Уж гораздо научена, – с легкой досадой молвила Татьяна Семеновна и засмеялась. – В женски дела-то не мешался бы, староста. И девок, вишь, под свое начало поставить хошь.
– Ладно, ладно, – помягчел Кузьма от ее смеха. – То я к слову. Все кряду перебираю, чтоб не упустить чего…
Поманив за собой Фотинку и Огария, Кузьма вышел с ними на крыльцо.
– Воротишься с бойни, – велел он Фотинке, – ступай на Ильинску улицу, разыщи там ямского старосту Миколая Трифоныча, бей ему от меня челом да найми лошадей на три дни: пора нам твоего князя в Мугрееве проведать. Себе лошадку пригляди да гостю соловецкому, он нам впрок будет. Опосля праздников и тронемся…
Огарию же Кузьма поручил особое дело: тайно вызнать убежище ложных скоморохов, о которых его посчитал первым долгом известить кормщик.
У Съезжей избы в кремле, куда привел Кузьма Афанасия, они оказались не первыми. Тут уже роилось около десятка просителей: худородные дворянишки, дети боярские, служилый люд из уезда. У всякого свои хлопоты: кому жалованье надбавить, кому землицы прирезать, а кому тяжбу в свою пользу обратить. Сторожевой стрелец лениво прохаживался у крыльца, поглядывая на просителей строго и свысока. Никто не знал, когда пожелает объявиться всевластный дьяк Семенов.
– Староста, – окликнул Кузьму один из маявшихся тут посадских с большим кулем в руках, – ай вижу, ты без подношения. Не примет тебя дьяк.
– Полно-ка, – отшутился Кузьма. – На всяку яму не напасешься хламу.
– Ишь храбрый! А вдруг донесу? – подмигнул посадский и снова предупредил, словно считал Кузьму несведущим. – Пра, и слушать не будет задарма.
Но уж кому-кому, а Кузьме ли не знать о поборах? Про все хитрости ведал, иначе не слыл бы удачливым торговцем. Взятка была в обычае. А первым открыто брал сам воевода: ему полагались и «въезжие», когда он заступал на воеводство, и «праздничные», и «именинные», и на вседневные харчи, и на конский корм, и на пивные вари. Брали его родичи, брала вся дворня. Брали все от верха до низу. К последнему писарьку, да что там писарьку – к приказному истопнику не суйся без поминка. И всякому своя мера. Повелась такая зараза, не избавиться.
Кузьма посмурнел, отвернулся от посадского, но тот, не переставая, талдычил ему в спину:
– Надысь целовальник из Березополья наведывался, умолял отсрочить платежи со стану. Так он дьяку свину полть отвалил, кадушонку меду да десять алтын впридачу. Опричь того подьячим по три алтына роздал. А все мало: поскаредничал, вишь! Облаял его дьяк и правежом пригрозил…
Наконец появился Семенов. Важная осанка, дородность, строгий взгляд и брезгливо оттопыренная нижняя губа – во всем его облике была начальственная неприступность.
Он сразу углядел Кузьму и милостиво кивнул только ему одному: дворянишки давно опостылели – ничего, кроме мороки, с ними. Торговых же людей привечал – наибольший прибыток от них. Не теряя времени, Кузьма с Афанасием последовали за широченной тушей дьяка в избу. Миновали тусклую камору, заставленную сундуками и коробьями с бумагами, где подьячие и писцы выскочили из-за столов и угодливо склонились перед грозным руководом, прошли в отдельную комнату.
Комната, как знал Кузьма, предназначалась первому воеводе, а за отсутствием его – второму. Первого, Репнина, неотступно одолевали хвори. Второй же, Владимир Владимирович Оничков, спешно поставленный вслед за стольником Алексеем Михайловичем Львовым, сменившим Алябьева, но не захотевшим подчиниться изменной семибоярщине после свержения Шуйского, сюда не заглядывал, и все дела переложил на Семейова. В руках дьяка ныне был весь Нижний Новгород. И он правил, как хотел.
– Ну? – выдавил из себя Семенов, усевшись за воеводский стол.
Вначале Кузьма, а затем Афанасий кратко поведали ему о готовящемся побеге опасных узников и появлении в уезде разбойных скоморохов.
– Страшных слухов вдосталь ходит, – со снисходительностью всезная, коего ничем нельзя удивить, ответствовал дьяк. – Всему верить, ума лишишься. Эко дело скомрахи! Себя, чай, пужаете. Не обременить бы ся зряшной суетой. Так Заруцкого, глаголите, молодцы-то?
– Голову на плаху покладу, Заруцкого, – подтвердил Афанасий.
– То-то и оно-то, – стал вслух размышлять Семенов.
– А кто ж иной, коли не Заруцкий, Москву обложил? Кто, коли не оный, на ляпуновско место заступил да ляхов лупит? А ежели он возьмет стольную и ослобонит бояр! Что те думны бояры нам скажут: нижегородцы-де избавителю палки в колеса совали?
– Злодейски умыслы у Заруцкого. Кому не ведомо? Ермоген же в своей грамоте нас остерегает, – заметил Кузьма.
– А где в сей грамоте о Заруцком указано? О нем и не помянуто. Обаче чьим же полкам Ермоген собить призывает, нежели не его? Иных-то под Москвой нетути… Да и вельми путана грамота, спехом писана. Мне, право, вовсе невдомек, пошто нам други города возмущати, без них обходимся.
– Люди жать, а мы с поля бежать, – не скрыл досады Кузьма. Лицо его отчужденно закаменело.
Дьяк поднял на него насмешливые маслянистые глаза, посмотрел изучающе.
– Но-но! Тож мне Моисей со своими заповедями! Не заносися, умник, ведаешь, чай, куды пожаловал. Хвост голове не указ. – И, чуть приподнявшись, Семенов зычно позвал:
– Семка!
В дверях тут же показался расторопный посыльный, низко поклонился дьяку. От собачьего подобострастия в нем трепетала каждая жилка.
– Учись обхождению-то, – указал на него Кузьме Семенов, и велел посыльному: – Разыщи из стрелецких начальников, кто поблизости!
Пока томились в ожидании, дьяк не преминул выговорить Кузьме с укоризной, чуть ли не отеческой:
– Старостою избран, а почтенья не выказываешь. Другим повадно будет, на тебя глядючи. И без того тошнехонько. Кажинный день тут с бунташными дворянишками схватываюся. Не тебе ровня и похлеще чудят: чего, мол, ровно в осаде заперты, чего проминаемся? А я их – в шею, в шею!.. От тебя же стерпел дерзость, цени. Да токмо до разу стерпел. Так вот что лучше, Кузьма: заполдень не поленися – мне на двор мясца принеси. Да парного, смотри, с разбором!
Громыхая подкованными сапогами, вошел сотник Колзаков. Заведомо раздраженный. Он накануне уговорился с Биркиным засесть повечерь за карты, однако денег для игры у него не нашлось. Угнетенный этим, собирался сходить на торг, поживиться в лавках – не все могли устоять перед нахрапистым сотником, чтобы не дать ему в долг, а чаще без отдачи. Неурочный вызов к дьяку был для Колзакова совсем некстати.
Сотник мельком взглянул на Кузьму с Афанасием и с независимым видом вольно уселся на лавку. Невысокий, плотный, с ледяным недоверчивым взглядом, он бесстрастно выслушал Семенова, живо повернулся к Кузьме:
– Не сам ли ты, староста, все выдумал, а? Дабы вредный сполох, учинить? Знаю твою повадку. Не зря от тебя на посаде ропот. Грани не чуешь. Стрельцы мои и то пошумливают, в кулак сгребаю.
– Наставлял уж я его, – одобрил Колзакова дьяк. – Будет свое гнуть – зело проучим.
Но сотнику отнюдь не хотелось быть в согласии с дьяком. Злопамятным слыл. И не мог забыть, как тот прилюдно корил его в Спасском соборе за оплошку с шереметевскими мужиками. Нет бы втихую позорил, а то громогласно, под горячую руку. На весь Нижний звон тогда пошел: Колзаков, мол, лихоимец. С той поры иные торговцы знаться с ним не хотят, ни во что не ставят, а посадские даже и насмехались. Не обида ли?
– Коли ж верно все про скомрахов, – не глянув на дьяка, более миролюбиво заговорил сотник, – то страх напрасный: из кремля они никого не выведут, вороты перекроем. А на посады дозоры вышлю – доглядят.
– С Афанасием бы кого-нито, он мигом уличит, – посоветовал Кузьма.
– Пожалуй, – согласился Колзаков, уже тайно рассчитывая сорвать с Кузьмы куш. – К нему неотлучно Орютина с десятком приставим. Довольно, с лихвой будет. Не сотню ж наряжать курам на смех? Не дай Бог, кто проведает: на скомрахов, мол, стрельцы ополчилися. Стыду не оберешься. А и так, Кузьма, гораздо норовлю тебе. Семенов – свидетель.
И сотник, небрежно поклонившись дьяку, вышел.
– Ах сукин сын! – выбранился вслед ему Семенов. – Погодь, выведу тебя на чисту воду! – И заорал на Кузьму с Афанасием. – А вы чего торчите? Получили свое – ступайте. Неколи мне с вами баклуши бить!
У двери Кузьма обернулся, молвил с достоинством:
– За мясцом-то, Василий Иваныч, сам человека ко мне в лавку пришлешь. Невместно земскому старосте холопствовать. Мир осудит.
Дьяк от изумления раззявил рот.
Отойдя от избы, челобитчики натолкнулись на поджидавшего их Колзакова.
– Услуга за услугу, староста, – свойски заступив дорогу, сказал сотник.
– Какова ж цена? – без пререканий, но не пряча недовольства, спросил Кузьма.
– Алтын двадесять, а то и рупь.
Кузьма достал кошель, отсчитал деньги. И сотника словно ветром сдуло.
Афанасий молча положил руку на плечо Кузьмы. Они посмотрели друг на друга и усмехнулись.
– Порато ловки ж власти у вас, не приведи господи! – покачал головой кормщик.
6
Сентября в первый день, на Симеона-столпника, в Нижнем, как и всюду на Руси, справлялось новогодье. По обыкновению об эту пору стояла сухая солнечная погода, предвещая краткое «золотое лето», как в древности величали сентябрь-руень. В небесную голубень легко взмывал звон колоколов, разносясь за городские пределы, откуда ему откликались перезвоны отдаленных церквей. И хоть ненадолго, но все же тешила эта перекличка мнимой умиротворенностью.
После праздничного крестного шествия Нижний загулял. Шумные толпы перетекали по улицам, густели на зеленых окраинах, копились у Высоковской, рощи. Всюду поспевали мальчишки-лоточники со сластями, медовыми пряниками, печеным «хворостом» да «шишками», пирожками, колобушками, орехами. Четыре кабака – два в Нижнем посаде, один в Верхнем – напротив Дмитриевских ворот, еще один в ямской слободе на Ильинке – не вмещали весь жаждущий люд, потому временные алтынные стойки и винные палатки приманивали прочих неутоленных. Молодь держалась подале от злачных кружал, ей без них хватало забав. Да и к тому же пьянство у юных осуждалось, считалось вящей срамотой и неприличеством. Отроки затевали молодецкие игры и состязания: резались в лапту, вбивали в железное кольцо свайку, сшибали лодыги, учиняли великую кучу малу. Девки резвились по-своему: ловили мух и хоронили их, закапывая в ямки, водили певучие хороводы, качались на релях, бойко перешучивались, грызя орехи. Орехов в праздник нащелкивалось такое множество, что их шелуха прямо-таки сплошь усыпала улицы и еще долго после гуляний хрустела под ногами.
Зазывные громкие звуки сурн, свирелей, волынок, домр никому не давали впасть в уныние. Самые плотные толпы скапливались возле озороватых скоморохов-прибаутошников, метальников, лицедеев, кукольников. Тут ни на миг не смолкал веселый гомон. Во всю мочь старались распотешить честной люд и доморощенные нижегородские шутники, и пришлые забавники.
Но Афанасий с орютинскими стрельцами нигде не могли углядеть тех, кого искали. Напрасно они шатались по всем гульбищам, напрасно сбивали ноги – разбойная ватажка как в воду канула. Лишь на опушке Высоковской рощи стрельцы наткнулись на неведомо кем привязанного к березе медведя, которому шустрая ребятня скармливала яблоки и пряники.
Далеко за полдень взопревший Орютин, задержавшись у винной палатки, сказал Афанасию:
– Поищи-ка своих злыдней сам, дядя. А мы тута на привал встанем: не самы последни, чай, из крещеных – и нам пригубить винца с хлебцем не во грех… Углядишь – кликнешь.
С Афанасием остался только Якунка Ульянов, вдвоем они и продолжили розыск. Но их тоже вскоре приморило.
– Передохнем-ка, – предложил Якунка.
– И то правда, – смирился Афанасий.
Они уселись невдалеке от кремля на зеленом венце Егорьевой горы, откуда далеко была видна Волга и заволжские луговые низины, уставленные до окоема стогами. Солнце уже набухала багровым едком и стояло низко, высветляя сверкающую мелкими чешуйками волн реку и прихваченные первой осенней позолотой берега. Кончался день и, поглядывая на солнце, Афанасий с Якункой свыкались с мыслью о тщетности дальнейшего розыска.
Впору и приметил их Огарий, который, нигде не найдя дозорщиков, поспешал в подгорную стрелецкую слободу, где в бугре была изба Орютина.
Проворный малый уже успел обойти чуть ли не весь Нижний. Но и ему не везло. Напоследок он отправился в кремль, где сошелся с нищей братией у паперти Спасо-Преображенского собора: братия делила подаяния, собранные на празднике. Доподлинно зная ее нравы и увеселив нищих байками о знакомых ему московских юродах, про которых тут тоже были наслышаны, Огарий спустя каких-то полчаса был принят за своего. А вскоре он многое узнал о сатанинском притеснителе Митьке Косом, что повязал братию щедрым денежным вкладом и устрашал ворожейством, если она задумает изгнать его. Нищие поведали и о том, что юродивый Митька ныне ухоронил в подклете пустующего дома у церкви Жен-мироносиц над Почайной каких-то пришлых бродяг и якобы ночью собирается с ними вовсе уйти из Нижнего.
– Хучь бы где-нито прибрал господь вещуна окаянного! – потрясали грязными кулаками нищие.
Все, что узнал от них Огарий, он торопливо пересказал Афанасию с Якункой.
– А где Кузьма-то Минкч? – спросил Афанасий.
– Он на Муромском выезде у рогаток, в засаде с посадскими, – известил все ведающий малый.








