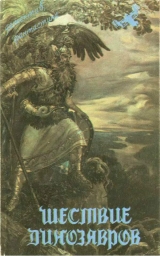
Текст книги "Купно за едино!"
Автор книги: Валерий Шамшурин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
– Дмитрия-то Михайловича? Да-авненько, – протянул Фотинка. – Еще о ту пору, как привезли его изранена в Троицку лавру на попечение мнихам-травникам? Князь, чуть отудобев, сам отпустил нас: идите, мол, нужды нет, не воевать, мол, уж мне, калеке…
– Гораздо поранен?
– Не мог головы поднять, тряслася у него голова. Черной ночью немочью занедужил. Да вот слыхали намеднись мы: полегчало будто ему.
– Где ж он ныне?
– В именьице своем Мугрееве, рукой подать отсель…
Не дав им договорить, во двор влетела растрепанная баба, бухнулась на колени перед Кузьмой.
– Родимец, выручи ради Бога!
– Приключил ось-то что?
– Коровушка моя…
– Ну, Матрена, с коровушкой опосля. Недосуг, вишь, мне.
– Побойся Бога – недосуг! Коровушка моя…
– Ладно, – сдался Кузьма, видя, что не отделаться ему от бабы. – Сказывай.
Баба мигом успокоилась, поднялась с колен, поправила сбившийся плат на голове.
– Минич, ты, чай, лучше мово в скотине разумешь. Купила я коровушку, поить принялась. А она, бездонная, пьет и пьет, две бадьи уж выхлестала – мало. Не порчена ли? Купила-то не на торгу, у проходящих мужиков. Боле рубля отдала да еще едова всякого в придачу…
– Вволю пьет, в охотку?
– В охотку, в охотку.
– Пошто ж ты сполох учиняешь? Радуйся. Корова ежели пьет в охотку – удоиста. Верная примета.
– Бог тебя не обойдет милостью, Минич. Перва сметанка твоя!..
– Иди, иди, люди у меня, – строго сказал Кузьма.
Бабу только и видели. Огарий ее преминул уколоть Фотинку.
– Коровушка сия не родня ли ти?
– Отвяжися, бес! – отдернулся от него Фотинка и, густо покраснев, спросил Кузьму: – Дядя, Настенка-то, что в межах с тобой, чья она?
– Нова оказия! – вздернул брови Кузьма. – Наш пострел везде поспел… Сирота Настена-то, у бобыля Гаврюхи приемно ютится. Смотри, не вздумай забижать ее, Фотин! Мне Настена будто дочь родна.
С крыльца уже подзывала заждавшаяся Татьяна Семеновна:
– Робятушки, пожалуйте к столу.
– Ступайте, ступайте, – поторопил их Кузьма. – Хозяйка у меня строга, другой раз кликать не станет. А я скоро вслед за вами, приберу вот малость. После дотолкуем…
И Кузьма, глубоко задумавшись, взялся за вилы.
Всяк в то тихое предвечерье помышлял о своем. У кого мысли были легкие, как у Фотинки, а у кого опасные, докучливые, теребливые, с далеким заглядом. Совсем вблизи от мининского подворья стряпчий Иван Биркин холодными ласканиями домогался у радушной вдовицы денег на тайную поездку к Пожарскому. А в острожном узилище потаенный сиделец состарившийся католик отец Мело с непреходящим упорством думал о побеге. Всяк ждал своего часа.
Глава четвертая
Год 1611. Первоосенье. (Нижний Новгород. Арзамас. Мугреево)
1
Земщину ввел на Руси Иван Грозный. Отменив кормленщиков. И не великое ликование по случаю долгожданной победы над упрямой Казанью побудило его к тому, как говаривали некоторые, а нужда неотложная, вящая. Государева казна требовала на укрепление войска прибытка надежного и полного. Насылаемые же из Москвы по городам наместники и волостели, попеременно управлявшие отданными им на кормление землями, помышляли только о своей выгоде и так распоясывались, что черный люд терпел от них не меньше, чем в давние лета от ордынского ига. Верные холопы управителей – тиуны да праветчики – почем зря драли с людишек три шкуры, множа поборы и творя неправый суд. Тяжбам и жалобам не было краю. Царь, тогда еще внимавший по молодости советам своих хитромудрых наставителей, единым махом разрубил тугой гордиев узел. Он замерил самовольные наместничьи обложения государевым оброком, указал собирать его земскому миру, для чего повелел «во всех городех и волостех учинити старост излюбленных».
Однако царево благо мало утешило тяглецов. Повинности были все те же, только за них под строгим надзором и опекой государевых приказных и воеводских властей стали нести ответ сами тяглецы, связанные круговой порукой земской общины во всех посадах, станах, волостях и слободах. Оттого избираемый ка сходах «излюбленный» староста оказался прямым посредником между земским миром и властями.
Как и в других русских городах, у старосты посада в Нижнем было больше хлопот, чем почета. Ему безвозмездно приходилось тащить тяжеленную мирскую ношу. Староста собирал тягло, вел учет приходам и расходам, заботился о достаточном харче для воеводского двора, наполнял подможную коробью на земские нужды, а помимо того дозирал за благоустроением на торгу и посаде, налаживал пожарный надзор, ходатайствовал по мирским челобитным, отряжал людей на общинные работы, вызнавал неплательщиков и недоимщиков, пресекал татьбу и драки, искоренял скрытное корчмщиничество, пособлял сыску беглых, устраивая с приставами и понятыми подворные обходы, а при надобности выставляя на ночь палочные караулы. Словом, лямка у старосты была туже некуда.
Бывали случаи, что старосты оказывались лихими мздоимцами и вымогателями, ухитряясь поживиться за мирской счет. Либо же, напротив, забрасывали за недосугом свое хозяйство, доплачивали недоимки из своей мошны и разорялись вчистую. Второе случалось чаще. И потому земский мир старался выбирать в старосты мало того что пристойною, честною, обходительного и всеми почитаемого человека, но и сметливого, бережливого, оборотистого и грамотною рачителя с достатком, умеющего постоять за других, как за себя. Мир не хотел покладистого угодника – спесивец ему тоже был не нужен, не почиталась набожная смиренность – и буяна никто не желал, не подходил молчун-угрюмец – не был мил и удалец-гуляка. Ценился нрав добрый, ровный да остойчивый. Почитался такой верховод, чтоб на чужое не зарился, но и своим не поступался.
Привередлив, разборчив был мир, зато многого стоило его доверие: ежели какая поруха или немилость – вызволит, стеной за своею избранника встанет, перед самим воеводой не склонится, И хоть невмоготу порой приходилось старосте честно блюсти все обычаи да наказы, отстаивать мирские права перед властями, однако голову высоко держал, всегда помнил: дорога оказанная ему честь.
На Нижнем посаде старост провозглашали только из торговых людей, ибо торгом держался посад, а потому и вести дела торговым людям тут было сподручнее. Кто более расторопен, сведущ и надежен, как не они? У купца вовсе не дармовой почет.
По всей Руси славились купеческие имена. В народе знали, что торговля – промысел куда как рисковый и под силу он зело умелым да тороватым. Иным же и тщиться нечего – в ущерб выйдет. Купец, толкуют, что стрелец: попал – так с полем, а не попал – так заряд пропал! Без смекалки и хватки купцу шагу не ступить. И повсюду он в первых людях.
Не зря самые проворные из купцов в чужих землях миротворствовали допрежь именитых посольств. Кому не памятен, к слову, почтенный тверской землепроходец Афанасий Никитин? От нижегородских причалов пролег путь его суденышек в далекую сказочную Индию. Куда ни поверни лик – во все стороны хаживали русские торговые люди. Чуть ли не на самом краю света зарубки оставляли, ими вон и запредельная Мангазея ставлена. Не родовитость купца поднимала – благодетельство. И всяк слышал, как торговые люди честью дорожат, как промеж себя рассуждают, что правда, мол, – кус купленный, а неправда – краденый. Ежели кто нечист на руку – позора не избежит, суда мирского не минует, а где позор – там разор да изгнание прочим мошенникам в науку. В скученных же посадах всяк человек, словно на длани. И о всяком тут ведают не с чужих слов. Что же говорить о нижегородском торге, где люди раскланиваются друг с другом чуть ли не ежедень! Тут уж со старостой промашек никак не могло быть. А посему всякий раз выбор падал на самого достойного из лучших людей.
Мир крепко держался своего установления самому выбирать старосту и не допускал посягательного вмешательства воеводы и приказных чинов. Правда, ничьими советами не гнушался. Но никого ему нельзя было навязать силком и тем опорочить мирской выбор. Так повелось изначально, так вершилось повсеместно.
Сами же выборы старосты и всех земских исполнителей – целовальников, окладчиков, сборщиков, приставов-десятских, что надзирали за своими десятнями, на которые были поделены посады, – обычно приходились на Новый год, начинавшийся первого сентября. К урочному сроку, как водится, все уже было прикинуто да обтолковано, и на сходах выборщиков редко возникал разлад.
Единодушия выборщики чаяли и на сей раз.
2
Слух о желании посадских избрать своим старостой Кузьму Минича не был досужей байкой. Доброй славой Кузьма пользовался и на торгу, и среди тех, кто был с ним в походах. И слух тот усилился после одного примечательного случая, весть о котором содруженики Кузьмы с воодушевлением разнесли по дворам Нижнего посада.
Приключилось то ввечеру, когда Кузьма и Фотин, позванные по-соседски бобылем Гаврюхой на толоку, вместе с другими гаврюхиными помощниками благополучно завершили работу. Дело для сноровистых рук было нехитрое. Резво раскатали осевший сруб бобыльей избенки, заменили три нижних гнилых венца на крепкие – из свежего лесу, собрали строение наново, как и было, в обло и навели стропила. Прочее оставили на долю самого хозяина: утлая избенка без подклета уже не требовала сторонних усилий.
В ожидании угощения, – стерляжьей ухи, которую на костерке готовила Настена, работники уселись на старые бревна. Помимо Кузьмы с племянником, были тут посадские мужики Потешка Павлов да Степка Водолеев, мелкий рыботорговец Демка Куминов, а также стрелецкий десятник Иван Орютин да стрелец Якунка Ульянов, с коими бобыль свёл дружбу еще в муромском походе, и вездесущий старик Подеев – коренной нижегородский народ, свойский.
Довольный успешным завершением дела, Гаврюха от души потчевал приятелей бражкой, обходя каждого с деревянным ковшом.
Но питье не занимало посадских, они налаживались на разговор с Кузьмой о его затее скликать вселюдское ополчение. Конечно, лестно им было, что Минич не погнушался их кругом, но больше допекала всех одна мысль: пристало ли посадским людишкам выставляться, коли на то знатные да служилые есть?
Никакой важный разговор не заводился впрямую, приличествовало подбираться к нему исподволь. Обычай и теперь не был нарушен. Считавший себя на толоке вторым после Кузьмы, Иван Орютин, наблюдая, как Настена бережливо сыплет соль в уху, словно бы невзначай, но с явным умыслом выбраться на главную колею, подкинул Кузьме совсем немудреную загадку:
– Что благо: недосол аль пересол?
– Мера, – пытливо глянул на Орютина Кузьма.
– А как мерить? – с вызовом вскинул кудлатую бородку десятник. – Что одному солоно, другому пресно. У каждого, чай, своя мера. Равного ни в чем нет. Поелику в равном – вред и пагуба.
– По-твоему выходит, кажный токо за свое ревнует? Инако не быть? – угадав, куда нацелился Орютин, и заступно упреждая ответ Кузьмы, спросил Водолеев, рослый волосатый мужик из честных бедняков-оханщиков, не единожды битый на правежах.
– Вестимо. Уготовано эдак. Ужель, к слову, стрельцы тяглецам ровня?
– Тож бояры, – набычился Водолеев. – Неча вам с нами делить, неча и меряться…
– А скажи-ка, Кузьма Минич, прибыльно ли ноне соль добывать? – напористо влез в разговор простоватый, но до крайности самолюбивый Куминов, который не переносил никакого мудрствования, а потому, раз было упомянуто о посоле, захотел перетолковать и про саму соль:
– Кому как, – в задумчивости обратился Кузьма вовсе не к Демке, а к Орютину. – Кому река – по брюхо, а кому – по уши. Да не по своему росту глубь реки меряют.
– Так я ж не про реку тебя! – в недоумении подосадовал Куминов, не дав другим рта раскрыть. – Накладно, слышь, соляные места сыскать?
– Соляные? – улыбнулся Кузьма, видя, что ему не отвязаться от упрямца. – На то верные приметы есть. Вот и Фотин их, небось, знает, даром что, ак и я, балахонец. – И тут же окликнул Фотинку, что торчал у костерка подле Настены. – Эй, красный молодец, поведай, где соль водится!
– Дак проще простого, – деловитым баском отозвался Фотинка, пытаясь всем видом показать, что приглядывал за костром, а не за девкой. – Избирай, вишь, мелкий ельник, а то березник, низи да болотца. За скотиною примечай: повадливы коровы да овцы солену земельку лизать. Берешь оттоль глину – и на огонь: потрескиват – стал быть, соль в ей. По ручьям тож гляди, по проточинам – у соляных-то на бережках белесо, что иней лег. Да и соляной дух пахуч – нюхом учуешь.
Мужики насупились, потеряв охоту к разговору. Сбил их с панталыку Куминов своей солью. Не зря прозван благонравным. Все на обыденное сведет зануда, на суетное. Лучше уж переждать, когда уймется, а то сызнова испортит затеянную изначально беседу.
Нахлебавшись духовитой и жирной ухи, посадские все же смогли вернуться к спору. Благо, Демка не мешал, сыто задремывая на травке.
– Стрельцам о всяку пору сносно: получил жалованное да прокорм – и в ус не дуй, – завел на сей раз Водолеев.
– Вота они и кобенятся.
– Не скажи, – уже без прежнего пыла возразил отяжелевший от еды Орютин. – Служба у нас собачья. А жалованья, сколь помню, николи в срок не получали. Торговлишкой да огородами держимся. И заслуги наши не в зачет. Я вот допрежь одиннадцать годов на посылках да в объездах, да в дозорах, да на стенной сторожбе, да в карауле у Съезжей воеводской избы, да в походах на воров в простых стрельцах маялся. Помыкали мною кому не лень. А что выслужил? Каки права?
– Нонь сам другими помыкаешь. – То-то вознесся!
– Да погодь ты, – слегка осерчал Орютин. – Я к тому, что нет у нас своей воли, службой повязаны. Укажут начальные: «Стой!» – стоим. Укажут: «Ступай!» – тронемся. А коль всполошится посад – что будет? Бунт. Самочинство. Како тут с вами сплоченье? Вас же и усмирять пойдем.
– Не все у нас схоже мыслят, – вперекор старшому внезапно подал голос Якунка Ульянов. – Смута водится и середь нашего брата. Верно, ины носом в свои огородишки уткнулися и ублажены. Воевода, вишь, дремлет – им тож поблажка. Ан не все так-то. Чего таишь, Иване? – осмелев, качнулся он к Орютину. – Драчка и промеж нами затевается, уж и бердышами махалися.
– Кто махался, тот в яму под Съезжу избу посажен. И ты, знать, хошь? – строго свел брови Орютин.
– Баяли калики перехожие, что-де в Арзамасе поколотили стрельцов пришлые, – вклинился прибиравший за едоками Гаврюха. – За пахотных мужиков вступилися стрельцы да боком им вышла заступа.
– Слыхал и я о том, – мрачно сутулясь на бревнах, подтвердил Потешка Павлов. – Смоленских битых дворян подмосковны троеначальники там землею наделили. Да землею-то занятой. Впервой ли таки сшибки, раз кругом нескладуха? Одни по грамоте Шуйского сели на поместье, друга в тое наделы по указу расстригиному заявилися – первых поперли, а на расстригиных-то уж третьи навалилися – им семибоярье все тую ж землицу отказало, а тут и четвертые ровно с небушка свалилися – присланы от троеначальников. И ну друг дружку выпихивать. Да Бог с ними, с дворянами! Мужикам-то каково? Что ни господин, то новый кнут: паши, мол, на меня, а не на прежнего! Несусветна морока.
– Дождемся и мы медовых пряников, с нашим убогим воеводой хлебнем лиха, – бойко предрек Водолеев. – Да мне-то терять неча, окромя худых порток. А задница к батогам обыкла.
– Еще хошь? Гляжу, прытко набиваешься, – со злым хохотком подтрунил Орютин.
– За грехи господь насылает, – молвил Павлов.
– За каки таки грехи? – подивился Водолеев. – Ладно, на меня за огурство: от платежей по бедности уклоняюся. А на тя за покорство нешто? Врешь, рабья дудка!
– Терпеть – не воевати, – вздохнул Гаврюха, и не понять было, на чьей он стороне.
– С лихвой терпим. Сидим по норам, трясемся от страху: авось, пронесет!
– А где силу взять? Ты ль ее дашь? – все еще не уняв хохоток, вопросил Орютин.
– Единитися надоть, сказано же!
– Единилися худы порты с сафьяном!
– Встречь прорывной воды не выгрести, – изрек, поддакивая Орютину, Павлов.
– Не мы в смуте повинны, не нам ее и унимать, – поднялся с бревен десятник, напоказ позевывая и кончая спор в свою пользу. – Нижнему, чай, покуда она не грозит!
Но старик Подеев осадил десятника. Он встал насупротив него с побелевшим суровым лицом, ткнул Орютина в грудь трясущимся корявым перстом.
– Неуж не смыслите, мякинны головы, неуж докумекати обузно: не подымемся – на Москве альбо Жигимонт сядет, аль маринкин змееныш, что душегубом Заруцким приласкан? А Заруцкий с ляхами едина стахь. Им все на поругание отдати? Им? Злыдням?! Видать, честь-то ваша грязна да латана. Эк ты, Орютин, како утешил! И доволен дурью своей, Не поставим свово царя на Москве – не быть усмирению, а не будет усмирения – не быть Руси. Всяку она, аки тебе, Ванька, чужа станет. Что ляхам, что свеям, что нам – однова: не жаль и не свято. Дворы – на разор, жонки – на блуд, вера – на посмех! Того дожидаться? Леший с вами, дожидайтеся, а я, седоглавый, к Миничу пристану.
Все вдруг спохватились, что за жаркой перепалкой напрочь забыли о Кузьме, от которого и хотели услышать сокровенное слово. Но Кузьма осмотрительно не стал вступать в перекоры. Подобные стычки случались на посаде ежедень, однако, накалив страсти, заканчивались впустую.
Кузьма спокойно перенял устремленные на него вопрошающие взгляды и хотел было податься навстречу шагнувшему к нему великодушному старику, однако остался на месте. Насмешливый возглас Орютина удержал его.
– Что, не сам-друг ли Москву вызволить приметеся?
В ином месте десятник ни за что бы не стал так наскакивать на Кузьму – сущее неприличество, но тут, в своем кругу, не принято было чиниться. Все же Орютин хватил через край со своей грубой прямотою, и посадские посмотрели на него неодобрительно.
Собираясь с мыслями, Кузьма неспешно извлек из бороды застрявшее там мелкое колечко стружки, размял пальцами. Все в напряжении ждали, что он скажет.
– Глаголил ты, – напомнил Кузьма недавнее суждение десятнику, – де не нам за чужи вины ответствовать, коль смута не нами заваривалася. Ладно, не нами, да ведь не без нас. Каковы сами, таковы и сани.
– Полно-ка, – не согласился Орютин.
– Скажи, не мы ль царю Борису по охоте присягали? А опосля тож не мы ль его поносили?
– Еще кака хула была! – неведомо чему обрадовался Водолеев, презирающий всякую власть, чем-либо досадившую ему.
– Погоди, – строго пресек его Минин. – Не до потехи, чай, тут. – И продолжал ровно. – Верно, могли с Годуновым обмануться: на веру приняли, что он малого царевича загубил. А дале-то кого замест вознесли? Уже подлинного цареубийца, по наущению коего невинный сын Борисов Федор удавлен был. Ничо, смирилися с той кровью, простили и самозванцу, и себе ее. Душа не дрогнула. Греха тяжкого не приметили. А уж Шуйскому повадно было чужой кровушки не щадить, сошло с рук. И еще в тую пору не раскумекавши, вора ли он, царска ли отпрыска сменил, – крест мы ему, Василию, истово целовали. Минул срок – охаяли и Шуйского. Поделом? Навроде, так. А что от того стал оса? Стоим уже не верим – из чужих выбрать норовим. Владислава вон на престол ждем, на ляхов уповаючи.
– Не по нашей воле цари ставятся, не по нашей и сметаются, – хмуро бросил Орютин.
– По чьей же? – отошел от костра Минин и встал возле десятника.
– Знамо, по боярской.
– Где она ныне, боярска-то воля, коли бояря под ляхом очутилася? – с еще неунявшимся возбуждением возразил Орюгану Подеев.
– Не по боярской, так по божьей, – отмахнулся в сердцах десятник, не желавший ломать голову над тем, что было ему не по разумению и не по чину. Хоть и уважал он Кузьму, но считал его замышленье о сборе и снаряжении с посадской помощью войска напрасной затеей. Как протопопу Савве, так и Орютину – и не одним только им в Нижнем Новгороде, – претила сама мысль о самовольном ополчении без всякого указания свыше.
Кузьма понимал, каких душевных сил ему будет стоить преодоление наставляемых перед ним всяких рогаток.
– По божьей, молвишь? – провел он рукой по бороде, остро глянув на десятника. – Кабы по единой по ей. Печаль така, что не от Москве мы – от самих себя уж отступаемся. С ложью-то, о коей и говорил, свыклися, ровно жена она. Вырезываем чирьи да вставляем болячки. И тако будет, покуда за ум не возьмемся и единую волю не явим. Кто же, окромя нас, царя нам может поставить? Мы – последни ряды, последки крепко стоим, а за нами уже никого. За нами – край. Нешто не виноваты станем, коли сробеем и зло добром посчитаем, а неволю благодеянием? Бесчестье не дает сил, и крепких духом, что младенцев, оно валит…
Нет, не доходили слова Кузьмы до сердца Орютина, который внимал им с отчужденным бесстрастием.
Взбудораженный, с разгоряченным лицом Якунка поднялся с бревен, намереваясь поддержать Кузьму, но не успел раскрыть рта, как вблизи послышался негромкий перестук копыт, и все изумленно уставились на въехавшего во двор Родиона Мосеева. Конь его был так измотан, что пошатывался, и тяжело ткнулся мордой в грудь Кузьмы, не в силах уклониться. Не меньше коня измученный Родион с вялым усилием перекинул ногу через седло и рухнул бы на землю, если бы не подхватили его мужики.
– Грамоту возьми, за пазухой она, – сдавленно прохрипел Кузьме Родион. И тут же прилег на траву у бревен.
Посадские сгрудились вокруг Кузьмы, с нетерпением заглядывая в небольшой свиток, который он развернул.
– Чти! Да чти ж, не томи! – не выдержал Водолеев.
– «Благословение архимандритам, – начал медленно читать Кузьма пресекающимся голосом, – и игуменам, и протопопам, и всему святому собору, и воеводам, и дьякам, и дворянам, и детям боярским, и всему миру от патриарха Ермогена Московского и всея Руси – мир вам и прощение, и разрешение. Да писать бы вам из Нижнего…»
Кузьма замолчал – сдавило горло. И он молча стал пробегать грамоту глазами. Все напряженно ждали. По лицу Подеева текли счастливые слезы.
– Куды писать-то? – спросил наконец Орютин.
– И в Казань, и в Вологду, – выдавливал из себя по слову Кузьма, – и к рязанцам, к в подмосковные полки…
– Батюшки-свет! – сияя, воскликнул старик Подеев.
– Чрез нас со всею землею русской сносится Ермоген. Едина мы его надея! Чрез нас!..
– Чтоб стояли крепко о вере, – продолжал Кузьма, все еще справляясь с волнением. – Чтоб на царство Маринкина сына не призывали… Чтоб имели чистоту душевную и братство…
– Не, теперя никому не отпереться! – потряс вскинутым кулаком вовсе осмелевший Якунка. – Супротив Ермогена не повякашь! Грамота его нонь что царская, коль царя нету!
– По-твоему вышло, Минич, по-твоему, – ликовал Подсев. – Слышь, чай: братство!
– На словах еще велел передать мне владыко, – донесся сзади хриплый голос до мужиков, и они увидели, что Родион уже встал с травы и сидит на бревнах. – На словах велел передать: нижегородцам-де верит накрепко, им судить доверяет по своему разумению, им о сплоченье потщиться наказывает.
– Да коим же кудеством ты проник к Ермогену? – не мог скрыть удивления Орютин, оглядывая тщедушного и мелковатого, в драной крашеной сермяге Мосеева, который никак не походил на бесстрашного удальца.
– С хлебным обозом, что к ляхам в Кремль въезжал, проник. Обозных мужиков улестил, взяли, я с ними за обозника и сошел… А уйти тож добры люди пособили. Федор Иваныч Шереметев, боярин, с дворнею. Я ж в его войске из Свияжска-то в Нижний пришел, еще когда то было. Он и приметь меня в Кремле, вспомнил да чрез боярина другого думного, Воротынского, тайно с Ермогеном свел… А Ермоген-то уж меня знает. Токмо бы молчать вам о том, робята… Неровен час…
Гаврюха подал Мосееву остатки ухи и ломоть хлеба. Тот жадно припал к еде. Острые скулы так и заходили ходуном.
– Слышь, Родя, – склонился над ним Кузьма. – Не посетуй уж, что сызнова потороплю. Ты юнец – на тебе и обуза вся. Грамоту Феодосию в Печоры в силах ли отвезть? Без промешки бы гораздо было. Ему-то в перву голову она писана.
– Отвезу, – мотнул головой Мосеев.
– Ну-ка, Фотин, – позвал Кузьма племянника. – Живо к моему двору, седлай гнедого. Да веди сюда.
– Мы с Якункой проводим Родиона до Печер, кони при нас, чай, – вызвался заугрюмевший после обличений Подеева, но теперь воспрявший Орютин. – Вороты расколотим, а у Феодосия он будет.
– Дело! – одобрил Кузьма. Глаза его жарко поблескивали.
Водолеева до того захлестнуло возбуждение, что он не находил места, ему даже от радости что-то учудить захотелось. Он подскочил к безмятежно спящему Демке и принялся травинкой щекотать у него в носу. Куминов громко чихнул и пробудился. Первым, кого он узрел спросонья, был Кузьма.
– Ну не диво ли, что мне привиделось? – сладко зевнув, сказал ему Куминов. – Будто я на соли самих Строгановых переплюнул, небывалый барыш ухватил.
– Сон в руку, – стараясь не рассмеяться, вымолвил Кузьма. За его спиной захохотали без удержу.
3
Утро выдалось смурым, дождливым. Над замутневшей Волгой то ли свивались, то ли рассеивались клочкастые, истемна пепельные тучи. И хоть не силен был дождь, но уже не по-летнему нуден и буслив. Потому на улицу без особой нужды никого не тянуло, всяк находил работу на дому.
Однако Земская изба, что стояла под горой напротив церкви Николы на торгу, через дорогу от нее, была набита до отказа. На сход, куда по обычаю собирались только назначенные по мирскому доверию выборщики, человек двадцать, большей частью люди известные и видные, стянулись на сей раз самовольно и многие посадские жители. Накрывшись рогожами, они толпились под окнами, облепляли крыльцо. Из-за пасмури в избе пришлось зажечь свечи.
Главенствовал у выборщиков тороватый рыботорговец Михайла Спирин, чьими прорезями и садками на торгу по устью Почайны и даже повдоль волжского бечевника было занято чуть ли не четверть версты. Его рыбные ловы находились на Стрелице, у Козина и по Оке – у Горбатова, но самая ценная добыча – отборная красная рыба – доставлялась с низов, от самой Астрахани, где загружалась в струги. Правда, в последние лета никакой рыбы оттуда не прибывало – смута перекрыла путь, и купец терпел большие убытки. Однако и без того мало кто мог потягаться со Спириным по Доходам. И молодость не помешала ему выбиться в купеческие верха, ибо наловчился вести всякое дело удачливо и с размахом, был расчетлив, но не скуп, любил рисковать, если риск сулил крупную выгоду. Старые купцы чуть ли не молились на Спирина, с одобрением поглядывая, как он смело и круто разворачивается, привлекая к себе промысловый люд умной рачительностью и заботой и с мягкой наступчивостью сильного зверя тесня торговую мелкоту.
Дождавшись, когда выборщики расселись по лавкам, Спирин резво поднялся из-за стола, сдвинул шандал в сторону, ближе к подьячему, который уже опробывал очиненное перо на бумаге, с ооезоруживающей прямотой молвил:
– Слышите: гудут людишки околь избы-то? А что гудут? А то, что мы ноне должны порешить, аки никогда досель, верней верного. Выбор же их един. И пал он на достойного нашего содруженика прасола Кузьму Минича. Я тож за него.
Выборщики задвигались, зашушукались. Спирин, весело поглядывая на них, охватистой ладонью провел по бородке и щелчком сбил приставший к рукаву таусинного кафтана волосок.
– В ину пору покладистей бы кого присоветовал. Вон хотя Федора Маркова. Чем не гож? Ноне нет. Ноне человек норовистый надобен, несломимый. И на весь город, на оба посада. Нам, торговым людям, в доброй огороже – нужда великая. Государевы-то силы в расстройстве. И на кого нам опираться, опричь посадских при крепком старосте? Ведаю я и о том, что Кузьма Минич затевает сбор денежный на ратно нижегородское устроение? Так ли, Кузьма?
– Верно, – отозвался Кузьма с лавки.
– Разумно то. Впрок нам будет укрепиться. Глядишь, и по Волге свои дозоры выставим. Други города сговорим. Избавим Волгу от разбоя. А торговы люди повсель на свое сбереженье с охотою раскошелятся. Григорий Леонтьевич Микитников из Ярославля помощь, сулил. Я денег дам.
– Москва избавленья ждет, – встал с лавки Кузьма.
– Дойдет черед и до Москвы, – махнул рукой Спирин, заставляя Кузьму сесть. Но тот не подчинился.
– От Ермогена грамота доставлена. С благословением его.
– Не враки ли? – усомнился Спирин, хотя уже слышал о той грамоте.
– Сам первый чел, – развеял сомнение Кузьма.
– Видать, сам и сподобился с Ермогеном снестись? – высказал догадку Спирин, зная, что ни воеводе, ни Феодосию такое бы не пришло в голову: они не помышляли нарушать покой в Нижнем.
– С посада к нему наш посланец ездил, рискнул.
– Гораздый зачин! – поразился Спирин, любивший не только в себе, но и в других дерзновение. – Да подымем ли?
Он потер лоб, быстро соображая. Любая преграда вызывала у него неодолимое желание своротить ее. И еще его прельщало то, что задуманное дело может зело оживить торговлю, которая все больше приходила в упадок. Первоначальные убытки с лихвой могут покрыться обильной прибылью. Войску многое потребуется. Кто оплошист – потеряет, а кто ловок – поживится. Ныне же всем худо. И если дальше пребывать в недвижности, будет еще хуже. Не то ли самое на уме и у смекалистого Кузьмы?
Все напряженно молчали, ожидая разумного слова Спирина. Наконец он заговорил:
– Кажный свою корысть имеет. Бояре за вотчины держатся. Служилые дворяне за поместья воюют, не дай им поместья – побросают сабли. Монастырям тарханы дороги, за них цепляются. Ан и выходит, что токмо торговым людям все государство надобно. Поелику их корысть – вольная торговля в нем. Порушено государство – поруха и торговле… Кому ж за него в перву голову радети, коли не нам? Кабы потрясти мошною-то, потужиться.
– Накладно ить, – подал голос приятель Спирина Самойла Богомолов, тоже известный в Нижнем торговец. – Рать огромадную снаряжать доведется. На обереженье-то еще куды ни шло…
– Поразмыслим, пораскумекаем, – снова потер лоб Спирин. – А попытка – не пытка. Коли у Кузьмы Минича заладится – отчего не пособить?
– Скудоумие нас и губит, – все еще не садясь, сухо промолвил Кузьма. – Малое жалеем, а великое теряем.
– Правда твоя, Кузьма Минич, – усмотрел в словах Кузьмы согласие со своими мыслями рисковый Спирин. – Верю я тебе! Ты от лавчонки худой поднялся, к достатку пришел. Не чужими – своими руками. Ноне и лавка ему, – обратился он ко всем, – лавка ему о четыре-пять створов пристала. А, чай, нажитым готов поступиться, за всех готов порадеть, аки потщился для Нижнего получить ермогеново благословление. Нам ли не в угоду? Судите теперь, быть Кузьме Миничу старостой аль не быть. Я на своем поставил. А ты, Самойла?
– Так и быть, – не без колебания выговорил Богомолов.
– Ты, Оникей Васильев?
– За Кузьму Минича, – твердо сказал кабатчик, как никто знавший помыслы посадских мужиков.
– Вы, Юрий и Матвей Петровы?
– За Минина, – согласно молвили строгановские приказчики-братья, ведающие соляными амбарами и перевалкой соли в Нижнем. Им приходилось особенно туго сбывать свой залеживающийся товар, а амбары ломились от него.








