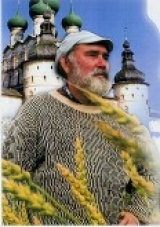
Текст книги "Чертово яблоко (Сказание о «картофельном» бунте) (СИ)"
Автор книги: Валерий Замыслов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Глава 11
БУНТОВЩИК
Семнадцать вязниковцев, не выполнивших указ государя Николая Первого, были жестоко биты плетьми. Среди них оказался и Томилка Ушаков. Но больше всего частного пристава, кой начальствовал над всей городской полицией, беспокоил укрывшийся от наказания Стенька Грачев.
Пристав докладывал городничему:
– Сей Стенька достоин смертной казни. Он едва не убил полицейских чинов при исполнении служебного долга. Он – бунтовщик, Стенька Разин! Надо поднять на ноги весь уезд, ваше высокоблагородие.
По лицу городничего пробежала язвительная усмешка.
– Курьезно вас слушать, господин пристав. Как это вы, находясь при оружии, не только не смогли арестовать бунтовщика, но и сами оказались рожей в землю. Позор!
– Этот Стенька, осмелюсь доложить, чертовски силен. Его кулаком и быка свалить – раз плюнуть.
– Не смейте оправдываться. Если через трое суток вы не найдете бунтовщика, то я вынужден буду доложить о вашем бездействии в губернию. Надеюсь, господин полицмейстер вправит вам мозги. В уезде черт знает что творится. Ступайте! Я весьма недоволен вами, господин пристав.
Городничий был зол: высочайшее повеление императора не выполняется. Крестьяне ни в какую не желают высаживать на своих землях картофель. Дело доходит до мятежа. Так можно и кресло городничего потерять. Черт бы побрал этих невежественных мужиков!
Частный пристав на всякий случай побывал и у заводчика Голубева, но тот с сарказмом высказал:
– Вы что, голубчик, полагаете, что я знаю, где скрывается мой бывший кучер?
– Может статься, какие-то доходят слухи, господин Голубев? В нашем деле любая мелочь может вывести на след преступника.
– Не говорите ерунды и не мешайте мне работать, господин пристав.
– Жаль. Позвольте откланяться.
– Скатертью дорога.
Пристав с недовольным лицом вышел из кабинета заводчика.
«Хам!» – хотелось крикнуть ему. Стоит выбиться в миллионщики – ему и частный пристав – козявка. Хам!
Голубев же, после ухода пристава, невольно задержался в мыслях о Стеньке.
«Достукался же, башка неразумная. Полицейских чинов изрядно избил. Опять заявил бы: «без вины виноватые». Пристав хозяина дома ударил, а затем к дочке его приложился. Вот и не утерпел, дуралей. В который раз попадает в какие-то несуразные истории, но теперь в самую скверную. Стеньку, если попадется, ждет тюрьма… И все-таки жаль этого задорного парня. Кучер из него был отменный. Жаль, но ничего не поделаешь: Стенька превратился в государственного преступника. Его уже никакие деньги не спасут»…
А в дому Ушакова убивалась горем супруга Томилки, Таисья. Хозяин-то ныне пластом на постели лежит. Настоль шибко плетьми исстегали, что теперь шевельнуться не может. И за что? За какое-то чертово яблоко, которое Русь веки-веков не ведало. Кому нужен этот поганый плод, против коего даже церковь негодует? Прости, грешную, Пресвятая Богородица, но царь-батюшка не дело измыслил. Разве можно на лучшей землице бесовские семена сажать? Бог-то, небось, прогневается и беду на весь православный люд нашлет.
Сидя подле недужного супруга, Таисья, утирая концом платка слезы, перекинулась снулыми мыслями к дочери. Вот, оглашенная! Ну, зачем со Стенькой на лошади умчала? И куда? Одному Богу известно. Ныне и ее городовые ищут. Намедни двое заявились. Все пытали, плеткой размахивали, а ей и молвить нечего. Как увидела, что мужа пристав бьет, так с перепугу и осела на крыльце. В голове все помутилось, даже не углядела, что и дальше приключилось. А супруг чуть жив, но одно долбит: «Хоть убейте, но знать ничего не знаю». Пока отступились, но упредили: как дочь заявится, немедля сказать квартальному. Вот горе-то!.. Со Стенькой убежала, неразумная. Отдала бы ему лошадь, а сама осталась. Так нет! Вместе с ним куда-то унеслась. Хоть бы словечко родителям замолвила. Знать, городовых остерегалась, вот и смолчала.
Стенечку своего поспешила увести от греха подальше. Уж так к нему воспылала любовью, что и не сказать. Как отбыл парень в Ростов вместе со своим заводчиком, так и в лице переменилась. Ходила, как горем убитая. Не спит, не ест, замкнулась, слово клещами не вытянешь. Норовила разговорить доченьку, сказать, что для нее женихов – только свистни, но Ксения сказала, как ножом отрезала:
«Другой мне не нужен. И больше не заводи о том разговор, маменька».
«Так Стенька твой, кажись, о тебе и не вздыхает. Зачем тогда маяться?»
«Значит, такая моя судьба, маменька».
Судьба… Не приведи, Господи. И дался ей этот Стенька… Коль и возвратится домой – радости не жди. Тотчас городовые навалятся, в кутузку сведут да спрос учинят: где бунташного человека упрятала? Ксения, конечно же, не скажет, никакой плетки не напугается. И что? Сидеть ей в темнице. Беда-то какая, Пресвятая Богородица!
Глава 12
АГАФЬЮШКА
В непролазном глухом лесу обосновалась деревенька Старица. Семь изб, но каждая срублена на долгие времена – из толстенной кондовой[62]62
Кондовая – с плотной прочной древесиной и с малым количеством сучков.
[Закрыть] сосны, выросшей на холмах, на сухом месте, могут стоять столетиями.
Посреди Старицы – одноглавая часовня, позади нее – погост, тянувшийся к лесу, усеянный могильными холмиками с высокими деревянными, потемневшими от старости крестами.
Агафьюшка встретила Ксению и незнакомого парня, казалось, без всякого удивления.
– Не зря мне сон привиделся, что придут в дом молодые гости. Сон-то в руку.
А вот хозяин избы, седобородый, но крепкий еще старик, глянул на вошедших настороженно.
– Что за люди и почему в мой дом пришли?
– Прости, дедушка Корней, но ваш дом нам мальчонка указал.
Корней с недоумением посмотрел на Агафьюшку.
– Откуда эти люди имена наши ведают?
– Да ты не тревожься, государь мой[63]63
Государь мой – в данном случае форма вежливого обращения, которая была свойственна и для простонародья.
[Закрыть]. Я тебе как-то уже о красной девице сказывала. Добрая она, а добрый человек худого с собой не приведет…
Год назад мать послала Ксению в булочную, что находилась вблизи собора Казанской Божьей Матери. На паперти храма она заметила незнакомую старушку, которая, как показалось ей, была чуть живехонька.
– Вам плохо, бабушка? – участливо спросила Ксения. – Чем-нибудь помочь?
– Спасибо, голубушка. Заморилась я с дальней дороженьки. Бывало, двадцать верст без устали ходила, а ныне в ногах ослабла. Чуток переведу дух – и дале пойду.
– Далече идти, бабушка?
– К Убогому дому, а там на скудельницу[64]64
Скудельница — старинное название погоста или кладбища, происходящее от евангельского сказания, по которому Иуда за 30 серебреников купил «село скудельниче в погребение странным».
[Закрыть].
– То – еще версты две, бабушка. Ты пока отдохни, а я до лавки сбегаю. Дождись меня.
Когда Ксения вернулась, бабушка была уже на ногах.
– Пойду я, голубушка.
– Вначале подкрепилась бы, бабушка. Я тебе скляницу малинового сиропу да калача купила. Откушай, а потом я тебя до Убогого дома провожу.
Старушка посмотрела на девушку мягкими вопрошающими глазами и молвила:
– Душа у тебя добрая, голубушка. Как имечко твое?
– Ксения.
– Славное имечко. А меня Агафьюшкой звать. Пойдем, Ксюшенька.
– А перекусить?
– В Убогом доме потрапезничаю.
Была Агафьюшка в темном убрусе и в косоклинном кубовом сарафане, какой обычно носят старообрядки.
– Как хотите, бабушка Агафья. И я с вами схожу.
Ксения и сама не понимала, что ее заставило проникнуться сердцем к этой маленькой, сухонькой старушке с выцветшими, некогда голубыми глазами.
– Кажись, совсем недавно птицей летала, – шагая к Убогому дому, рассказывала Агафья. – Двадцать верст отмахаю – и никакой устали, ныне же будто крылья обрезали. И всего-то год миновало.
– Кто у вас на погосте лежит, бабушка?
– Сестрицу Бог прибрал, младшенькую. Мы тогда совсем махонькие были, на отцовский челн забрались, стали дурачиться, а челн вдруг от брега отошел и угодил на быстрину. Суденышко верткое, а тут еще ветер набежал. Сестрица перепугалась, заплакала, шагнула, было, ко мне, и из челна выпала. Вот такая с ней приключилась судьбинушка.
– А сама-то как спаслась?
– Повезло мне, голубушка. Когда сестрица стала ко мне пробираться, суденышко так накренилось, что и я в воду угодила. Чаяла, с белым светом распрощалась, но воспротивилась Заступница. Из самой глуби вдруг вытащил меня какой-то человек, на самый брег вынес и тотчас исчез, как его и не было. Вот чудо-то.
– Выходит, Пресвятая Богородица спасла?
– Вестимо, голубушка. Послала ко мне доброго человека… А младшенькая отыскалась на другой день – в рыбачий невод попала. На скудельнице ее и схоронили. Тятенька с маменькой шибко горевали. Раньше-то мы в Вязниках жительствовали, часто на могилку к Марьюшке хаживали, а когда родители мои преставились, очутилась я в Старице, что отсель двадцать верст.
– В Старице? – невольно остановилась Ксения. – Это там, где староверы с давних лет живут?
– Там, голубушка.
– Какими же судьбами?
– Опосля поведаю… А вот и Убогий дом, пойду к Марьюшке.
Могилка затерялась среди погоста и так заросла бурьяном, что только по скособоченному деревянному кресту да по рябиновому дереву Агафья безошибочно установила место упокоения Марьюшки.
– Экой чертополох, кабы не рябина, и вовсе мудрено сыскать.
– Так здесь рябин немало разрослось, бабушка.
– Моя – особенная, в три ствола вытянулась..
Старушка низехонько поклонилась могилке, истово осенила себя крестным знамением, а затем молвила:
– Надо Марьюшку от всякой травы-скверны очистить.
– Ты посиди, бабушка, а я могилку в порядок приведу.
– Бог тебя послал, голубушка, но сидеть мне не можно. Великий грех, коль своими руками могилку родного человека не обиходишь.
– А если чужие руки в помощь?
– И тому Богом зачтется.
Когда могилка была приведена в порядок, Агафья упала на нее, обвила руками, запричитала, а потом стала с Марьюшкой беседовать: рассказывать о своей жизни, супруга, близких людей, и даже с сестрицей советоваться.
В Убогом же доме старушка малость перекусила и продолжила свое повествование:
– В Старице брат моего отца жил, вот он меня к себе и забрал. Там меня и замуж выдали, почитай, уже сорок годков с Корнеем Захарычем прожила. Строг и взыскателен он нравом, как и все в деревне, старой веры держится.
– Не обижает?
– Повезло мне, милая девонька, хоть и строг, но за всю жизнь не только пальцем меня не тронул, но и худым словом не попрекнул… А вот на этот раз он меня почему-то к Марьюшке неохотно отпускал, словно беду какую-то чуял. И сама не пойму.
– Может, проводить тебя до Старицы, бабушка? Далече, дойдешь ли вспять? Мне только дома надо сказаться.
– Спасет тебя Христос, добрая душа. Сама доберусь, не так уж и далече. До села Конюхова пятнадцать верст, а там и вовсе рукой подать. Тропиночкой да леском – и дома.
– Не страшно лесом-то, бабушка?
– Ничуть, добрая душа. Коль с крестом да с молитвой, никакая нечистая сила тебя не тронет.
За разговорами вышли на большак. Ксения остановила проходящую мимо подводу, попросила возницу.
– Не подвезешь бабушку до Конюхова?
– Гривенник! – явно завысив цену, мотнул бородой возница.
– Мы согласны. Садись, бабушка.
Агафья поцеловала девушку в щеку, тепло изронила:
– Да хранит тебя Пресвятая Богородица, добрая душа.
Глава 13
У СТАРООБРЯДЦА
Корней отчитывал Агафью:
– Зачем чужаков в дом пустила? Аль не ведаешь, что никонианам[65]65
Никониане – приверженцы патриарха Никона, проведшего церковную реформу, приведшую к расколу православных людей.
[Закрыть] ходу в Старицу нет?
– Ты уж не гневайся на меня, батюшка. Девонька-то славная в избу постучалась.
– Откуда ведаешь?
Агафья обо всем рассказала, на что супруг все так же хмуро отозвался:
– Девка, может, и неплохая, а вот что за молодец с ней приехал?
– Того, батюшка, не ведаю, но, думаю, и он не худой человек.
– Индюк думал, думал да и сдох. Деревня обеспокоена. Надо потолковать с парнем.
Потолковал, когда пришлые люди, согласно старозаветному обычаю, были накормлены и напоены. Стенька на прямой вопрос: что тебе в Старице понадобилось, – ответил без утайки.
– Наведался к родителям Ксении, а тут частный пристав с городовым в огород нагрянул. Приказал чертово яблоко сажать, а хозяин избы того не захотел, он уже огурцы посадил. Пристав вошел в ярь и принялся хозяина избивать, а затем и девушке досталось. Вот тут я не утерпел. Кулаком к обоим обидчикам приложился, да, знать, переусердствовал, едва насмерть не зашиб. Ксения смекнула, что мне тюрьма грозит, и лошадь со двора вывела. Вот так мы с ней в Старице и оказались.
Рассказ Стеньки Корней воспринял с тем же снулым лицом.
– Бунтовщик ты, паря. Зело худо. Старица тебя не спасет. Мы живем своим побытом и лиходеев у себя не держим.
Разговор шел при Ксении. Вначале она напряженно молчала, но при последних словах старика порывисто поднялась с лавки.
– Да какой же он лиходей, если за моих родителей заступился?! Тятеньку и вовсе могли до смерти забить. Степушка – честный и смелый человек! Зачем же вы так?
Агафья испуганно охнула, а в дегтярных глазах Корнея заиграли злые огоньки.
– Умолкни, дщерь нечестивая! Тебе ли в мужичий разговор встревать? Вон из избы!
Ксения была поражена гневными словами старика: дома таких речей не могло случиться. Она, вспыхнув всем лицом, хотела еще что-то сказать, но ее вовремя дернула за рукав Агафья.
– Пойдем, пойдем, голубушка.
На крыльце мягко выговорила:
– Ты уж прости супруга моего. Не можно ему перечить, по «Домострою»[66]66
«Домострой» – произведение русской литературы ХVI в., свод житейских правил и наставлений. Защищал принципы патриархального быта и деспотической власти главы семьи.
[Закрыть] живем.
– Господи, да тому ж, почитай, три века, бабушка.
– На то мы и староверы, милая душа. Даже жена должна быть всегда в полном смирении, а ты вон как вскинулась. Не можно у нас так. Голубок-то твой не буйный, не станет дерзить?
– Не думаю, бабушка. Кажись, всегда видела его степенным.
– Дай-то Бог.
После ухода женщин из избы, Корней некоторое время молча сидел на конике[67]67
Коник (от койник, койка), лавка ларем, рундук, прилавок, ларь для спанья, с подъемною крышкою. Обычно это прилавок у дверей и койка хозяина; местно (новг. твер. пск. и др.) коником зовут и печной прилавок, с лазом в подполье, голбец, или – лавку в красном углу, под образами.
[Закрыть], то ли унимая гнев, то ли о чем-то раздумывая, положив сухие длиннопалые руки на колени.
Стенька же, пощипывая густые темно-русые усы, решал для себя задачу: куда идти дальше? Идти, конечно же, одному: Ксения должна вернуться домой, хотя ничего хорошего ее дома не ждет. Разговора с полицией не избежать, но в тюрьму ее не заключат. Скажет, что перепугалась избиения пристава, потому и к лошади кинулась. Стенька же за ней увязался, но с полдороги она вернулась в город. А куда бунтовщик подевался, заявит, что тот ушел в глухие заволжские леса… Так, пожалуй, с Ксенией и сладится.
– Ты, хозяин, в заботу не впадай, – прервал тишь Стенька. – Сегодня же уйду из Стариц.
– И далече собрался?
– Туда, где сыскные люди не ходят.
– Ныне сыскные люди не рыщут токмо в дремучих лесах, но там тебе не жить.
– Почему?
– Молод ты. Свыкся в миру жить, а в отшельники, как я чую, ты не годишься.
– Может, ты и прав, хозяин, но, как говорится, неисповедимы пути Господни.
– Неисповедимы, – кивнул седой бородой Корней. – Раньше чем занимался?
– У заводчика Голубева кучером служил.
– Даже так, – хмыкнул старик, и строгие глаза его под хохлатыми бровями несколько умягчились. Он был наслышан о Голубеве: толковый заводчик, не скупится вкладывать деньги на храмы, рабочих людей держит в крепкой узде, но зазря никого не обидит. Кучер же для любого купца или заводчика – не из последних людей: лодыря и болвана к себе не возьмет, да и человека с бунтарским нравом не подпустит.
– Тебя, выходит, Степаном кличут? А скажи-ка мне, паря, чертово яблоко по всему уезду приказано сажать?
– Не только по уезду, но и по всей губернии, хозяин.
– Не люблю этого слова. Зови меня Корнеем Захарычем, или Захарычем, как принято у нас стариков величать.
Примирительный тон хозяина избы озадачил Стеньку.
– Добро, Захарыч. Выходит, и здесь о чертовом яблоке прознали.
– Не в тайге живем. Старица в Вязниковский уезд входит, а царь не слишком людей старой веры жалует, как бы и до нас не добрался.
– Тоже землей кормитесь, Захарыч?
– Лишний вопрос, паря. Как же без землицы? И хлебушко сеем, и всякий овощ. В уезд не ездим.
– Зато из уезда могут пожаловать да еще с указанием царя-батюшки, – неосторожно брякнул Стенька, чем вновь навлек на себя суровый разговор старика.
– Типун тебе на язык! Да мы этот чертов плод никогда к себе не пустим!
– Бунтовать?
– По себе равняешь. Выйдем с иконами и хоругвями – и проклянем бесовщину.
– Боюсь, этого будет мало. За топоры и вилы надо браться.
– Ты вот что, паря, – сурово произнес старик. – Буйство в тебе бродит. Уходи из Старицы.
– Уйду, вот те крест.
Стенька и в самом деле перекрестился на темную древнюю икону без оклада, но тотчас раздался резкий возглас:
– Не погань Спасителя! Не погань!
– Ты чего, Захарыч? – опешил Стенька.
– Да ты разве не ведаешь, святотатец, что ты Господу своими тремя перстами кукиш показываешь? Никонианец!
– Да какой я никонианец, коль ни бельмеса не понимаю его деяния.
– Во-от! – вскинул палец над головой Захарыч. – Вот плоды вдалбливания нового церковного учения. Ничего темный народ не ведает.
– Не поленись да расскажи, коль ты такой обидчивый, Захарыч. А я, глядишь, другим твое слово понесу.
– Понесешь? Ну тогда выслушай, голова бестолковая… Все началось с патриарха Никона, что жил во времена царя Алексея Михайловича. Сей Никон указал креститься Господу не двумя, а тремя перстами, это он с ног на голову поменял крестные ходы у церкви, повелев вести их «по-солонь», то есть по солнцу, от левой руки к правой, обратившись лицом к алтарю. Слово «аллилуйя» петь не два, а три раза; поклоны класть не земные, а поясные; служить литургию не на пяти, а на семи просфорах; писать и произносить не Исус, а Иисус. Это ж до чего надо дойти! А что Никон сотворил с древними евангелиями, псалтырями и другими славянскими служебниками. Он повелел их свести из всех церквей и монастырей на Патриарший двор – отбирал силой – и приказал сжечь! В древних книгах-де много путаницы. Правщиком книг назначил греческого монаха Арсения. Вовсю заработал Печатный двор. Не пришлись по нраву Никону и многие иконы. Патриарх учинил на Москве повсеместный сыск: идти по домам и забирать иконы нового письма. Таких икон набралось многое множество. Им выкалывали глаза и носили по московским улицам, выкрикивая строжайший указ, кой грозил беспощадным наказанием тем, кто будет иметь такие образы.
– Ну и патриарх! А что же народ?
– Русские люди, заглянув в новоисправленные книги, ужаснулись. Вот те на! Выходит, на Руси доселе не умели ни молиться, ни писать икон, ни всякие церковные службы справлять. Неужели божественное писание неправо?! Да быть того не может. Никон – антихрист, книги его – еретические, будь они прокляты! Начался раскол. Многие пастыри противились новинам патриарха. Никон же беспощадно карал раскольников: ссылал в дальние скиты, отлучал от церкви, многих наказывал не духовно, не кротостью за преступления, а мучил мирскими казнями, кнутом, палицами, иных на пытке жег. Даже не пощадил обоготворяемых народом пастырей. Протопоп Аввакум, любимец приверженцев старины, вначале был бит батогами, а затем взят под стражу и сослан в Пустозерск, где пятнадцать лет провел в земляной тюрьме, а затем сожжен на костре.
– Жутко слушать, Захарыч, – крутанул головой Стенька.
– Жутко слушать? А каково было терпеть приверженцам старины? Раскол охватил всю Русь. Тысячи истинно православных людей бежали в леса и необитаемые пустоши. Некоторых находили, но они сжигали себя вместе с детьми, не желая служить Антихристу. При Петре же Первом раскол еще более умножился. Сколь церковных колоколов он сбросил со звонниц! Все его новины направлены супротив народа, ибо они и вовсе разрушали старозаветные устои, поелику вся неметчина хлынула на Русь. Не зря Петра нарекли новым Антихристом, а коль царь – Антихрист, то, значит, и все исходящие от царской власти законы, суды и прочее носит на себе печать Антихриста. Двуглавый же орел – происхождения демонского, поелику все люди, звери и птицы имеют по одной голове, а две главы у одного дьявола. А на кой ляд царь Петр перенес Новый год на 1 января? Для бесовщины. Где это видано, чтобы в самый пост устраивали празднества? То же чертово яблоко с именем царя Антихриста связано. Святотатство вложили в голову царя поганые латиняне, ибо каждый здравый поп ведает, что картофель происходит из двух немецких слов, кои в нашем языке означают «дьявольскую силу». Народ заставляют сажать дьявольские яблоки – нечистый плод подземного ада. Не быть тому!
– Просветил ты меня, Захарыч. А я-то, дуралей, и в голову того никогда не брал. В храмах бывал, молебны слушал, но о старой вере не задумывался. А вот о чертовом яблоке я еще от отца своего наслушался. Слава Богу, пока Господь милует мужиков от нечистого плода, но ныне, кажись, царь Николай бесповоротно за нечистый плод взялся.
– И не токмо. Был у нас зимой человек старой веры, сказывал, что сей самодержец указал повсюду разрушать молельни и уничтожать скиты. Худой царь. Не будет при нем доброго жития народу.
– А когда оно было, Захарыч? При каком таком царе-косаре? – глубокомысленно вопросил Стенька.
– Твоя правда, паря. Наши прадеды и при старой вере в шелках-бархатах не ходили, ломтю черного хлеба были рады, а случалось, и вовсе голодом сидели. Всё веруем в сказку про доброго царя, но никогда того не будет. Народ как был нищим, таким и в грядущие века останется.
Захарыч вновь замолчал, но теперь уже не надолго, ибо вскоре спросил:
– Значит, в глухие леса надумал уйти?
– Я уже говорил, Захарыч. Надо от сыскных людей схорониться.
– Так, так… А хочешь, я тебе дам добрый совет?
– Разумеется, Захарыч.
– Мы иногда лесной тропкой на Клязьму выбираемся. Кто с бредешком, а кто и с неводом в заливчики, ибо рыба для нас – подспорье. Как-то нас один мужик выручил, что в трех верстах в селе Никулине живет. Упредил, сказав о том, что рыбные ловы, на кои мы выходим, принадлежат Благовещенскому монастырю, и что монастырские служки отлавливают нарушителей, кои незаконный лов затеяли. Седни-де, как раз припожалуют. Пришлось нам уйти восвояси. Но мужик нам и потребные дни указал, когда служки ловы не проверяют. Нередко разговаривал я с этим мужиком, ибо он сам тишком ловил рыбу в тех заливчиках. Зовут его Егоршей, живет в Никулине, на десятки верст знает дремучие леса и даже самые отдаленные глухие деревеньки, где беглый люд укрывается. Сыщи его, думаю, он тебе весьма сгодится. Правда, не всякого человека он в скрытни проводит, но ты скажись, что от меня заявился.
– Спасибо, Захарыч. Непременно разыщу сего мужика, но поверит ли?
– Поверит, ежели скажешь: «Два фунта орехов».
– ?
– Надо было как-то Егоршу отблагодарить, вот я ему отборных орехов на лов и принес. У нас тут замечательный орешник разросся в полуверсте.
– Тогда точно поверит… Ну, что, Захарыч, спасибо тебе за хлеб-соль, за рассказ о старой вере и за добрый совет. Надо нам с Ксенией попрощаться. Она поедет домой, а я – в село Никулино. Может, тропинку к реке покажешь?
– Покажу. А как с деньгами у тебя?
– Не поверишь, Захарыч, но в деньгах я пока не стеснен.
– Кучером-то? Вот уж не чаял, что заводчик Голубев такой щедрый.
– Не обижает, но у меня случается и прибыток, Захарыч. Иногда в ресторациях на гармошке наяриваю. Купцы, когда в раж войдут, не скупятся.
– Бесовщина все это, скоморошество. Сии деньги не от трудов праведных, – вновь нахмурился Корней.
– Тяга у меня к гармошке. Ее не только купцы, но и народ любит.
Захарыч махнул рукой.
– Ступай к своей девице да старуху ко мне позови. Пусть тебе, скомороху, котомку соберет.






