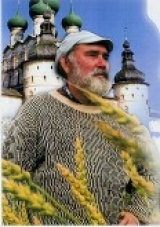
Текст книги "Чертово яблоко (Сказание о «картофельном» бунте) (СИ)"
Автор книги: Валерий Замыслов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Глава 9
ПЯТУНЯ
Вечером Амос вышел на крыльцо и окликнул дворового; тот вышел из сторожки, что была выстроена подле ворот.
– Ты вот что, Пятуня, гляди, не засни. Слышь, какая во всех домах гульба? А по улицам всякий пьяный сброд шастает. Бди, почаще из сторожки выглядывай.
– Тулуп бы мне, ваша милость. Армячишко у меня плевый, околеть можно. Вон как мороз-то завернул.
– Без тулупа обойдешься, иначе храпака дашь. Бди.
Амос ушел в дом, из которого доносился хохот Дурандина и визг Лукреции, а Пятуня горестно вздохнул: без тулупа и впрямь замерзнуть можно, а ведь он висит недалече, в сенях избы. Зимняя ночь долгая. Сходить потихоньку?
Пятуня покряхтел, покряхтел, глянул на небо, усыпанное крупными дрожащими звездами, кои указывали, что к утру мороз будет еще крепче, и решился. Вскоре он вошел в сени и направился вдоль бревенчатой стены к колку, на коем близ дверей висел тулуп, и вдруг замер: дверь была почему-то открыта, пропуская через себя на стену сумрачный свет от керосиновой лампы. (Не знал дворовый, что Дурандину стало жарко в чересчур натопленной избе Фомичева: хозяин переусердствовал).
Из дальней комнаты доносились веселые голоса заводчика и его барышни, но они не заглушали разговора приказчика Чекмеза и Фомичева, которые сидели на лавке, стоявшей почти рядом с дверью вдоль простенка.
… – А цыганка не подведет?
– Это за сотенную-то? Целую кружку зелья выпил. На моих глазах, почитай, захрапел.
– Значит, на дворе? И ворота для морозца приоткрыли? А Сундуков?
– Иннокентию своих дел по горло. Ему не до какого-то Стеньки Грача. Утром скажут: замерз человек с перепою. Не удивятся. Каждую ярмарку десяток человек от мороза гибнут. Нажрутся – и море им по колено. Так и со Стенькой. Целую кружку можжевеловой водки вылакал, вот его и сморило. На таком-то морозе любой сдохнет.
– Туда ему и дорога…
Пятуня тихонько снял с колка тулуп и на цыпочках пошел к выходу. Придя в сторожку, крутанул головой. Вот те и Амос Никитич! Решил-таки доконать Стеньку. Ишь, как ловко придумал. Каким-то зельем отравил – и на мороз. Погибнет Стенька. И за какие такие грехи? Эко дело – с хозяином поругался. Разве можно за такой пустяк человека губить? Зол же Амос. Вот и его, Пятуню, намедни крепко зашиб. С такой силой пнул в живот сапогом, что едва отдышался. Зол!..
А Стеньку жаль. Молодой, пышущий здоровьем парень. Он хоть и кинул его в сугроб, но сердца на него Пятуня не держит… Замерзнет Стенька. Чу, во дворе Иннокентия Сундукова пьяного кинули. Чудно как-то. Стенька, кажись, на водку не охоч, а тут целую кружку можжевеловой опрокинул, да еще сдобренной зельем. Ну и Амос. Худой человек. Такого пригожего парня загубил… А может, еще жив Стенька? До утра еще далеко.
И сам не ведая, что он может решиться на смелый шаг, Пятуня вдруг вышел из ворот и кинулся к Покровской улице.
Ростов не спал: напротив, из каждого дома доносились веселые песни и пьяные выкрики. Обычай! Каждая покупка или выгодная сделка обмывалась зеленым змием, и обмывалась так обильно, особенно в ярмарочные дни, что порой упивались до чертиков.
Все балаганы и лавки были закрыты; на площадях и улицах (от скопившихся возов и купеческих фур), казалось, не найдешь свободного местечка, однако середины улиц оставались незанятыми для экипажей и снующих во все стороны города извозчиков. Пятуня встал перед одним и замахал руками.
– Погодь, милок! Ты, кажись, порожняком? Довези до Юрьевской слободы.
– Уж не к Сундукову ли? К нему ныне многие наезжают.
– К нему, к нему, милок.
– Залезай!
Деньгу извозчик не спросил: коль едет к Сундукову, то сей человек с мошной, с такого тройную цену отхватишь.
Через две версты подкатили к самым воротам Иннокентия, где уже стояло с десяток экипажей. Пятуня сошел на укатанную полозьями дорогу и тяжко вздохнул.
– Ты меня прости, милок. Впопыхах о деньгах забыл.
– Как это забыл? – осерчал ямщик. – Кто же к Иннокентию без мошны ездит? Тут, брат, тыщи просаживают.
– Какие тыщи, какая мошна? Дворник я, но тут у меня дело спешное. Прости, Христа ради, и Бог тебе сторицей подаст, – жалостливо произнес Пятуня.
– Сейчас и подаст.
Ямщик сошел с облучка и двинул кулаком в меховой рукавице по лицу незатейливого мужичка, кой отлетел от саней на добрую сажень. Извозчик с руганью повернул вспять, а Пятуня, едва очухавшись, поднялся и, утирая кровь с лица (хорошо, зубы целы остались), покачал головой.
– И-эх, Рассея-матушка.
Во дворе громко, надрывно лаяли собаки. Пятуня испуганно застыл у распахнутых ворот, а затем понял, что собаки привязаны на цепи, иначе ни один бы человек не вошел в дом Сундукова. Все окна были ярко освещены, в коих мелькали какие-то неясные фигуры; ночная гульба была в полном разгаре.
Пятуня тихонько зашагал к крыльцу; поднялся на самую верхнюю ступеньку, а дальше идти не хватило духу. В дом-то не так просто войти: Иннокентий Сундуков, никак, с ведома Амоса решил Стеньку Грача погубить. Изведает, что он, Пятуня, человек Фомичева – и взашей из дома вытолкает. И как тогда быть, как во двор проникнуть?
Озаботился Пятуня. Постоял минуту-другую – и надумал рискнуть. Во двор можно пройти через сени. Правда, в темноте сделать это будет мудрено, но попытка не пытка.
На счастье Пятуни сени были освещены двумя керосиновыми фонарями, висящими на стенах. Дворовый снял один из них, и в тот же миг из избы вышел Василий в лакейской форме.
– Ты чего тут?
Пятуня замялся, а затем скумекал:
– Мне бы во двор, милок… По нужде.
– Из ямщиков, что ли?
– Ага… Прихватило, мочи нет.
– У нас тут не городской нужник, – строго высказал Василий, но, глянув на страдальческое лицо мужичка в тулупе, махнул рукой. – Ну да леший с тобой. Пойдем, провожу.
Отобрав у Пятуни фонарь, Василий спустился по невысокой лесенке во двор и показал мужичку отхожее место.
– Тулуп-то сними, дурень.
– Сейчас, милок, я быстро.
Выйдя из нужника, Пятуня несвязно проговорил:
– Прости, милок… Тут где-то человек на холоду помирает.
– Что за чушь? Держи тулуп.
– Не чушь… А ты посвети по всем углам… Человек, баю, опился. Не окочурился ли?
– А ты откуда знаешь? – недоверчиво вопросил Василий.
– Да уж знаю. Посвети, ради Христа.
Василий прошелся с фонарем по широкому двору, а затем озадаченно возгласил:
– И впрямь, ямщик. Подле стойла дрыхнет. Ну и ну!.. Да это же гармонист Стенька. Эко наклюкался. А ну вставай!
Василий пнул Стеньку сапогом, но тот и не пошелохнулся.
– И впрямь, не окочурился ли? Вон и ворота приоткрыты. В такой-то мороз!
Оба принялись тормошить Стеньку, шлепать его по лицу. Парень издал едва уловимый стон.
– Слава тебе, Господи. Жив! – возрадовался Пятуня.
– Надо его в избу волочь. Тянем за руки… Тяжеленный, дьявол. Это он можжевеловой водки набрался.
С превеликим трудом втянули Стеньку в комнату и оставили возле печи.
– Да он холоднущий весь и чуть дышит, – забеспокоился Пятуня. – Как быть-то, милок?
– От чего чуть не помер, тем и лечить будем. Водки с перцем влить – очухается…
В комнату вошел Сундуков.
– Это еще что за представление?
– На дворе обнаружили, Иннокентий Сидорыч. Никак, вышел по нужде, да так и рухнул на дворе. Он, ить, можжевеловой наклюкался. Сам видел.
– Слабак. Такой-то верзила.
Иннокентий ничего не знал о кознях заводчика Пахомия Дурандина и его приказчика Чекмеза: оба опасались огласки, грозящей большими неприятностями.
– Слабак, – повторил Сундуков и приказал:
– Вы тут его приведите в чувство, а мне к гостям пора…
Утром Стеньку привезли в дом Федора Мясникова. Гаврилыч, войдя в комнатку, отведенную для кучера, осуждающе покачал головой.
– Ну, ты даешь, парень. Где всю ночь шлялся?
– Отвяжись! И без тебя башка трещит.
– Вот-вот. То он святой трезвенник, а то – несусветный пропойца. За версту разит. Тьфу!
– Отвяжись, сказываю!
– Не отвяжусь. Вечор тебя Филат Егорыч обыскался. Сердит был, жди расправы.
– Чего искал-то?
– Восвояси собирается, вот и искал.
Прихода Филата Голубева долго ждать не пришлось. Ему не захотелось распекать кучера на глазах Мясникова и его слуг, а посему предпочел спуститься вниз. Его острые пепельные глаза были и впрямь злы.
– Не слишком ли много я тебе воли дал, стервец? – сразу же взял в оборот кучера Филат Егорыч. – И как ты мое доверие оправдываешь? Возмутительным разгулом! Хозяин ему не указ, можно и по ночам бражничать. Стервец! На сей раз ты от плетки не уйдешь!
Заводчик и впрямь занес над Стенькой плетку, но тот перехватил его руку.
– Охолонь, хозяин. Ударишь – уйду, как и ране упреждал.
– Ты еще учить меня смеешь?! – вконец разошелся заводчик, но Стенька с такой силой стиснул кисть его руки, что плетка упала на пол.
Раздраженный Голубев сел на стул и, с неутихающей злостью, произнес:
– Уходи! Видеть тебя не хочу, забулдыгу.
Стенька накинул на себя полушубок и уже от дверей сказал:
– Прощай, хозяин. Плетку для другого кучера прибереги. Моей же вины нет.
– А ну стой!.. Как это нет?
– Очень просто. Опоили меня, хозяин. Мне водки и на дух не надо, а тут…
– Рассказывай, но если на толику соврешь, пощады не жди.
Стеньке и утаивать нечего: рассказал все, как было, после чего Филат Егорыч, распахнув сюртук и теребя золотую цепочку от часов, неопределенно хмыкнул:
– Вечно ты попадаешь в какие-то смутные истории, не поддающиеся здравому смыслу. То, что Пахомий Дурандин мог силком тебя заставить пить водку, и доказывать не надо. А вот то, что тебя сразила кружка квасу, никогда не поверю.
– Да я и сам не пойму, что со мной произошло, Филат Егорыч, но ощущение такое, что меня сонным зельем опоили, отчего я едва Богу душу не отдал. А потом и впрямь пришлось водку пить, чтобы в себя прийти.
– Весьма странное происшествие. Какой смысл тебя зельем опаивать и кому это на руку? Да и спаситель твой появился в доме Сундукова самым диковинным образом. Целый клубок загадок. Надо бы его распутать, да, жаль, времени нет. Готовь тройку, господин кучер.
Последние слова Голубев произнес жестко и не без доли сарказма.
Глава 10
СМУТА
В начале мая в Вязниковском уезде загуляла смута уездных крестьян.
Гурейка вечером рассказывал:
– Ну и дела, Стенька. Мужики мекали, что все обойдется, не впервой-де картошкой пугают, но такое началось, что волосы дыбом. Ехали мы с приказчиком через село Никольское, а там мужики бурмистра и вязниковских чинов кольями шибают. Лупят и горланят: «Не желаем на лучших землях чертовы яблоки сажать! Убирайтесь!» Так и турнули нежеланных гостей, а бурмистр с разбитой башкой в свою избу убрался.
– Молодцы! – одобрил действия мужиков Стенька. – Так и надо. Нечего чужеземным овощем землю мордовать.
– Молодцы-то молодцы, но миром сия затея не закончится. Думаю, что городской голова не потерпит бунта мужиков.
– Пожалуй, не потерпит, – согласился Стенька. – Ныне царь, чу, крепко за дело взялся. Боюсь, как бы и жителей Вязников, что из крестьян, не принудил… Давно у Томилки Ушакова не был?
– У Томилки?.. Да как тебе сказать? Был, – как-то расплывчато высказал Гурейка и отвел глаза.
– Ясно, – усмехнулся Стенька. – Никак, Ксения опять дала от ворот поворот. Угадал?
– Да ну тебя! Пойду Буланке овса задам.
– Давай, давай. Самая пора лошадь кормить, – посмеивался Стенька, хотя он хорошо знал, что дело не в Буланке: Гурейка никак не мог подладиться к Ксении. Как-то сердито бросил:
– Чертова девка! И какого еще парня ей надо? Нос воротит.
Чудной. Его Ксения с первых же дней постаралась отвадить, а ему все неймется. Уж коль не по сердцу, ничего не поделаешь.
Ксения!.. Своеобычная, занимательная девушка. Казалось бы, всем недурна – и статью, и лицом, и умением гладко говорить. А хозяйка? В ее руках все спорится. Такая девушка всем на загляденье. Недаром от женихов отбоя нет, но Ксении почему-то никто не поглянулся. Даже Гурейка. И впрямь – чем плох парень? Другие-то девки ему проходу не дают, а вот для Ксении он пустое место. То ли сердцем почуяла, что Гурейка чересчур к женскому полу неравнодушен, то ли по какой-то другой причине. Девичье сердце нелегко распознать, уж слишком загадочное оно. Вот так и с ним, Стенькой, получилось. Не гадал, не ведал, что Ксения вдруг ему в любви признается. И всего-то один раз посидел с ней в саду на лавочке, сыграл на тальянке грустную песню, а взамен получил не только неожиданный поцелуй, но и чувственное признание в любви, чему был необычайно удивлен. И произнесла Ксения свои слова так, как никто ему никогда не говорил… Настенка? «Люб ты мне, Стенечка». Он нередко слышал эти слова, но звучали они, хотя и ласково, но как-то уж по-детски, не воспламеняя душу. Слова же Ксении прозвучали совсем по-другому: страстно, выстраданно, с каким-то непонятным для Стеньки надломом.
Когда он вернулся на сеновал, то долго раздумывал над неожиданным поведением Ксении, но так и не смог прочувствовать столь внезапный порыв девушки.
После возвращения в Вязники Стенька, конечно же, предупредил Гурейку о предстоящем разговоре с Голубевым о конях князя Голицына (весьма вовремя предупредил, ибо Филат Егорыч действительно расспросил второго кучера, но все обошлось), а затем Стенька навестил Томилку Ушакова, а когда столкнулся с Ксенией, то увидел ее вспыхнувшее лицо и радостный блеск в крупных зеленых глазах, но затем девушка выпорхнула из избы в сад и больше не показалась гостю, хотя ее и окликала домой мать.
С той поры Стенька больше Ксению не видел, да и, честно признаться, ему больше не хотелось идти в дом Томилки Ушакова, чтобы не смущать своим появлением Ксению. Зачем бередить ее душу, если его сердце принадлежит Настенке? Она добрая, славная, с легким веселым нравом. Он часто думал о ней, но в его думах не было той затяжной грусти и щемящей тоски, которые он должен был чувствовать в дни долговременной разлуки. Его воспоминания носили приятный характер, но не уныние, чего он терпеть не мог.
Раздумья Стеньки прервал вернувшийся с конюшни Гурейка.
– Ты вот зубы скалишь, а у Томилки беда.
– Что случилось?
– А то и случилось, что приказано ему чертовы яблоки вместо огурцов сажать. Горюет мужик.
– Худо. Томилка огурцом живет. Шибко наседают?
– Приезжал какой-то большой чин от городского головы, важную бумагу о земляных яблоках зачитал и строго-настрого заявил: «Коль не посадишь картошкой треть огорода, плетьми будешь бит, а затем в кутузке насидишься».
– Лихо. Вот и в нашей Сулости бурмистр важную бумагу мужикам зачитывал. Любопытно, как так посев прошел[60]60
В Ростовском уезде все обошлось миром, без мятежа.
[Закрыть]… Надо бы навестить Томилку.
– К хозяину пойдешь?
– Придется, но теперь меня Филат Егорыч никуда без позволения не отпускает.
– После Ростова в ежовых рукавицах держит, – насмешливо высказал Гурейка.
– К Томилке-то, авось, отпустит.
Отпустил, но увещательно предупредил:
– Чтоб без приключений. А то ты у меня вечно в передряги попадаешь.
– Без вины виноватый, Филат Егорыч, – развел руками Стенька.
– Не оправдывайся. Вечером быть у меня.
– Как ясный сокол прилечу, Филат Егорыч.
– Ступай, балабол!
Томилку обнаружил на огороде. Тот елозил граблями по вскопанной гряде.
– Бог в помощь! – воскликнул Стенька.
Томилка обернулся, и Стенька не узнал лица мужика. Было оно настолько понурым и блеклым, словно в семье кто-то преставился.
– Здорово, Стенька. Давненько не видел тебя.
– Служба, Томилка. А ты, никак, гряды под огурцы готовишь?
– Кабы под огурцы, – тяжело вздохнул мужик. – Седни велено чертово яблоко сажать, а у меня? Вишь сырую тряпицу? Огуречные семена проклюнулись. Вот и не знаю, как быть.
– И знать нечего. Коль семена проклюнулись – в землю их.
– А коль квартальный надзиратель[61]61
До полицейской реформы 1862 г. квартал полицейский составлял третью и низшую полицейскую инстанцию в городах. К. называлось подразделение части, которое имело свое особое управление с квартальным надзирателем во главе, подчиненным частному приставу. Фактически во многих городах существовало только название квартального надзирателя: эти чиновники не имели в своем заведовании особых кварталов, а были просто исполнителями приказаний начальства. В 1862 г. эта третья инстанция была уничтожена. Учрежденные при этом полицейские надзиратели, равно как и появившиеся впоследствии околоточные надзиратели, имели иные функции.
[Закрыть] нагрянет, да еще городовых прихватит?
– Так не нагрянул же и едва ли пожалует. Вязники – не деревня. Высаживай свои огурцы.
– Авось и впрямь пронесет.
Томилка перекрестился и принялся втыкать в гряду проклюнувшиеся семена.
Стенька заметил в вишняке Ксению, чем-то занимавшуюся среди деревцев.
– Пойду с дочкой поздороваюсь.
Томилка глянул на парня озабоченными дымчатыми глазами и почему-то опять тяжело вздохнул. Что-то хотел сказать, но махнул рукой.
Девушка, увлеченная работой (вырубала молодую поросль вишен), не заметила прихода Стеньки, а когда услышала его жизнерадостное приветствие, вздрогнула и даже выронила из рук топорик.
– Господи!.. Никак, вы, Степан Андреевич?
– Степан Андреич? – рассмеялся Стенька. – Знать я важным чином стал.
– Еще каким. Самого Голубева возишь. Старший кучер. Конечно же, Степан Андреевич. Да вон и усы отрастил, – на полном серьезе произнесла девушка, а вот большие зеленые глаза ее излучали радость.
Была Ксения в темно-синем сарафане; густые русые волосы, заплетенные в тугую косу, накрывала поверх головы голубая повязка.
– Зачем молодняк губишь, Ксения?
– От любой поросли проку мало. Аль вы не знаете, Степан Андреевич?
– Где уж нам, коль огород с малых лет меня не интересует… Как живется, Ксения?
– Честно сказать?
Девушка в упор посмотрела на Стеньку, отчего он слегка смутился, чувствуя, что Ксения сейчас произнесет слова, от которых он придет в еще большее смятение, ибо слишком нежными были глаза девушки.
– Ничего не говори.
– Хорошо… Пойдем посидим на лавочке. Это вас не повергнет в ужас, Степан Андреевич?
Стенька в ответ лишь непринужденно улыбнулся. Еще не успев сесть на лавочку, он увидел возле нее маленький дубочек.
– Раньше я его почему-то не примечал.
– В минувшую осень посадила. Ишь, какой славный поднимается.
– Странно, Ксения. Посреди вишняка?
– Удивляетесь, Степан Андреевич?.. В честь знаменательного события.
– Петух курицей разродился?
– Вам бы все шуточки… Не хотела говорить, но сердце подсказывает: надо. Может, больше и не увидимся.
– Да куда я денусь, Ксения? Разве что хозяин выгонит, но в Вязниках без работы не останусь. В ресторации стану почтенную публику тешить. Большие деньги зашибу и буду боярином расхаживать в шубе собольей. А затем и самого городничего смещу. То-то мне купцы будут в пояс кланяться.
– Хватило бы вам, Степан Андреевич, насмешничать… Присядьте и послушайте… Дубочек-то в честь восемнадцатого сентября я посадила. Помните тот день?
Стенька пожал плечами.
– Разрази меня гром, не помню.
Ксения печально вздохнула, глаза ее разом увяли, а затем наполнились грустью.
– Какой же вы беспамятный, Степан Андреевич… В этот день… В этот день я призналась вам в любви и вот теперь этот дубочек будет всю жизнь напоминать о вас… Вы, наверное, будете смеяться над моими словами?
В глазах Ксении застыли слезы, а Стеньку охватило волнение. Он неотрывно смотрел в лицо девушки и чувствовал, как в его сердце пробуждается какое-то необычное, новое для него чувство, которого он никогда не ощущал. Руки, казалось, сами легли на трепетные плечи девушки, и Ксения невольно прижалась к его груди, ощущая, как громко бьется его сердце.
– Зачем же слезы?.. Ты и впрямь меня любишь?
– Очень! Только и думы о тебе, Степушка. Ведаю, что ты любишь другую девушку, но ничего не могу с собой поделать. Даже во сне мне видишься. Уж очень ты мне в сердце запал. А ты… ты сильно любишь свою девушку?
– Не знаю, Ксения, не знаю. Настенка мне нравится, но я не понимаю, что такое любовь. Не понимаю! Мне с ней хорошо, весело, иногда мы с ней дурачимся, но я воспринимаю ее, как девчонку. А чтобы душа болела, сохла, была без памяти – такого нет.
– Правда?
– Истинная правда, Ксения.
Ксения подняла на Стеньку свое лицо и очень долго смотрела в его глаза.
– Это не любовь, Степушка, не любовь, – наконец, с каким-то полустоном выдохнула она. – Ты ее не познал… Господи, неужели мои грезы станут явью?
Глаза Ксении вновь наполнились радостным блеском, она что-то хотела еще сказать, но тут послышался голос матери:
– Дочка! Покличь отца. Обедать пора.
Они вышли к избе Томилки вместе. Тот зорко глянул на обоих, и лицо его заметно посветлело. Кажись, Ксюшка в добром расположении духа, коего давно не замечал. Слава тебе, Господи!
– Мать обедать кличет. Зайдешь, Стенька?
– С удовольствием!
Но радужное настроение тотчас исчезло: в воротах показался квартальный надзиратель с городовым. У Томилки сердце оборвалось: вот тебе и не нагрянут.
Квартальный зорко оглядел огород. Все вскопано, земля ухожена и хозяин на месте.
– Посадил, Томилка?
Томилка понурился, казалось, с перепугу у него язык отнялся.
– Посадил, спрашиваю? – рявкнул квартальный.
– Дык, ваше благородие… Оно, вишь ли…
– Буде лепетать!.. Городовой! Проверь.
Городовой принялся разгребать жесткими пятернями пухлую землю гряды, но ни единой картофелины не обнаружил, зато увидел маленькие белые семена.
– Огурец, ваше благородие.
Надзиратель ступил к Томилке и притянул его к себе за ворот рубахи.
– И в других грядах огурец?
– Дык… духу не хватило. Всю жизнь огурцом кормимся. Помилуй, ваше благородие.
– Помилую!
Квартальный со всего размаху ударил Томилку увесистым кулаком по лицу.
– Скотина! Будешь знать, как государево повеленье не исполнять! Усмерть забью!
По лежавшему на изуродованной гряде Томилке прошелся тяжелый сапог.
– Не троньте моего тятеньку! – клещом вцепилась в надзирателя Ксения.
Но и она отлетела на гряду от грузного кулака.
– Да ты что людей калечишь! – вскипел Стенька и так врезал по голове квартальному, что тот замертво растянулся в борозде.
К Стеньке, вытягивая из ножен шашку, сунулся, было, городовой, но его ждала та же участь. Никогда еще Стенька с такой силой не прикладывал к недругам свой могучий кулак.
– Каторга тебя ждет, милок. Беда-то какая, Господи, – поднявшись с земли, угрюмо произнес Томилка.
Ксения, быстро придя в себя, метнулась ко двору и вскоре вывела из него оседланную лошадь.
– Ко мне, Степушка. Живей! Надо бежать из города.
– Куда?
– Я укажу тебе. Прощай, тятенька.






