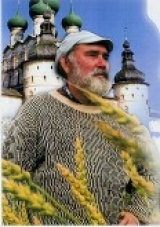
Текст книги "Чертово яблоко (Сказание о «картофельном» бунте) (СИ)"
Автор книги: Валерий Замыслов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Глава 8
ПАХОМИЙ ДУРАНДИН
Пахомий Дурандин вернулся с ярмарки в самом добром расположении духа. Еще с порога, не скинув с себя кунью шапку и полушубок на собольем меху, крикнул:
– Амос! Ставь графин водки. Гулять будем!
– Выходит, с удачей, Пахомий Семеныч?
– А ты как думал? Мой товар не залежится. Глянь!
Вытянул из пухлого бумажника пачку векселей, тряхнул ими в воздухе.
– Вот они – красненькие и синенькие. Большие тыщи в векселя вложены! Как и помышлял – в два дня управился. И-эх, гуляй, изба, пляши, горница!
Пахомий Семеныч, взмахивая тяжелой рукой и притопывая белыми бурками, аж в плясовую пошел. Большой, осанистый, пышнобородый.
– Весьма рад вашему успеху, – выдавил льстивую улыбку Фомичев, а затем сторожко кашлянул:
– Векселя-то надежные, ваша милость?
– Глупый вопрос. Ты что своей безмозглой башкой думаешь, что меня щелкоперы вокруг пальца обвели? Не на того напали. С солидными людьми сделки заключал, и не только на железо, но и на чай. С солидными, у коих капиталы к миллиону скачут. Один заводчик Голубев десять тысяч пудов кровельного и листового железа пожелал заиметь. А чай ныне всяк купец брал. Мода-с.
– Разрешите полюбопытствовать. И дорог ли нынче пуд?
– Это, Амос, кто какой чай любит. У меня ж не один сорт: байховый, кирпичный, черный кантонский и даже цейлонский.
– Ишь ты. Мы-то все российский, кирпичный[58]58
Кирпичный – низший сорт чая, спрессованный в виде кирпичей.
[Закрыть]. Пятнадцать рубликов пуд.
– То – помои. Угощу тебя цейлонским. Дороговат, пять красненьких пуд, но весь разобрали.
– И впрямь, мода-с. Никаких денег не жалеют.
Амос оглядел стол, собранный заботливой рукой хозяйки.
– Кажись, все ладно, Серафима. Ступай в горницу, а мы с их степенством потолкуем… С добрым почином, Пахомий Семеныч.
– С добрым, Амос.
Выпили по чарке, закусили белыми груздями и боровыми рыжиками (хозяин уже знал, что заводчик является большим любителем соленых грибов), а затем их разговор завертелся вокруг ярмарки. Он, перемежаясь рюмками, тянулся бы долго, если бы вдруг Дурандин (уже в изрядном подпитии) не произнес:
– На тот год завалюсь к тебе с одним из самых крупных уральских промышленников. Так что, готовься принимать гостей, Амос Никитич.
– Всегда с полным удовольствием, Пахомий Семеныч, да только как бы мне в ящик не сыграть.
Дурандин даже очередную рюмку задержал подле рта.
– Ты чего мелешь, Никитич? Кажись, на здоровье не жаловался.
– И ныне не жалуюсь… Лихой человек завелся. Убить меня грозится.
– А ну-ка рассказывай, – и вовсе отложил рюмку заводчик.
У Амоса же давно созрела мысль, как рас-
правиться с неугодным ему Стенькой Грачом. И поможет ему в этом хитроумном деле Дурандин.
– Тут вот какое дело, – озабоченно крякнув, начал Фомичев. – Сей Стенька, человек, хоть и молодой, но воровской, так и зырит, где бы чего свистнуть. Ему коня украсть – что плюнуть. Ворует и перепродает. Как-то в сумерках у своей конюшни его застал, а то бы свел моего Гнедка. Сказал ему крепкое словечко, а тот – не только отпираться, но на меня с лопатой накинулся, едва голову мне не срезал, хорошо увернулся. Ему же человека загубить, что комара придавить, ибо сам-то он такой громадный верзила, коих и в губернии, поди, не сыщешь. Теперь и носу из дома не выкажешь. Убить, говорю, меня грозился. А может и красного петуха на дом пустить, бандюга!
Пока Амос складно повествовал о Стеньке, лицо Дурандина наливалось багровой краской, а серые выпуклые глаза становились все колючей и злее.
– Да я этого паршивца, как клопа раздавлю!
Дурандин с такой силой бухнул по столу увесистым кулаком, что миска с солониной полетела на пол.
На шум выплыла из горницы дородная супруга в кубовом сарафане.
– Серафима, принеси свежих грибов из погреба да шматок копченого сала прихвати. Живо!
– Слышь, Амос, – качнулся в кресле Дурандин. – А ты чего в полицию не заявишь на сего прохиндея?
– Сказывал, а проку? Руками разводят. Не пойманный – не вор. А я так мекаю, что Стенька своим барышом с самим исправником делится, но не докажешь. Вот и ходит сей головорез гоголем.
– Больше не походит, не походит! – вновь пристукнул кулаком заводчик. – Как его сыскать?
– Ничего мудреного, Пахомий Семеныч. Ныне он по ярмарке шатается. Приметная личность. На голову выше всех, в бараньем полушубке, лисьей шапке, волосом черен, кучеряв.
– Найду. Своих людишек с приказчиком подключу. Чекмез у меня ушлый. Тройкой раздавлю, паршивца! – опрокинув очередную рюмку, – произнес Дурандин.
– Надо бы тишком, Пахомий Семеныч, чтоб комар носу…
– Ты кого учишь, дурья башка? Аль я своей головы не имею? Да я не такие дела проворачивал!
Амос уже изучил натуру уральского промышленника. В крепком подпитии тот мог и в буйство впасть. Постарался умаслить Дурандина.
– Верю, ваша милость. Умом вас Бог не обделил, ишь, какими капиталами ворочаете. Нам бы вашу голову. Давайте-ка еще по рюмочке за вашу смекалку.
– Наливай, дьявольская душа!..
* * *
На другой день на улице было морозно, но Стеньке в комнате не сиделось. Пошел бродить по шумному городу.
И часу не прошло, как подле Стеньки вдруг остановилась чья-то богатая тройка. Из повозки выбрался кряжистый, чернобородый мужик с раскосыми глазами. То был приказчик Дурандина, Чекмез.
– Не ты ли Стенька Грач, милок?
– Да кажись я, борода.
– Слава тебе, Господи! – размашисто перекрестился приказчик. – Обыскались мы тебя.
Стенька пожал широкими плечами, а Чекмез, изобразив на лице щедрую улыбку, продолжал:
– Выручай, Стенька. Хозяин мой желает изрядно повеселиться. В Юрьевской слободе с цыганами тешится, но цыгане ему уже надоели. Приказал знатного гармониста сыскать. Окажи милость. Купец хорошо заплатит и чарочку поднесет.
– К чарочке не приучен, а вот ядреный квасок… Впрочем, как же вы узнали, что я на гармошке балуюсь? – удивился Стенька.
– По торговым рядам бегали, людей спрашивали. А тут на сулостских огородников угодили, вот они и подсказали. И даже обличье твое. Выручай, милок!
– Однако, – крутанул головой Стенька. – Выручить бы можно, да гармони нет.
– Не изволь беспокоиться, милок. Гармонь тебя ждет.
Стенька на минуту призадумался. За полдень еще не перевалило, времени еще предостаточно. Филат Егорыч все свое время проводит с Мясниковым, а он, Стенька, до вечера предоставлен самому себе. Вчера погулять ему с Настенкой пришлось не столь уж и долго: увидел ее отец и тотчас с местным мужиком, закупившим товар, отправил домой, а Стеньке хмуро заявил:
– Ты вот что, паря, дочь мою забудь. Про тебя тут всякое мужики языками чешут. Немало худого.
– Да враки все это!
– Враки не враки, но я свою дочь оберегу.
– Оберегай! – вскипел Стенька. – Новый приказчик начнет домогаться, кто защитит? Хвосты подожмут. Ты уж лучше, Филимон, Настенку на замок посади.
– Прощевай, – отмахнулся Филимон и зашагал прочь.
У Сеньки же защемило сердце…
Сейчас же он посматривал на умильное лицо приказчика и… думал о гармошке. Может и в самом деле съездить в Юрьевскую слободу, коя в двух верстах от Ростова Великого? Гармошку давно в руках не держал. Так и хочется пробежаться по певучим звонким пуговкам! И раздумывать нечего. Гармонь и печаль развяжет, и душу повеселит. Ехать!
– Обратно довезете?
– Какой разговор. Доставим в наилучшем виде, мил человек.
Вскоре тройка, миновав каменный пятиглавый храм великомученика Георгия и святого Феодора Стратилата, встала у просторного дома бывшего бурмистра Иннокентия Сундукова, который каждую ярмарку пускал к себе цыган, извлекая из этого немалую выгоду, ибо подгулявшие купцы, развлекаемые цыганами, на красненькие не скупились; опричь того дом Иннокентия облюбовали пятеро «веселых» арфисток[59]59
Арфистка – в данном случае женщина легкого поведения, имеющая касательство к тому или иному театру.
[Закрыть], приезжавших из заштатного театра, чтобы опустошить пухлые бумажники толстосумов. Все они были жеманны, недурно одеты и довольно миловидны.
Дом Сундукова был разделен на две половины; одна выходила на улицу, другая – в сад, причем «садовая» часть строения была разбита на несколько комнат, предназначенных для биллиардной, картежной и «опочивальни», в которой «гости» развлекались с барышнями. Иннокентий хотя и торговал чесноком и луком, но основной барыш ему давали ярмарочные дни, коих он нетерпеливо ждал и кои все две недели веселили его душу, когда он с вожделенной улыбочкой пополнял свой довольно уже нешуточный капитал.
В слободе Иннокентия многие недолюбливали, особенно благочестивые люди, называя дом Сундукова вертепом, а его хозяина приличествующими этому определению словами, но Иннокентий, разъедаемый жаждой наживы, к осуждению слобожан был безучастен: золотой телец важнее каких-то патриархальных предрассудков.
Дом Сундукова был заполнен тем оживленным развеселым гулом, кой слышен на всю слободу. Стенька застыл в дверях, ошарашенный увиденным. Посреди комнаты стоял обширный стол, за которым сидели (изрядно уже пьяные) шестеро купцов, а вокруг стола бушевало в огневой пляске цыганское племя, – красочное своими яркими нарядами (особенно женщины) и задорными выкриками, свойственными только цыганам.
Приказчик Чекмез, протолкавшись к столу, что-то шепнул незнакомому осанистому пышнобородому купцу в голубой бархатной жилетке. Тот кивнул, поднялся и поднял руку в дорогих перстнях и бриллиантах.
– Ша, ромэлы! Ша!
Цыгане прекратили неистовую пляску, а Дурандин поманил к себе Стеньку.
– Ты и впрямь умеешь играть на гармошке?
– Балуюсь, ваше степенство.
– Ну, тогда и меня побалуй. Какие гармоники знаешь?
– Их много, ваше степенство.
– Назови, а мы послушаем.
– Отчего ж не назвать? Тульская, саратовская, бологоевская, вятская, ливенка, елецкая, немецкие и венские однорядки и двухрядки…
– Буде. А ты на какой играешь?
– На тальянке, ваше степенство.
Купец глянул на приказчика.
– Сей момент, ваша милость.
И минуты не прошло, как в руках Стеньки оказалась любимая его тальянка – новая, ярко расписанная, с малиновыми мехами. Чувствовалось, что гармонь только что извлекли из лавки, но певучая ли? Не всякий мастер способен сотворить божественные звуки, способные даже мертвого пустить в пляс.
Пробежался по перламутровым кнопкам и тотчас определил: гармонь добрая, на такой играть – одно удовольствие.
– Что изволите послушать, ваше степенство?
– Давай песни, а там поглядим.
Дурандин вернулся к собутыльникам, а Стенька завел одну из любимых народных песен. Купцы охотно подтянули. Затем последовала вторая, третья, пока Дурандин, изрядно загрузившийся водкой, прокричал:
– Давай «русского!». Гуляем, православные!
Стенька заиграл с «выходом». Дурандин хоть и был изрядно пьян, но пляску исполнил недурно, – и все это с залихватским уханьем, посвистом и тяжелым топотом хромовых сапог с черными толстыми каблуками. Плясал в одной жилетке, поверх которой подпрыгивала золотая цепочка, тянувшаяся в карман с круглыми золотыми часами. Пышная рыжая борода растрепалась, желудевые глаза сверкали, а из приоткрытого губастого рта хрипло вырывалось:
– Гуляй, Ирбит!.. Пляши, губерния!..
Купцы дружно хлопали и еще больше задорили:
– Давай, Пахомий!.. Молодца-а!..
Наконец выдохся Пахомий; пот заливал раскрасневшееся лицо; покачиваясь, подошел к Стеньке, вытянул из кожаного бумажника сторублевую ассигнацию и положил ее на гармонь.
– Потешил, голова кучерявая. Чарку гармонисту!
– Благодарствуйте, ваше степенство, но водку я не пью.
– Удивил, парень. Курица и вся три копейки – и та пьет. Пей, тебя сам Пахомий Дурандин просит. Пей!
Быть бы бузе, но тут к заводчику вовремя подбежал приказчик с большой оловянной кружкой.
– Я извиняюсь, ваша милость, но сей гармонист пьет только особую водку.
– Какую еще особую?
– Можжевеловую.
– Да ну? Она же крепче анисовой. Молодцом, парень.
Дурандин пошел к столу, а Чекмез шепотом произнес:
– То – квас, но пей как водку, иначе не отвяжешься.
Стенька все понял и неторопливо, морщась, осушил всю кружку. Крякнул.
– Крепка, подвздошная! Хоть бы огурчика кто поднес.
– Сей момент!
Закусив пупырчатым огурцом, Стенька отошел поближе к дверям и опустился на стул, угодливо поданный приказчиком.
– Отдохни, голубок… Денежку-то подальше спрячь. В этом доме всякой шушеры хватает.
– У меня не вытянут… А хозяин твой, никак, богат.
– Да уж не без капитала.
Потолковали о том, о сем, а затем Стенька почувствовал, что его неудержимо клонит в сон.
– Разморило меня что-то, борода.
– Душно тут, голубок, сидя засыпаешь. Прилечь тебе надо. Идем со мной.
Вскоре Стенька оказался во дворе на куче сена и тотчас провалился в непробудный сон.
Чекмез довольно крякнул. «Сильное зелье сготовила старая цыганка. Прощай, голубок, ночью сдохнешь, а чтобы ничего не заподозрили, ворота приоткроем. От холода-де замерз, и вся недолга, хе»…
А тем временем в доме Иннокентия Сундукова продолжалось шумное гульбище. Пахомий Дурандин как всегда был в центре внимания. После пляски он вызывающе повздорил с каким-то низеньким, прыщавым торговым человеком в «спинджаке», обозвав его шулером; тот страшно разобиделся, замахнулся на Дурандина кулаком, но грузный Пахомий так на него рыкнул («Да я тебя в порошок сотру!»), что купчик поспешил ретироваться.
Затем Дурандин перешел в игорную комнату. Здесь царила абсолютно противоположная атмосфера, насыщенная напряженной тишиной, перемежаемая, казалось бы, покойными разговорами, хотя за каждым безмятежным словом скрывались невиданные страсти, ибо здесь собрались известные игроки, «профессоры» карточных дел, о чьей игре и суммах денег складывались легенды.
Еще до вхождения в игорную комнату приказчик почтительно предупредил:
– Не извольте обидеться, ваша милость, но лучше бы вам играть на трезвую голову. Тут такие мастера – ого-го! Из Москвы пожаловали, обдерут как липку. Пожалейте ваши капиталы.
– Цыть! У меня ни в одном глазу. Цыть! – осадил приказчика Дурандин.
И в самом деле, когда Пахомий садился за игральный стол, пьянь, как по волшебству, покидала его, и весь его организм разом перестраивался, удивляя приказчика.
Появление Дурандина, казалось, не произвело на игроков никакого впечатления, лишь банкомет, кучерявый, узкоплечий человек, одетый по последней столичной моде, кинул на вошедшего хваткий, острый взгляд.
За игральным столом красного дерева, с толстыми витыми ножками, находилось четверо мужчин; рядом находился еще один стол с винами и закусками. Тут же толпились около десятка купцов, кои внимательно наблюдали за игрой, перешептывались:
– Яков Давыдыч уже десять тыщ выиграл. Везунчик.
– Коган каждый год в барыше бывает. Ловко-с банкует.
– Дурандин появился. Ну, теперь держись, господа честные…
Пахомий оглядел публику. Многих он уже знал: фабриканты, водочные тузы, сибирские золотопромышленники, скупщики хлеба, торговцы пушниной, короли железа…Что ни человек – денежный мешок, для которых тысяча рублей – мелочь, но когда дело доходило до более крупных сумм, некоторые, не желая больше рисковать, выходили из игры.
А за столом один из купцов, с побледневшим лицом, проигрывал Якову Давыдычу карту за картой. Убили первую, вторую, третью. Отсчитав дрожащими руками несколько тысяч, подавленно произнес:
– Больше не могу-с.
Дурандин занял его место и произнес:
– Желаю присоединиться, господа. Не возражаешь, Яков Давыдыч?
– Помилуй, Пахомий Семеныч. Мы ведь не первый год картишками перекидываемся… Ваша ставка?
– Пятнадцать тысяч.
Зеваки ахнули, а Коган выдавил на хлыщеватом черноусом лице лестную улыбку.
– Браво, Пахомий Семеныч. Ваша карта.
Дурандин остановился на четвертой карте. Ему, как показалось, повезло: двадцать очков – весьма недурно.
– Вскрываю.
Банкомет положил поверх карт Дурандина десятку и туза и придвинул к себе пятнадцать тысяч.
– Будем продолжать?
– Лишний вопрос. Двадцать тысяч!
Но и эта огромная сумма денег была проиграна. Дурандина же захватил азарт. Выпив рюмку с соседнего стола и не закусив, он назвал следующую сумму.
– Пятьдесят тысяч!
Названная сумма была оглушительней. Потрясенная публика еще теснее придвинулась к столу. Дурандин страшно рискует, ибо Коган непременно сорвет такой впечатляющий куш.
Пахомий внимательно посмотрел на тонкие, быстрые пальцы банкомета (на редкость – без единого перстня), и это обстоятельство навело его на подозрительную мысль: еврейчик работает с колодой карт, как фокусник. Каждый год он увозит в Москву чемодан денег. Уж не шельмует ли? И когда на кону оказалось пятьдесят тысяч, что привело зевак в изумление и трепет, Пахомий вновь посмотрел на ловкие пальцы банкомета и вдруг произнес то, чего от него никто не ожидал:
– Позвольте осмотреть вашу колоду, милостивый государь.
Яков Давыдыч вспыхнул, в острых глазах его сверкнули злые огоньки.
– Вы полагаете, господин Дурандин, что я банкую мечеными картами?
– Пока не знаю, но невозможно во всех играх бить карту за картой. Не чересчур ли вам везет, господин Коган? Извольте колоду.
– Ваше право, господин Дурандин, – покривился банкомет.
Осмотр продолжался под гул ошарашенной толпы, но исследование не принесло результата, однако Пахомий знал, что искусные шулера так подделывают карты, что липу невозможно отличить самым зорким человеческим глазом.
– Вы не будете возражать, милостивый государь, если я потребую заменить колоду?
– Ваше право, – желчно повторил Яков Давыдыч, и когда в его руках оказались новые карты, поданные со стола, Дурандин вновь внес неожиданное для публики предложение:
– Вы не можете вашими пальчиками тасовать колоду в неспешном темпе?
– Черт побери! Это уж чересчур! – вскричал Яков Давыдыч.
– Вы видите разницу? Но при честной игре это ничего не значит. Если вы не согласны, то я могу полагать вас шулером. Шулером!
Лицо банкомета побагровело до мочек ушей. К столу подскочили трое московских молодчиков в цилиндрах.
– Вы не смеете, господин Дурандин, указывать господину Когану, как ему тасовать карты. Это не по правилам!
Пахомий поднялся со стула.
– А ну цыть отсюда, прохиндеи, пока моего кулака не сведали! Цыть!
Вид богатыристого Дурандина был настолько устрашающ, что молодчики отступили, а Пахомий, вновь опустившись на стул, настоял на своем предложении:
– Если вы честный игрок, господин Коган, вам нечего бояться. От того, как тасуют и сдают карты, игра не зависит. Докажите почтенной публике, что вы не подлец.
– Извольте! – вскричал Яков Давыдыч. – Я буду тасовать медленнее черепахи.
Публика замерла. Казалось, каждый из зевак даже дышать перестал. Чем-то кончится сия баталия, когда на кону пятьдесят тысяч.
Дурандин слегка задумался, когда у него оказалось семнадцать очков. Сумма далеко не выигрышная.
– Вам достаточно? – усмехнулся Коган.
Дурандину грозил перебор, но он все же решил рискнуть.
– Была не была! Еще одну.
Король! Теперь только два туза могут спасти Когана, но у того оказалось две десятки.
С кислой миной Яков Давыдыч расстался с громадной суммой.
– Желаете продолжить, господин Дурандин?
– К сожалению, господин Коган, меня ждут другие дела… Приказчик!
Следующей комнатой была «опочивальня», где купцы развлекались с арфистками.
– Боже мой, кто к нам пришел! Пахомий Семеныч!
– Лукреция? Ха! Ты выглядишь еще прекрасней, чем прошлый год. Как тебе это удается?
– Да ты разве не знаешь, котик? – кокетливо произнесла девица. – Живи в любви – и ты никогда не состаришься.
– Золотые слова, Лукреция. Сегодня я тебя буду любить.
«Опочивальня» Иннокентия Сундукова напоминала будуар: мягкая мебель, зеркала, картины фривольного вида, ковры, цветы, граммофон, из которого доносилась медленная тихая музыка.
Пятеро подгулявших купчиков держали на коленях разомлевших от шампанского и амурных слов арфисток и с блаженным видом шарили руками по их выпуклым местам, куда особенно тянутся руки похотливых мужчин.
Пахомий увидел человека, облаченного в лакейскую форму (Сундуков и об этом постарался) и звучно щелкнул пальцами.
– Что изволите, ваше степенство?
– Тебя как звать?
– Василием, ваше степенство. Весь – внимание.
– Дамам – пять бутылок шампанского, торт, конфеты и мороженое! И чтоб всё в наилучшем виде! Живо!
– Сей момент, ваше степенство.
Василий мгновенно испарился, а дамы захлопали в ладоши.
– Какой же вы джентльмен, Пахомий Семеныч, – сказала Лукреция.
В своем черном бархатном платье с большим вырезом на груди и оголенными плечами арфистка выглядела довольно обольстительной, ибо имела отменную фигуру, чем и привлекала купчиков. Однако не каждому она была по зубам, так как ставки на проведение с ней ночи были весьма внушительными.
Когда стол украсился заказом Дурандина, Пахомий весело возгласил:
– Милые дамы, прошу!
Опочивальня огласилась звоном хрустальных бокалов, оживленным смехом арфисток.
Купчики, оставшиеся без дам, с неудовольствием посматривали на Дурандина; час назад они тоже потчевали арфисток, но не с таким шиком, полагая, что арфисткам достаточно и не столь богатого угощения, тем более что за каждый продолжительный поцелуй они получали по синенькой.
Пахомий купчиков не знал, но тотчас понял, что они ему не соперники, так как все они были почтенного возраста, для которых главная цель исходила из известной частушки: «Ты, милашка, скинь рубашку, на нагую погляжу, ничего делать не буду, только ручкой повожу».
– Лукреция, довольно тортом себя пичкать, иначе твои формы перестанут привлекать мужчин. Иди ко мне, – приказал Пахомий.
– Еще кусочек, котик. И я – ваша.
– Позвольте! – недовольно возразил седовласый купчик с тыквенным лицом. – Вы опоздали, сударь. Не имею чести вас знать. Лукреция – моя дама. За все уже заплачено.
– Уральский заводчик Дурандин, – представился Пахомий и с усмешкой продолжал. – За что заплачено, осмелюсь вас спросить? Я вижу здесь два пустых стола, а что пусто, то не густо. Лукреция!
Лукреция, широко улыбаясь, села на колени Дурандина и тотчас впилась в его губы.
Обиженный купчик вытянул из бумажника сотенную.
– Лукреция, покинь этого господина. Я дарю тебе сто рублей.
– Хо! – громыхнул Пахомий. – Нашел чем удивить. Спрячь свою мелочовку… Василий! Поднеси нам по бокалу шампанского. Гульнем, Лукреция?
– Гульнем, котик!
Купчик плюнул и ретировался из комнаты. Пахомий проводил его веселым хохотом.
– Гульнем, господа честные!
Оставшиеся господа честные (хоть и давно покинула их кровь молодецкая) поддержали Пахомия:
– Гульнем, господин заводчик!
– Человек! Заводи веселую!
И пошла писать губерния! Дамы, знающие приемы кордебалета, с хохотом и визгом кинулись в пляс, а «кавалеры» пили шампанское и водку, любовались непристойными движениями женщин и выкидывали из бумажников красненькие и синенькие.
Дурандин подошел к столу с граммофоном и остановил с пластинки иглу.
– Господа, давайте попросим нашу очаровательную Лукрецию исполнить канкан.
Господа захлопали в ладоши.
– Канкан, канкан, Лукреция!
– Фи! – жеманно выпятила пухлые губы арфистка. – Я же не в театре. Здесь нет сцены.
– Будет сцена… Василий, сдвигай все столы!
Но Лукреция продолжала наигранно упорствовать:
– Какие же вы шалуны, мужчины. Нет, нет… Канкан – слишком дорогое удовольствие.
– Какие проблемы, Лукреция? Господа, тряхнем бумажниками!
«Старички» не поскупились (канкан!) и выложили из бумажников по пятьсот рублей. Но арфистка замахала руками.
– Разве это деньги? Фи!
Старички заерзали на креслах: скупость побеждала похоть, но тут всех поразил заводчик.
– Десять тысяч, Лукреция!
Арфистка была сражена. Она кинулась к Пахомию на шею и горячо поцеловала его в губы.
– Какой же вы милый, котик… Но мне надо переодеться.
– Конечно же, моя любезная.
Ох уж эта Лукреция! Все-то она предугадала. Спустя несколько минут она выпорхнула из маленькой уборной, уставленной недорогой косметикой, в коротеньком платьице французской гризетки. Старички заметно оживились: было на что посмотреть.
Пахомий словно пушинку поставил ее на сдвинутые столы и кивнул лакею, застывшему у граммофона. Вначале из трубы послышался треск и шип, а затем полилась знаменитая, энергичная французская музыка. Подождав несколько секунд, Лукреция исполнила первый куплет, а затем ловким движением собрала веером юбки и начала канканировать.
У старичков загорелись глаза при виде полных икр и изящных коленей, затянутых в розовое трико.
– Браво, Лукреция, браво!
Когда замолк граммофон, Дурандин подхватил арфистку на руки и понес в туалетную комнатку.
– Переодевайся, любезная, и поедем ко мне.
– В тот же дом, как прошлый год?
– В тот же. Там гульнем на славу.
– С тобой хоть на край света, котик…
Экипаж Дурандина двинулся к дому Амоса Фомичева.






