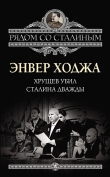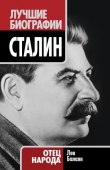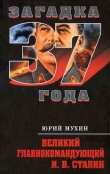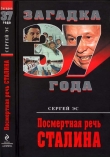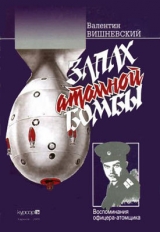
Текст книги "Запах атомной бомбы. Воспоминания офицера-атомщика"
Автор книги: Валентин Вишневский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Несколько дней я работал с формулярами: определял вес и характеристики отдельных блоков и вносил их в специальные бланки. Далее требовалось все просуммировать и определить общий вес изделия. Суммировал в столбик, как в школе, в результате чего каждый раз получал разные цифры.
– Давай спокойно и не торопясь определим этот вес вместе, – предложил Нырков, и мы пошли в его загородку, которую он называл кабинетом.
Я воспользовался этим случаем, чтобы поговорить с полковником о будущей работе:
– Товарищ полковник, чем я буду заниматься после окончания работы с документами?
– Я направлю вас к автоматчикам. Там работа интересная, и ее всегда хватает.
– Но я же радист. Хотелось бы работать по специальности.
– В армии все может быть. Вот я специализировался по ПУАЗО, а приходится работать с изделиями. Радио вы и так знаете. А чтобы освежить знания по специальности, я вас буду иногда отправлять на работы по испытаниям и проверкам радиоаппаратуры.
– Теперь у меня еще есть личный вопрос.
– Квартиру получили? – поспешил перебить меня «дед».
– Да. Комнату в общежитии вместе с Пересторониным. Я ведь холостяк.
– Холостяк – это хорошо: любая Дунька в твоем распоряжении. Только не бери в жены первую попавшуюся. Смотри, чтобы родители были чистые, не было родственников где-нибудь в Америке. А то могут к нам и не пустить.
Полковник Нырков старался свое слово сдерживать: время от времени он направлял меня на проверки аппаратуры радиоканала и «трубок Векшинского», которые стали к нам поступать как новые источники нейтронов. Но большая часть времени все же уходила на такелажно-монтажные работы. Это была разгрузка ящиков с комплектующими составными частями будущих изделий, подача блоков на стапеля сборки, приборка и транспортировка свободной тары.
В «каменном городке» сдали в эксплуатацию новое общежитие. Я получил комнату вместе с Юрой Пересторониным. Наша комната № 18 на втором этаже была угловой, светлой и просторной. Окнами она выходила во двор, вокруг которого кольцом стояли частично еще недостроенные дома.

Юра Пересторонин любил поспать, а на работе – хотя бы позевать. 1956 г.
В комнате были две кровати с деревянными стойками, большой полированный шкаф для одежды, круглый стол, тумбочки и стулья. На столе, всегда застеленном свежей скатертью, неизменно стоял графин со свежей водой и два стакана. Об этом постоянно заботился обслуживающий персонал общежития. Он же производил в наше отсутствие уборку. Если добавить, что на полу был большой красный ковер, то на бытовые условия грех было жаловаться.
Одновременно с общежитием были сданы в эксплуатацию квартиры для вновь прибывших женатых офицеров. Получили квартиры супруги Бахаревы и Келеберденко.
В первый же вечер после переселения было устроено шумное новоселье. Для этого заранее был заказан пропуск в райцентр, и «гонец» привез целый чемодан спиртных напитков: водки и смородинного вина. На территории объекта официально соблюдался сухой закон, а посему спиртное не продавалось.
Новоселье было прекрасным поводом, чтобы познакомиться ближе с членами нашей сборочной бригады. Это были, в основном, старшие лейтенанты разных родов войск, которые после окончания училищ и курсов получили назначения в арсеналы. Служили охотно и безропотно. Все они пошли в армию добровольно, были пока еще неженатыми и считали за удачу получать повышенные оклады и разного рода надбавки (секретность, вредность и прочее). Внешне эти старлеи мало чем отличались друг от друга, да и фамилии у них были какими-то схожими: Клепинин, Мухлынин, Редькин.
Из наших, багеровских, были: Бахарев, Келеберденко, Камин, Дубикайтис, Пересторонин и я. Всех их, инженеров по образованию, из-за пресловутых финансовых трудностей пока держали на должностях техников. И хотя начальники убеждали, что это – временно, мы интуитивно чувствовали, что – надолго. За это время произойдет естественная сепарация по достижениям, проступкам и другим характерологическим качествам, так что некоторым своих инженерных должностей придется ждать очень долго. Не удивительно, что большинство из наших к службе относились прохладно, а некоторые стремились демобилизоваться.
Сослуживцы старлеи этого не могли понять, искренне удивлялись желанию уйти из армии, страшили низкими гражданскими окладами и просто смеялись над нашей, как они полагали, глупостью.
– Вот ты сейчас сколько получаешь? – спрашивает один из них.
– Со всеми надбавками и звездочками – 2530 рублей.
– А инженер на гражданке – 900 рублей, и никакой надежды на жилплощадь. Разница есть?
– Когда-нибудь встретимся в ресторане: мы, офицеры, и вы гражданские. Мы – сидим выпиваем, что хотим – едим, что хотим – заказываем, а вы заходите и считаете свои жалкие рублики. Потому что мы – можем себе позволить погулять, а вы – только покушать. Ведь сказано – от добра добра не ищут! – убеждал нас то ли Клепинин, то ли Мухлынин.
* * *
Понемногу я освоился в сборочной бригаде полковника Ныркова. Мне здесь даже стало нравиться. Работа разнообразная и живая, требующая физических усилий и определенной сноровки. Отношения членов бригады друг к другу доброжелательные, хотя и по армейски грубоватые, сопровождаемые соленым юмором и необидными подначками. К старшим офицерам часто обращаются по имени и отчеству, не подчеркивая чины и звания. Во время работы все держатся как равные. После Багерово я был удивлен гражданской атмосфере во взаимоотношениях, духом товарищества, особенно среди младших офицеров. Военщины как таковой, с ее уставами, караулами и другой официальщиной, здесь не было.

В разгрузочных работах участвовали все. 1956 г.
Начальник, хоть и хлопотливый в своей требовательности, но добрый и не злопамятный человек. Никакой формальной дистанции с подчиненными не держит, любит рассказывать и слушать жизненные истории и анекдоты. К тому же обладает актерскими данными. Как-то проезжали мы в автобусе мимо живописного места на опушке леса и полковник, глядя в окно, сказал:
– Неплохо бы дачку здесь построить. Но как ее построишь: стройматериалов нет, шифера на крышу не достанешь, рабочих не найдешь. Все надо выбивать, выпрашивать, добиваться разрешений.
Был бы я там, у капиталистов, поднял бы телефонную трубочку и сказал: «Алло, алло, мистер Браун? Это говорит полковник Нырков: мне надо построить дачу в Измайлово». И что бы вы думали: не успел бы полковник приехать домой, как его бы уже ждали с альбомом проектов, со сметой стоимости и вопросом – когда бы вы хотели иметь дачу. Вот я работаю в системе с первых дней ее основания, а дачи так и не имею. Правда, на хрен она мне здесь нужна. Но под Москвой – не отказался бы. – и полковник мечтательно прищурил, как кот на солнышке, свои узкие глазки.
Выезжая за производственную зону, Нырков, сидя на командирском месте у дверей, обязательно говорил:
– Все, товарищи офицеры: о работе – ни слова, только – о бабах и бл… Ну, Каленников, ты своей Дуньке дурака под кожу запустил? Смотри, чтоб она, дура, не забеременела. А то был тут у нас один случай. – и он рассказывал восхищенным слушателям очередную историю неразделенной любви.
Подчиненные его уважали и беспрекословно выполняли все приказы и поручения. А он был в курсе их дел и постоянно чем мог, тем и помогал в житейских трудностях. Возраст давал себя знать, и полковник часто дремал в своем углу в конце зала. Он клал перед собой инструкцию, подпирал голову левой рукой и мирно посапывал, автоматически барабаня пальцами правой руки по крышке стола. В полутемном углу, освещаемом только кругом света настольной лампы, он издали казался бодрствующим. Все этот его прием знали, и потому в таких случаях старались не производить лишних стуков.
Этим обстоятельством даже пользовались. Нырков очень придирчиво относился к составлению разного рода инструкций. Много раз отправлял их на исправления и доработку, даже не дочитывая до конца.
После нескольких таких возвратов, составитель инструкции осторожно подбирался к столу дремлющего начальника и перелистывал текст почти до конца. Потом специально ронял на пол ключ и производил шум, который при сборке изделия не допускался. Полковник мгновенно просыпался и спрашивал о причинах шума. Составитель инструкций извинялся: мол, уронил ключ, не забывая при этом спросить о судьбе своего труда.
– Это же совсем другое дело, – взглянув на текст инструкции, говорил Нырков и ставил подпись под документом. – Видно, что потрудился. Молодец! Я всегда говорил и говорить буду: над инструкцией надо работать много и аккуратно. Это тоже наша работа. И хотя наше главное дело стоит на стапелях, но о нем судят по сопроводительным документам. Никогда не забывайте, с чем и для чего вы работаете.

Двери тоже открывались вручную. 1956 г.
Обычно рабочий день продолжался 8 часов. К девяти утра автобус привозил нас к сооружению, с 13 до 14 – обеденный перерыв, во время которого тот же автобус возил в гарнизонную столовую, и в 18 часов – конец рабочего дня. В авральные дни этот спокойный распорядок мог быть существенно нарушен. В такие дни не существовало ни суббот, ни воскресений, ни праздников. В эти дни сборочная бригада должна была собрать и оснастить несколько изделий. Итогом этих напряженных дней была работа, именуемая «перевалкой».
Само слово «перевалка» означало, что изделия надо было «перевалить» из подземелий арсенала на ремонтно-техническую базу аэродрома.
Одна из таких «перевалок» происходила следующим образом. Всю сборочную бригаду и другие спецслужбы поднимали ночью по тревоге и собирали в управлении объекта.
– Все собрались? Кого еще нет? – спрашивает Кирьянов, ответственный за сбор бригады.
– Бахарев встает. Редькин застегивает комбинезон…
– А где Дубикайтис?
– У него болит аппендицит.
– Вот сачок попался. Как с женой Баранова в кино ходить – аппендицит не болит, а на работу – болит. Я после операции на четвертый день уже ящики таскал. И ничего не случилось, – и добавлял: – Что-то невесело собираемся.
– Сейчас Пискарев придет, траванет пару анекдотов – сразу веселей станет.
В автобусе темно. Разговор не клеится: и спать не хочется, и говорить неохота. Забиваюсь в дальний угол автобуса.
Приходит капитан-лейтенант Пискарев, высокий морской офицер – балагур и весельчак:
– Молодая жена жалуется подруге, что ее муж пьет, – начинает он с порога. – «Если ты знала, что он пьяница, – удивляется подруга, – зачем же ты за него выходила?», – «Я понятия не имела, что он пьет, пока однажды он не пришел домой трезвый. Тут все и открылось».
Появление Пискарева вносит оживление, а его антиалкогольные анекдоты, как он их называет, пользуются успехом:
– «Алкоголь – источник всех бед в семейной жизни, – говорит лектор. – Сколько мы знаем случаев, когда жена покидает мужа, потому что он пьет».. Кто-то из зала спрашивает: «А вы не скажете, сколько точно надо выпить, чтобы она ушла?»
Народ охотно ржет и окончательно просыпается. Автобус подъезжает к управлению. У входа стоят командир части и начальники служб.
– Клепинин, Москвин, Редькин и Кочетков – на точку. Капитан Кочетков – старший. Остальные – на «перевалку». Сейчас подойдут еще люди! – узнаю по голосу майора Маркова.
Заходим в кабинет Филиппова. На диване, в креслах и на стульях сидят люди – в комбинезонах, ватниках, лыжных куртках и просто в полевой форме. Марков проверяет присутствующих по списку.
Снова садимся в автобус и едем к главному КПП, возле шлагбаума которого видны голубые фуражки. Наш автобус выпускают за зону без проверки. Он медленно поднимается вверх и въезжает в лес. Навстречу бегут белые придорожные столбики. Иногда появляются черные избы, в окнах которых тускло мерцают огоньки. Лучи фар вырывают из темноты высокий забор с колючей проволокой наверху, сторожевую вышку и КПП. Автобус въезжает во двор, загроможденный контейнерами, кабельными катушками, штабелями досок и подъезжает к железнодорожной платформе. Через оба пути перекинут портальный подъемный кран. Под фонарем на мгновение мелькнула фигура Филиппова в плаще и новенькой армейской фуражке.
– Несколько человек – за мной. Возьмем траверсу, – командует незнакомый мне офицер.
– О, прорезался первый начальник, – замечает Фаломеев. – У них там в «хохландии» все любят командовать.
Речь идет о майоре Дьяченко, который скрылся в темноте с полной уверенностью, что за ним идет несколько человек. Но пошли всего два, да и те растворились в темноте за ящиками.
– Автобус! Выходи все, если не хотите – несколько человек. Пора начинать! – снова командует майор.
Во двор заехал первый МАЗ с изделием в металлическом контейнере. Пресловутая траверса уже подвешена к крюку подъемного крана и опустила на контейнер четыре троса. Мухлынин и Клепинин цепляют их крюки к рым-болтам контейнера и докладывают: «Траверса закреплена!» И сразу же после команды знакомо заскрежетали цепи подъемных талей. Контейнер оторвался от борта грузовика, замер на несколько секунд и плавно поплыл в сторону открытой платформы. Первое изделие погружено.
Постепенно все нашли свою работу: кто сгружает контейнеры, кто крепит их толстой проволокой к платформе, кто прибивает брезентовые чехлы планками к доскам платформы, кто пломбирует углы зачехленного изделия свинцовыми пломбами. А потом все дружно вручную выкатываем платформу из-под крана за ворота на свободный путь.
Моей фамилии майор Дьяченко еще не знает, но работу находит быстро и изобретательно:
– Лейтенант, возьмите планки и приготовьте крепеж для брезента.
Не успеешь найти планки, как он уже бросает тебя выправлять крепежную проволоку или на пломбировку. К концу работы начальников становится все больше. По-прежнему суетится Дьяченко, командует Марков, дает советы Филиппов.
Я и Келеберденко неспеша ставим пломбы на углы брезента.
– Вишневский, не спеши – впереди еще погрузка в вагоны ящиков и «бочек», – и тут же переходит на украинский. – Ти звiдки родом?
– З Одещини.
– А я – з Полтавщини. От якби я був удома – працював би собi в полi, пiсля роботи iв галушки и запивав би узваром. От добре на Украiне! А тут…
– А тут ти робиш iсторiю, стираеш межi мiж розумовою i фiзичною працею.
– У нас зараз яблучка, грушi, вишеньки у садку. А тут…
К рассвету работы по погрузке заканчивались. В курилке людей становилось все больше.
– Нужно завести учет количества отработанных за неделю часов, – предложил Кочетков. – Сами и будем отмечать, сколько работаем. А потом пошлем, куда следует.
– И куда же это мы их пошлем?
– Хотя бы Хрущеву…
– А тебе ответят: у военнослужащих день не нормирован! – вмешался Милютин.
– Ничего подобного: был приказ Жукова о восьмичасовом рабочем дне для офицеров. Нас могут вызвать на службу в любое время, но заставлять работать больше восьми часов не имеют права. В противном случае – отгул, – не унимался Кочетков.
– Держи карман шире! Не забывай, что сегодня надо будет работать еще после обеда – аврал.
– Пора есть мясо, – мрачно подытожил Бахарев и направился к автобусу.
В эту ночь мы разгрузили четыре МАЗа. По количеству отправляемых изделий и частоте «перевалок» проницательные умы могли судить о напряженности международных отношений и возможности возникновения военных конфликтов.
Одно из таких событий, подтверждающих эту взаимосвязь, происходило осенью 1956 года. В Египте всенародным голосованием был избран президентом Гамаль Абдель Насер. Амбициозному политику для строительства плотины в Асуане и продолжению борьбы с Израилем нужны были деньги и вооружение. С просьбой о кредитах он обратился к Лондону и Вашингтону. Соединенные Штаты и Великобритания в кредитах и оружии отказали. В ответ на это Насер 26 июля принял решение национализировать Суэцкий канал и обратился за помощью к Москве.
Советский Союз предоставил Египту и деньги, и оружие, хотя Насер в это время держал многие тысячи коммунистов в тюрьмах.
Пытаясь удержать канал в своих руках, Англия и Франция приготовились к высадке десанта на Синайский полуостров. Назревал военный конфликт между Западом и Египтом, с энтузиазмом поддерживаемый Никитой Хрущевым. Вот тогда-то, в августе, у нас под землей и интенсифицировались сборки изделий, чаще объявлялись авралы и участились «перевалки».
Первая партия оружия из СССР поступила в Египет 27 сентября. Конечно, в этой партии не было и быть не могло наших изделий. Но возможность широкомасштабной войны существовала, и стратегическое оружие Советского Союза уже было готово к действию.
Как известно, 9-дневная война Великобритании и Франции против Египта закончилась тем, что агрессоры вынуждены были вывести свои войска из района Суэцкого канала. Насер и Советский Союз праздновали победу.
Подобное же происходило и во время событий в Венгрии в октябре-ноябре 1956 года. Попытка так называемого «контрреволюционного мятежа», когда Венгрия захотела покинуть опостылевший ей социалистический лагерь, привела к новому международному противостоянию. Конфликт между Западом и Востоком готов был перерасти в реальную войну. Не зря Хрущев объявил тогда миру, чтобы он не удивлялся, если на Лондон и Париж полетят атомные заряды.
В эти дни нам приходилось работать днем и ночью, отправляя на «перевалку» один за другим МАЗы с изделиями. Тогда я впервые понял, что к готовящемуся безумию прикладываю руки и я, лейтенантик, который в своей жизни убивал только воробьев из рогатки.
После вывоза продукции в неизвестном нам направлении, наступало несколько дней затишья. Новых сборок не начинали, а занимались приборкой зала и наведением порядка в подсобных помещениях. Надо было рассортировать и убрать многочисленные ящики, контейнеры и кабели, освободить стапеля от лишних предметов и приборов, подготовить центр зала для будущих сборочных работ. Во время одной из таких уборок я получил первую производственную травму. Надо было откатить в хранилище одно из изделий, установленное на рельсовой тележке. Передвижение по рельсам требует значительно меньших усилий, чем на тележке с шинами, но коварно тем, что останавливать рельсовую тележку значительно труднее.
Легкость хода по рельсам при небольших усилиях создает обманную уверенность в том, что и для остановки ее требуется совсем немного. Вот я и попытался остановить медленно идущую по рельсам тележку с изделием. К моему удивлению, усилий оказалось мало, и изделие вертикальной частью стабилизатора рассекло мне левую бровь. Кровь залила глаз и напугала моего напарника Мухлынина. Ничего страшного не произошло, но шрам на левой брови сохранился на всю жизнь. Ребята подтрунивали: вот и ты пострадал от бомбы!
Свободного времени становилось больше. Все длительнее были перекуры на свежем воздухе, все чаще офицеры, как пацаны, играли в «орлянку» за производственной территорией. Многие уходили в лес за грибами. Этой «тихой охотой» увлекалось большинство членов бригады. Были среди них свои чемпионы по белым грибам, рекордсмены по подберезовикам и подосиновикам.
Грибов было великое множество. Изолированный рядами колючей проволоки лес не посещался никем, кроме тех, кто работал в его холмистых подземельях. Достаточно было с часок походить по лесу, чтобы насобирать десяток-другой отличных грибов. Наиболее удачливые места назывались именами их первооткрывателей – «Фаломеевские места», «Милютинская горка».
В качестве экзотики за грибами ходило и высокое начальство: инспектирующие объект генералы и полковники, руководящие работники Управления. Рассказывали, что водили в лес самого маршала Неделина. К своей радости он лично собрал с десяток подосиновиков, а с объекта увез большой пакет сушеных белых – на это пошел весь дневной улов сборочной бригады. Как бы там ни было, но в осеннее время года все возвращались с работы домой с грибами.

Грибы – наша неизменная радость. 1956 г.
Не отставали от лучших грибников и мы с Пересторониным. Бродили по холмам, поросшим золотыми соснами и синими елями, спускались в долины, где среди берез и осин прятались красноголовые подосиновики, пробирались среди зарослей папоротника и ландышей, вдыхая запахи тронутого увяданием леса. Поначалу готовили супчики и грибы с картошечкой, но когда грибная еда поднадоела, стали их сушить. Окна в комнате были завешаны связками отборных белых, распространяющих грибной запах по всему общежитию.
* * *
– Лейтенант Вишневский, Вы сегодня заступаете на дежурство по управлению, – объявил мне как-то полковник Нырков. – Поздравляю вас с первым дежурством и напоминаю об ответственности, которая ложится на плечи дежурного офицера. Желаю спокойного дежурства.
Получив табельное оружие, я расположился в дежурной комнате и стал изучать Инструкцию дежурного по объекту. В обязанности его входило: выдача допусков и ключей на вскрытие производственных сооружений, выдача пропусков для сотрудников и материальных пропусков на транспортировку грузов, ответы на многочисленные телефонные звонки, выполнение поручений командования.
В рабочее время дежурный сидел в отдельной комнате, а во время отсутствия начальника арсенала – в его кабинете. Я сразу же почувствовал разницу между учебными дежурствами в Багерово и боевым дежурством на объекте. За допусками и ключами приходили офицеры, со списками, на которые нужно было поставить печать – сержанты и старшины, непрерывно звонил телефон.
Ночь провел, как и предписывалось в инструкции, в кабинете полковника Филиппова. Это была большая комната с огромным письменным столом. Передо мной на столе – тяжеловесный письменный прибор из темного камня, календарь, внушительного размера часы, солидная стеклянная пепельница, остро отточенные карандаши в хрустальном стакане, стопка чистой бумаги, под стеклом – список телефонов. Командир был педантичен и аккуратен.
Справа расположился столик с пятью телефонными аппаратами, один из которых по высокочастотной связи (ВЧ) связан непосредственно с Москвой. Еще правее – аппарат сигнализации от всех помещений и сооружений объекта. При вскрытии любого из них – раздается звонок и зажигается соответствующая лампочка. К столу приставлен столик с двумя мягкими креслами. У правой стены – длинный стол для совещаний. У левой – высокий, во всю стену, стеклянный шкаф, пустующие полки которого стыдливо прикрыты занавесками. Где-то у дверей – кожаный мягкий диван. На стене – портреты обоих сегодняшних вождей – Ленина и Хрущева.
Справа в углу громоздятся сейфы, в одном из которых хранятся ключи от всех сооружений объекта. В другом – опечатанный пакет, который надлежит вскрыть при сигнале «Шторм». Такого сигнала, как мне говорили, еще ни разу не поступало.
К полуночи выдача допусков и ключей прекращается, становится значительно меньше телефонных звонков. Я сижу за письменным столом и читаю дневники Блока. Надо сказать, что сейчас я читаю значительно больше, чем в студенческие годы. Этому способствует свободное время по вечерам и неплохая гарнизонная библиотека.
Сейчас я пытаюсь постичь суть гениальности Блока и с горечью убеждаюсь, что не могу достойно оценить ни его стихотворения, ни его жизнь. Это меня смущает, но себе-то я врать не могу. Извинением может служить то, что знаком я по школе только с двумя его произведениями: воинственными «Скифами» да непонятой поэмой «Двенадцать». Несколько раз я пытался прочесть его пьесы, но только разочаровался. И не столько в поэте, сколько – в себе. Неужели мне не дано прочувствовать то, что приводит в восторг других? Неужели я глух к высокой поэзии?
Чтобы отвлечься от этих горестных мыслей, я открываю другую книгу – стихи старых японских поэтов. Я их тоже открыл для себя только здесь, но их поэзия сразу, без подготовки и сомнений, меня поразила и очаровала. Наполненная грустной философией, она легко и зримо, почти графически, вошла в мое сердце и сознание.
Эти хокку, старинные японские трехстишья, помогли мне убедиться в том, что с моим восприятием поэзии еще не все потеряно. Я их люблю до сих пор и цитирую всю свою жизнь.
То ли чувство оторванности от прошлой жизни, то ли японская поэзия стали причиной того, что мне стало одиноко и тоскливо. Вспомнилась Леннора, которая теперь жила в Ленинграде. Недавно я написал в этот город и узнал адрес Ленноры Буслович, теперь уже – Чубановой.

Леннора Буслович. 1955 г.
Осенняя луна
Сосну рисует тушью
На синих небесах.
Ренсэцу
Лист летит на лист,
Все осыпались, и дождь
Хлещет по дождю!
Гетай
В стране моей родной
Цветет вишневым цветом
И дикая трава.
Цеса
Как в груду мягкую скатившегося снега
Пылающие щеки погрузить —
Вот так бы полюбить.
Такубоку
Ночь прошла спокойно, если не считать того, что в 3 часа пришлось организовывать проводы в Ленинград высоких гостей Филиппова: Гутова А. И. и Матвеева А. Н. Эти важные персоны в гражданской одежде сегодня вместе Филипповым осматривали объект.
Во второй половине дня вызывает к себе Марков, исполняющий обязанности главного инженера:
– Часов в шесть – семь должны приехать из Москвы генерал Никольский и полковник Пестов. Нужно их встретить, доложить по форме. Вы давно в армии?
– Ношу форму уже второй год…
– И все же – отрапортуйте и проводите в гостиницу. Узнайте, что им нужно: ванну с дороги, ужин и все такое. Организуйте. Действуйте инициативно! Пропуска им уже заготовлены.
К счастью, гости приехали в 9 часов, когда я уже сдал дежурство, но с главным инженером Управления генерал-майором Михаилом Константиновичем Никольским мне все же довелось встретиться. В сопровождении большой свиты он посетил «каменный городок», побывал в нашем общежитии. Я в это время отдыхал после дежурства. Слышу за дверью голос: а нельзя ли посмотреть какую-либо комнату внутри?
Открылась дверь, и передо мной предстал высокий статный генерал. Рядом с ним – Филиппов, Сосновский, Новиков и другие начальствующие лица.
– Здравствуйте, – поздоровался Никольский.
– Здравия желаю, товарищ генерал! – ответил я и всем телом ощутил отсутствие на плечах кителя. Я был в одной майке и пижамных штанах.
– С кем имею честь? Ваше звание?
– Инженер-лейтенант Вишневский. Отдыхаю после дежурства по объекту.
– Что это у вас такой тяжелый воздух?
– Белые грибы сушим, товарищ генерал.

Сушеные грибы распространяли по комнате прекрасные запахи. 1956 г.
Никольский прошелся по комнате, с любопытством посмотрел на наш растерзанный радиоприемник «Дорожный», почему-то заглянул за шкаф. Потом открыл дверку и сказал, обращаясь к Филиппову:
– Конечно, парадные фуражки лежат вместе с сапожными щетками. Койки не заправлены. Забыли армейскую жизнь. Ох, уж эти инженеры: няньку им надо!
Окинув взглядом стены и потолок, генерал вдруг наклонился и посмотрел под кровать:
– И как везде, – пустые бутылки. А ну-ка, товарищ начальник политотдела, достаньте-ка их сюда. Посмотрим, что пьют инженеры.
Напуганный Новиков, забыв про свой живот, кряхтя и обливаясь потом, полез под кровать и стал доставать бутылки из-под коньяка и плодово-ягодных вин.
– Пьют, я смотрю, у вас офицеры. И пьют всякую гадость. Это притом, что в гарнизоне – сухой закон. Балуете вы их, Борис Николаевич!
Филиппов стоял с тем мудрым выражением лица, которое с одной стороны вроде бы тяготится укором старшего по званию, но с другой – ощущает его отеческое расположение. Сосновский невозмутимо смотрел куда-то в окно. Один Новиков стоял красный, как рак, и в своих толстых очках удивительно смахивал на поэта Исаковского.
На меня никто никакого внимания не обращал. Меня как будто и не было в комнате. Я со своими пустыми бутылками был простой иллюстрацией к какому-то важному воспитательному действу, которое меня уже не касалось.
В тот же день Никольский провел встречу с офицерами объекта как главный инженер. Он рассказал, что наша техника продолжает совершенствоваться, повышает эффективность и неизменно находится в состоянии боевой готовности. В ближайшее время к нам поступят новые виды изделий, усовершенствованные блоки и модифицированные пульты проверок. Это будут новые конструкции, которые надо освоить, не снижая ни темпов, ни качества плановых работ.
Сообщение Никольского слушали без особого интереса. Говорил он об общеизвестных проблемах, разве что не употреблял выражений типа: «партия и правительство вручили в ваши руки грозное оружие» или «в ответ на происки империалистов мы готовы ответить».. Все ждали времени, когда можно будет задавать вопросы. Первым последовал, теперь уже почти традиционный, вопрос: «Зачем на сборке и хранении держать инженеров, когда с этой работой могут вполне справиться техники и такелажники?»
Главного инженера этот вопрос явно вывел из благодушного настроя, и он не без раздражения ответил:
– У вас совершенно неверное представление о нашей работе! Пусть это будет несложная работа, но когда ее выполняет инженер, то он подходит к ее выполнению творчески.
– Даже когда тягает цепи лебедок?
– Даже тогда! Пусть он просто тянет цепь, но он и в это время мысленно представляет себе все сложнейшие процессы, которые происходят в каждом из блоков в отдельности и в изделии – в целом!
Этот оригинальный пассаж генерала надолго стал темой для бесконечных шуток и подначек на работе. Неужели он сам в это верит? Впрочем – нет, так как дальше он заявил:
– Со временем мы будем брать на эти работы гражданских и лиц более низкой квалификации, а пока приходится работать вам. Мы не можем доверять эти работы кому попало. Вы бы не поверили, если бы я вам сообщил, сколько стоит одно изделие. Ведь только один литр заправочного масла стоит 10 тысяч рублей…
Касаясь вопроса о том, что многие инженеры состоят на должностях техников, ответил:
– В связи с новым развитием работ в нашей отрасли, у нас сейчас оказалось много людей сверх штата. Но все они нам будут нужны. В конце года нужно будет отчитываться, не знаю, как это мы будем делать. Так что придется немного потерпеть.
В общем, ничего утешительного нам главный инженер Управления не сказал. Наиболее обиженные собирались было вместе сходить к нему вечером в гостиницу для более приватной беседы, да так и не пошли.
Как бы в подтверждение слов Никольского вскоре на объект стала поступать новая техника. Это были более совершенные и более компактные узлы изделий, сопровождаемые новыми электрическими схемами и массой новых инструкций. Все это нужно было изучить, проверить на новых стендах и закрепить в множестве формуляров.
Старший офицер сборщиков капитан Кочетков был в тревоге. Один из старейших членов бригады, не имея высшего образования, занимал должность инженера и чувствовал себя при этом прекрасно. Не раз приходилось слышать его скрипучий голос: «На хрена мне вся эта ваша писанина, все эти приборы и инструкции? Вот потягаешь цепи, поработаешь ключом и отверткой – и будешь знать изделие».