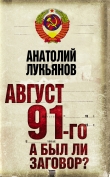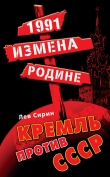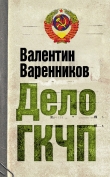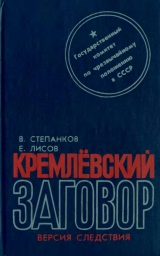
Текст книги "Кремлевский заговор"
Автор книги: Валентин Степанков
Соавторы: Евгений Лисов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
ПОРТРЕТ СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС,
КОТОРЫЙ ОКАЗАЛСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ВТОРОЙ РАЗ В СВОЕЙ ЖИЗНИ
СПРАВКА О ЛИЦЕ, ПРОХОДЯЩЕМ ПО ДЕЛУ О ЗАГОВОРЕ С ЦЕЛЬЮ ЗАХВАТА ВЛАСТИ.
Шенин Олег Семенович. 1937 года рождения. Русский. Образование высшее. По специальности инженер-строитель. Закончил в 1976 году заочно Томский инженерно-строительный институт. В 1986 году получил высшее партийное образование. Закончил Академию общественных наук при ЦК КПСС.
Работал на стройках Сибири. Прошел путь от техника-строителя до руководителя одного из самых крупных строительных подразделений Сибири «Ачинскалюминстрой».
Возглавлял партийные организации г. Ачинска, Хакасской автономной области. Красноярского края. С 1990 года секретарь ЦК КПСС. В 1989 году член Российского бюро ЦК КПСС, с июня 1990 года член ЦК компартии России. В июле 1990 года избирается членом ЦК КПСС и членом Политбюро ЦК КПСС.
Награжден Орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, двумя Орденами «Знак Почета» и многими медалями.
В 1958 году на стройучастке, которым руководил молодой прораб Олег Шенин, в результате несчастного случая погибли двое рабочих. Суд признал Шенина виновным в нарушении правил техники безопасности и направил его в заключение.
Через 32 года бывший осужденный стал секретарем ЦК КПСС. Случай беспрецедентный для советской действительности. Каждый, кто попадал даже в средние эшелоны партийной власти, должен был иметь не только «правильное» направление мыслей, но и безукоризненную, без единого пятнышка, биографию.
Однако этим и исчерпывается неординарность Олега Шенина. Это типичный представитель партийной номенклатуры старой закалки.
Первого секретаря Красноярского крайкома партии Олега Шенина партийная номенклатура, ставшая классом, выдвинула на «передовую» в рассчете на его непримиримость по отношению к «оппортунистам», пробравшимся в КПСС и советующим ей стать партией парламентского типа. Он и в мыслях не представлял, что КПСС, имеющую столь боевое прошлое, в состоянии сокрушить «жалкая кучка демократов».
К июлю 1990 года, когда Шенин стал секретарем ЦК КПСС и одновременно членом Политбюро, положение партии было вовсе не безнадежным. Конечно, потери были. За годы перестройки КПСС заметно поредела. Упало значение Политбюро ЦК в управлении страной. Если в 1985 году Политбюро собиралось 38 раз, то в 1990 – всего 9. Однако КПСС продолжала оставаться самой массовой партией, и вряд ли какая-нибудь другая партия в ближайшие годы смогла бы всерьез конкурировать с ней. Сохранилась в неприкосновенности ее вертикальная структура. Парткомы действовали на всех предприятиях и в госучреждениях страны, включая аппарат Верховного Совета СССР. Армия, КГБ, МВД полностью находились под контролем КПСС.
31 января на январском пленуме (1991 г.) ЦК Олег Шенин выступил с большим, развернутым докладом, в котором заявил: «Нам необходимо покончить с безбрежно-анархическим подходом в партии, проявление которого в последнее время можно видеть довольно часто». 2 марта в «Правде» в статье под многозначительным названием «От партии ждут энергичных действий» отдал команду: «Партийные комитеты должны решительным образом выступать за то, чтобы вертикальные связи работали должным образом». Здесь же отметил, что «в последнее время в ЦК КПСС поступает большое количество писем, телеграмм и решений собраний, в которых выражается поддержка позиции ЦК КПСС, в том числе и в связи с событиями в Прибалтике».
О том, как высоко котировался Шенин у тех, кто замышлял вернуть страну к сталинско-брежневским порядкам, свидетельствует список ГКЧП, составленный Александром Тизяковым накануне апрельского пленума
ЦК КПСС:
1. Шенин О. С. – председатель.
2. Бакланов О. Д. – заместитель.
3. Болдин В. И. – заместитель.
4. Язов Д. Т.
5. Крючков В. А.
6. Пуго Б. К.
7. Прокофьев Ю. А.
8. Тизяков А. И.
9. Стародубцев В. А.
10. Костин Г. В.
В начале лета Шенин стал вести заседания секретариата, что указывало на дальнейшее возрастание его влияния в партии. Заседания секретариата по традиции поручают вести второму лицу в КПСС. Прежде это делал заместитель Горбачева по партии Владимир Ивашко, но в последнее время он часто болел, и его заменил Шенин.
Шенин, демонстрируя свое пренебрежение к тезису о многопартийности, как в старые доперестроечные времена, проводил заседания секретариата с широким привлечением руководителей государственных предприятий и ведомств. К примеру, 6 августа на секретариат были вызваны и послушно явились два заместителя председателя кабинета министров СССР, заместитель председателя комиссии Верховного Совета СССР по делам ветеранов и инвалидов, целый ряд руководителей министерств.
Последнее в истории КПСС заседание секретариата состоялось 13 августа – 9 дней спустя после отбытия Горбачева в отпуск. На обсуждение Шенин, ломая заготовленную повестку дня, вынес всего один вопрос. Об Указе Бориса Ельцина о департизации.
Олег Шенин на этом заседании сказал: «…многие парторганизации заняли выжидательную позицию, надеясь, что Комитет конституционного надзора СССР отменит распоряжение российского президента». Но надеяться на это, объяснил Шенин, нечего. Комитет, судя по всему, не вступится за партию. Нужно действовать самим…
И действительно, никто не заступился за КПСС, кроме партийных функционеров. Шахтеры не забастовали. Многомиллионная армия рядовых коммунистов России не вышла на улицы, чтобы выразить свое возмущение по поводу ущемления прав КПСС. Гневное заявление Политбюро ЦК компартии России оказалось гласом вопиющего в пустыне. Шаг Ельцина одобряли 73 процента россиян. Миф о единстве партии и народа рухнул.
Стало очевидным, что и самой КПСС, «боевого авангарда рабочих и крестьян» не существует. Что ее именем прикрывается лишь отряд партийных функционеров, живущих за счет взносов рядовых коммунистов.
…Когда Шенин переступил порог президентского кабинета в Форосе, он потребовал от Горбачева незамедлительно отменить Указ Ельцина. Горбачев в ответ стал говорить, что не стоит горячиться, необходимо подождать заключение Комитета конституционного надзора, и уж лишь тогда принимать какое-то решение. Шенин, не выдержав, раздраженно прервал президента: «С Вами давно все ясно».
Не об идеологических принципах шла уже речь, не о защите КПСС – становилось страшно от мысли, что обмен сквозняков сибирских строек на комфорт партийных кабинетов был ошибкой…
ДОСЬЕ СЛЕДСТВИЯ
ДОКУМЕНТ БЕЗ КОММЕНТАРИЯ
Из протокола допроса Олега Шенина от 6 ноября 1991 г.:
– …Я верил в искренность президента СССР, в его озабоченность по поводу развала Союза как федерации, финансово-кредитной системы, системы народовластия Советов народных депутатов, снижения возможностей социальной защиты людей. Поэтому мной двигала ответственность за поручение Генерального секретаря ЦК КПСС быть на «хозяйстве», знать обстановку, информировать его – что я в силу личной дисциплины и понимания сложности обстановки и делал. Однако это генсеком, по непонятным причинам, не было востребовано. И другого ответа, кроме того, что он все просчитал, у меня теперь нет.
Разговоры о сложности обстановки были нередки в кругу президента СССР с участием Крючкова, Язова, Пуго, Бакланова, Павлова, Янаева. Иногда на такие разговоры приглашались я, Прокофьев, бывал на некоторых таких встречах и Тизяков.
Президент в этом кругу яростно защищал сохранение Союза как федерации, единой финансово-кредитной, налоговой системы, говорил, что нельзя доводить народ до обнищания, что надо делать все, чтобы обеспечить социальную защиту людей, надо наводить конституционный порядок в стране, соблюдать Законы СССР и Указы президента СССР. Именно над этим надо всем работать, говорил президент. Надо, наконец, научиться давать отпор, как он говорил, «так называемым демократам».
Иногда на такие разговоры приглашался и Лукьянов, которого за глаза президент с иронией называл «отцом русской демократии», намекая на его установившиеся контакты с различными фракциями парламента, движениями… и т. д., что, на мой взгляд, было очевидной необходимостью для Лукьянова, так как он возглавлял Верховный Совет СССР.
Президент сам много внимания уделял (я поражался, как он на это находит время) подготовке к съездам народных депутатов РСФСР, событиям на митингах, газетным публикациям, выступлениям Ельцина, представителей межрегиональной депутатской группы, «Демократической России» (естественно, тем моментам, которые касались лично его). Неоднократно при мне давал задание найти документ о здоровье Ельцина, который рассматривался Политбюро то ли в 1987, то ли в 1988 году.
Мне известно, как президент давил на секретарей ЦК Дзасохова, Лучинского, председателя Гостелерадио Кравченко, заставляя их отслеживать передачи по ТВ и публикации в средствах массовой информации и своевременно принимать контрмеры.
Все это не только отвлекало людей от стремления к гражданскому согласию, а и создавало основу для конфронтации во взаимоотношениях с республиканскими органами власти, в том числе и России, что, конечно же, ухудшало и обостряло ситуацию в стране…
ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА,
КОТОРЫЙ РЕШИЛ ПОБЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ ХОТЯ БЫ ТРИ ДНЯ
СПРАВКА О ЛИЦЕ, ПРОХОДЯЩЕМ ПО ДЕЛУ О ЗАГОВОРЕ С ЦЕЛЬЮ ЗАХВАТА ВЛАСТИ.
Янаев Геннадий Иванович. 1937 года рождения. Уроженец села Перевоз Горьковской области. Русский. Образование высшее. В 1959 году закончил Горьковский сельхозинститут, в 1967 году – Всесоюзный юридический институт.
17 лет отдал комсомольской работе, 12 из них был председателем Комитета молодежных организаций (КМО) СССР, занимающегося международными связями комсомола.
С 1980 года заместитель председателя Союза Советских Обществ Дружбы (ССОД). С 1986 года на профсоюзной работе – секретарь, зампред, председатель Всесоюзного Центрального Совета Профсоюзов (ВЦСПС). С 1990 г. секретарь ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС.
В декабре 1990 года съездом народных депутатов СССР избран вице-президентом СССР. Народный депутат СССР от профсоюзов.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.
Честолюбие в Янаеве выдавала внушительная, церемониальная походка, в такт которой он важно поводил полусогнутыми в локтях руками.
Верхом производственной карьеры Янаева стала более чем скромная должность управляющего районным отделением «Сельхозтехники» в Горьковской области. 17 лет работы в комсомоле выветрили из него и этот мало-мальский опыт, но зато сделали своим в мире партийной номенклатуры.
Работа в советских профсоюзах, еще Лениным названных «школой коммунизма», окончательно сформировала из него типичного советского функционера. Деятельность Янаева на посту секретаря ЦК КПСС для большинства населения СССР так и осталась загадкой: чем он там занимался, какими вопросами ведал?
Однако Горбачев, представляя народным депутатам кандидатуру Янаева на пост вице-президента, сказал о нем, что это «человек, который уже сложился, зрелый политик, хорошо ориентирующийся в политических вопросах, человек с твердыми убеждениями, активный сторонник перестройки и активный ее участник».
«В очередной раз победили те, кто господствовал в стране с 1917 года и руководил перестройкой с 1985 года. То есть, высшие слои аппарата, который осуществляет централизованное управление страной», – так прокомментировал избрание Янаева вице-президентом мэр Москвы Гавриил Попов.
Сам Янаев народным депутатам отрекомендовался не без пафоса: «Я человек действия. Я хочу работать в интересах моего многострадального народа».
Едва успел отзвучать Гимн СССР на закрытии съезда, избравшего Янаева вице-президентом, как вокруг его имени разразился скандал.
Отвечая на вопросы депутатов, Янаев удовлетворил их любопытство и в отношении своей кандидатской диссертации, которая, как он сказал, посвящена проблематике троцкизма и анархизма. Обозревателя «Литературной газеты» Анатолия Рубинова удивило, что Янаев подозрительно долго вспоминал тему диссертации. Обратившись к научным архивам, он выяснил, что вице-президент обманул съезд. Работа Янаева никакого отношения не имела к троцкизму и анархизму, да и науке тоже. Диссертация «Проблемы развития прогрессивных тенденций в молодежных движениях развитого капитализма», защищенная Янаевым, представляла из себя примитивнейшие рекомендации по части просветительской работы с молодежью в условиях «скорой гибели капитализма». Янаев советовал комсомольским организациям «совмещать в работе серьезные беседы с показом фильмов и диапозитивов» и другими подобного рода мероприятиями.
Лживость была не единственным недостатком Янаева. Он страдал пристрастием к спиртному. Глава российского правительства Иван Силаев вспоминает, как Янаев, стремясь сойтись с ним поближе, не раз говорил: «Иван Степанович, надо бы нам как-то встретиться, выпить»…
То, что Янаев любит поволочиться за юбками, знали все, начиная от его окружения, кончая лифтершей дома, где он жил. Янаев, назначая амурные свидания, нередко пользовался телефоном, установленным в лифтерной.
Янаева окружали люди, хорошо осведомленные о его пороках. Советником вице-президента был Сергей Бобков, сын заместителя председателя КГБ СССР Филиппа Бобкова. Сергей Бобков длительное время работал членом редколлегии журнала «Молодая гвардия» – флагмана «патриотического» движения, всецело поддерживаемого руководством КГБ СССР.
Интервью, выступления Янаева отражали настроения сил, которые «пасли» его.
Из интервью газете «Советская Россия» 2 февраля 1991 года «Самое главное – оставаться самим собой»:
– …Как Вы относитесь к заявлению Э. Шеварднадзе о том, что в стране происходит поворот вправо?
– Не о правом повороте надо говорить, а о том, что мы пока элементарного порядка навести не можем. Мы против любой диктатуры, тем более лагерей. Мы добиваемся порядка, который дал бы возможность быстрее развивать демократические процессы, добиваемся и порядка на производстве, только так можно восстановить разрушенные межхозяйственные связи…
Из интервью газете «Ленинское знамя» 29 января 1990 года (о тактике фракции коммунистов на 4-м съезде Народных депутатов):
– …Кого вы считаете политическими оппонентами, способными нанести удар?
– Политический оппонент удара не наносит, а вот политический противник – да. С политическими оппонентами надо искать общий язык, а вот те общественные организации и движения, которые выбирают фонари, на которых будут вешать коммунистов, – вот это настоящие политические противники…
Из интервью ТАСС 9 февраля 1991 года (о впечатлениях от поездки в Кузбасс):
– …Впереди большая работа. Она потребует усилий всех трудящихся области, в то же время она потребует и принятия нестандартных решений от руководства страны и от правительства…
Его участие в государственных делах зачастую ограничивалось представительскими функциями: поставить подпись под бумагой, судьба которой была бы решена и без него, отсидеть с важным видом на каком-нибудь официальном мероприятии, вручить какую-нибудь второстепенную правительственную награду…
Но и то «малое», что у Янаева было, у него хотели отнять. После подписания Союзного договора институт вице-президента подлежал ликвидации.
Председатель комитета при президенте СССР по координации деятельности правоохранительных органов Юрий Голик вспоминает: «…Дня за три до 19 августа я зашел к Янаеву, чтобы доложить о возвращении из отпуска. Разговор был на общие темы. Янаев стоял под портретом президента. И позволял себе вольно обращаться с его именем, называя Горбачева «Мишелем», чего раньше никогда не было…»
ДОСЬЕ СЛЕДСТВИЯ.
ДОКУМЕНТ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Из протокола допроса Г. Янаева от 22 августа 1991 г.:
– …Практически каждый день, иногда по нескольку раз, я имел телефонную связь с Горбачевым. В последний раз я разговаривал с ним по городскому телефону 18 августа примерно в 12 часов. Я спросил, когда он прилетает? Горбачев ответил, что 19 августа поздно вечером. Я сказал, что встречу его в аэропорту «Внуково».
Во второй половине 18 августа на автомашине «ЗИЛ» я поехал в гости в дом отдыха к моему старому приятелю. У него находился около трех часов. За это время мне несколько раз звонили в автомашину. Один раз руководитель аппарата президента Болдин, один раз премьер-министр Павлов, один раз председатель КГБ Крючков. Просили меня приехать в Кремль для того, чтобы обсудить какие-то срочные вопросы.
Вопрос:
– Скажите, было ли какое-то обострение ситуации 18 августа 1991 года или в предшествующие дни?
Ответ:
– Ситуация осложнялась день ото дня. Кровопролитие в районе Карабаха, захват там военнослужащих в качестве заложников. В Южной Осетии в районе Цхинвали шла необъявленная война. Тяжелейшая обстановка складывалась с уборкой урожая, не хватало топлива, запасных частей, аккумуляторов. Кроме того, незадолго до 18 августа у меня был министр образования Ягодин, который сказал, что в вузах страны создаются забастовочные комитеты в связи с требованием студенчества отменить призыв студентов на действительную военную службу.
Вопрос:
– Что Вам известно о мерах, предпринятых по блокированию Горбачева?
Ответ:
– Мне абсолютно об этом не было известно. Я не знал, что Горбачев и его окружение лишены связи и свободы передвижения. Это лишний раз говорит о том, что я нужен был как легальная рубашка при нелегальной игре.
Создание ГКЧП, на мой взгляд, было инициировано руководителями трех основных ведомств – КГБ СССР, министерства обороны СССР, МВД СССР. Премьер-министр Павлов являлся сторонником жесткой линии, и поэтому создание ГКЧП отвечало его воззрениям…
ПОРТРЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КГБ, КОТОРЫЙ СЧИТАЛ ЧТО СТРАНА НАХОДИТСЯ ВО ВЛАСТИ «АГЕНТОВ ВЛИЯНИЯ»
СПРАВКА О ЛИЦЕ, ПРОХОДЯЩЕМ ПО ДЕЛУ О ЗАГОВОРЕ С ЦЕЛЬЮ ЗАХВАТА ВЛАСТИ.
Крючков Владимир Александрович. 1924 года рождения. Русский. Место рождения – г. Волгоград. Член КПСС с 1944 года. Образование высшее. Окончил Всесоюзный заочный юридический институт. Высшую дипломатическую школу МИД СССР. Трудиться начал в 1941 году рабочим на заводе. С августа 1943 по октябрь 1946 года был на комсомольской работе: комсоргом ЦК ВЛКСМ в Особой строительно-монтажной части номер 25, первым секретарем Баррикадного РК ВЛКСМ в г. Волгограде, вторым секретарем Волгоградского горкома ВЛКСМ.
С ноября 1946 по август 1951 года работал в органах прокуратуры: народным следователем, прокурором следственного отдела областной прокуратуры, районным прокурором.
В 1954-59 гг. после окончания Высшей дипломатической школы находился на дипломатической работе, сначала в МИД СССР, затем третьим секретарем посольства СССР в Венгрии.
С 1959 года в аппарате ЦК КПСС: референт, заведующий сектором, помощник секретаря ЦК.
С 1967 года на руководящих должностях в КГБ. С 1978 года заместитель председателя, а с 1988 года председатель КГБ СССР. Генерал армии.
Личный номер «Е-104577».
В 1989 году член Политбюро ЦК КПСС.
Награжден двумя орденами Ленина, Красного Знамени, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и многими советскими и зарубежными медалями.
В 1967 году, поступая на службу в КГБ, полковник Владимир Крючков, написал в анкете о своей сестре: «В течение длительного времени страдает алкоголизмом. На этой почве совершила кражу личного имущества, сейчас отбывает наказание и по определению нарсуда находится на принудительном лечении. С 1937 года после замужества живет отдельной семьей». О своем брате Николае Крючков сообщал: «Еще до войны выехал из Волгограда на Дальний Восток. После войны последние письма от него приходили из поселка Аллах Юнь Юр-дуэт Якутской АССР. Сейчас о его судьбе ничего не известно».
Крючков, выворачивая наизнанку все свое прошлое, понимал: утаивать что-либо от КГБ бесполезно. Все равно изучат всю подноготную, проверят всех родственников до двенадцатого колена. За отца и мать волноваться было нечего. Отец из рабочих, участник гражданской войны, член КПСС с 1926 года. Мать – крестьянка. Средний брат Константин сложил голову в Великой Отечественной войне. Тут и комар носа не подточит. А от сомнительных брата и сестры он отмежевался.
Отнюдь не благодаря таланту разведчика Крючков стал председателем КГБ. «Это был рядовой человек, – свидетельствует глава российского правительства Иван Силаев, – по крайней мере, я не видел в нем каких-то серьезных задатков, глубокого интеллекта. Мне кажется, быстрый его взлет по служебной и партийной лестнице вскружил ему голову и развил в нем негативные качества».
Крючкова в КГБ привел Юрий Андропов. Когда с поста секретаря ЦК КПСС он перешел на пост председателя КГБ, то взял с собой и своего помощника Крючкова, которого тянул за собой всюду еще со времен совместной работы в Венгрии. Андропов был послом СССР в этой стране, Крючков – третьим секретарем посольства.
В КГБ, как и ЦК, Крючков стал помощником Андропова. Крючков не был профессиональным разведчиком и достиг служебных высот лишь благодаря покровительству Андропова, которому по душе пришелся услужливый помощник.
– Самостоятельные решения от него никогда не исходили, даже, когда он занимал серьезные должности, – вспоминает генерал КГБ Олег Калугин. – Придешь к нему с каким-то делом. Он тут же хватается за трубку прямой связи с Андроповым. «Юрий Владимирович, вот такая ситуация… Как Вы думаете, что нам делать?» Андропов объясняет ему, что делать, а он со спокойной душой передает мне. По своему характеру Крючков, если так можно выразиться, помощник. Он всю жизнь был помощником кого-либо. Прежде всего Андропова…
Если бы не Горбачев, Крючков, несмотря на все свое рвение, так и остался бы начальником разведки, тихо уйдя на пенсию. Крючков считался человеком Андропова и это определило выбор Горбачева в пользу 64-летнего начальника ПГУ. Как никак сам Горбачев стал генсеком исключительно благодаря Андропову, и тоже, как и Крючков, считался его человеком.
Однако между учениками Андропова, хотя каждый из них считал себя продолжателем его дел, была огромная разница. Горбачев видел в Андропове реформатора, осуществить задуманное которому помешала безвременная смерть. Крючков, знавший Андропова лучше, чем Горбачев, был убежден, что Андропов никогда бы не позволил покушаться на систему. Действия Горбачева он воспринимал с недоумением, они ставили его в тупик, порождая подозрения в искренности клятв Горбачева в верности «социалистическому пути».
Всю жизнь он боролся с оппортунизмом. Гордился, что отстоял социализм в Венгрии в 1956 году. Горбачев перед всем миром признал события в Венгрии преступлением. Крючков принимал участие в осуществлении ввода войск в Чехословакию в 1968-м. Горбачев принес свои извинения народу Чехословакии за «вмешательство во внутренние дела, допущенные КПСС в 1968 году». Крючков приветствовал возведение Берлинской стены и все делал, чтобы сохранить ее в целости. Горбачев разрушил ее. Крючков с ликованием встретил вторжение войск в Афганистан. В Кабуле его боевики штурмовали дворец Амина. Горбачев назвал Афганскую войну «исторической ошибкой».
За кровь, пролитую простыми людьми в Афганистане и в других уголках мира, он, кабинетный служака, получил сорок пять иностранных наград, по которым можно изучать географию земного шара.
Он не раз беседовал с Горбачевым с глазу на глаз, убеждал остановиться, одуматься. Горбачев со многим соглашался, но ничего не менялось.
«Горбачев реагирует на происходящее неадекватно», – в последнее время все чаще повторял глава КГБ, намекая на то, что президент не в своем уме.
Горбачев для Крючкова, конечно, был сумасшедшим. Горбачев разрушал систему, которая обеспечивала ему все – и раболепие подчиненных, и уважение недругов, и спокойную, в довольстве и даже роскоши, жизнь. Разве может человек, находящийся в здравом уме, рубить сук, на котором сидит?
Он следил за каждым шагом президента, не выпуская его из-под контроля КГБ ни на минуту. Под колпаком КГБ находился не только Горбачев – все, кто хоть каким-то образом соприкасался с Горбачевым и его семьей. Подслушивали даже телефонные разговоры парикмахерши Раисы Максимовны.
В Форосе, на даче, каждый член семьи для удобства контроля имел свой порядковый номер. У Горбачева был 110, у Раисы Максимовны– 111. Номера были у дочери, зятя, внучек Горбачева. Вот выдержка из суточного журнала дежурного КГБ по объекту «Заря» за 17 августа 1991 года:
«…12.40 – «111» вышла из дома. 17.45 – «111» на пляже. 18.20 – «112» (зять Горбачева. – Прим. авт.) вышел из бассейна. 18.24 «111» – ушла с пляжа. 18.30 «111» – в бассейне. 19.04 «111» – вышла из бассейна…»
Говорят, все это делалось во имя безопасности президента. Но какое отношение к безопасности имеет фиксация того, во сколько вышла и зашла в бассейн Раиса Максимовна, во сколько зять Горбачева пришел в кинозал, расположенный на территории дачи, окруженной тройным кольцом охраны?
Крючков утверждает, что прослушивание телефонов окружения президента – исключение из правил и предпринималось только в связи с конкретными оперативными делами. «К примеру, – заявил он на допросе 26 декабря 1991 года, – по Александру Яковлеву в КГБ поступала оперативная информация о его недопустимых, с точки зрения безопасности государства, контактах с представителями одной из западных стран. Поскольку информация казалась достаточно серьезной, я доложил об этом президенту СССР и просил разрешения начать необходимую в таких случаях проверку. Но М. С. Горбачев на такую проверку разрешения не дал. Запрет президента мною не был нарушен».
Но откуда в таком случае в архиве КГБ оказались стенограммы телефонных разговоров Александра Яковлева? Причем, не имеющих никакого отношения к контактам «с представителями одной из западных стран»?
«Весной 1991 года, – продолжил Крючков на том же допросе тему подслушивания, – в Комитет государственной безопасности поступили сигналы о том, что руководитель пресс-службы президента Игнатенко берет взятки за организацию для иностранных журналистов интервью с М. С. Горбачевым. Источниками этих сигналов были оперативные сведения, полученные об одном из иностранных корреспондентов. Речь шла (пишу по памяти) о трех случаях взяток – 10 тысяч долларов, 30 тысяч долларов и 20 тысяч долларов – всего на сумму 60 тысяч долларов. Сведения о взятках не могли вызывать сомнения, потому что были получены в результате технического контроля.
Я, разумеется, доложил М. С. Горбачеву. Горбачев попросил обдумать его, Игнатенко, перемещение с должности и поручил мне с Болдиным проработать вопрос. Через несколько дней в ходе технического мероприятия выявляется еще один факт. К Игнатенко обратился один западногерманский журналист и в благодарность за интервью М. С. Горбачева пообещал передать ему, Игнатенко, 45 тысяч западногерманских марок. Но Игнатенко вдруг отказался, гордо заявив, что это – его работа. В КГБ сложилось мнение, что Игнатенко был кем-то предупрежден и взятку в связи с этим не принял.
Хочу отметить, что в курсе этого дела был руководитель аппарата президента Болдин В. И. Во-первых, М. С. Горбачев дал поручение Болдину подыскать для Игнатенко другое место работы. Эта тема, кстати, была предметом нашего разговора с Болдиным…»
Здесь, как и в случае с Александром Яковлевым, почти после каждого слова можно ставить знак вопроса. Если информация об Игнатенко была получена в результате «оперативных сведений», значит, он находился «под колпаком» еще до получения информации о взяточничестве? Раз эта информация была подтверждена материалами «технического контроля», то, где в таком случае санкция на прослушивание телефона Игнатенко? А если шпионили не за ним, значит, – за иностранными журналистами?
Крючкову всюду мерещились «агенты влияния», он все время ссылался на какие-то только ему одному известные источники информации о том, что Запад вынашивает идею «сокращения» населения СССР, что «демократы» намечают резню коммунистов, чьи квартиры, якобы, уже помечаются «крестиками», и прочее, прочее…
«В КГБ вообще большие параноики. Воображают порой нечто невероятное», – считает бывший советский разведчик Олег Гордиевский. Конечно, можно объяснить поведение Крючкова паранойей, необузданной страстью заглядывать в замочные скважины, плести интриги и т. д. Однако дело вовсе не в личностных качествах Крючкова. КГБ мог рассчитывать на сохранение своего могущества только в атмосфере всеобщего и постоянного страха перед внутренними и внешними врагами. Вот где истоки шпиономании и неиссякаемых разглагольствований о коварном Западе, который не спит, не ест, а только думает, как бы навсегда покончить с «этими русскими».
Стремясь доказать стране и президенту, что причина перебоев с горючим, топливом, продуктами питания заключается в кознях «антисоциалистических» и «деструктивных» элементов, Крючков во всех областных и районных центрах страны при Управлениях КГБ создал штабы по борьбе с экономическим саботажем. Профессиональные разведчики, проклиная своего шефа, пересчитывали водку, нательное белье в подсобках магазинов. Добыча была мизерной. Когда на Дальнем Востоке, в самом рыбном краю страны, чекистам удалось найти 500 припрятанных банок паюсной икры – это было разрекламировано как выдающееся достижение на ниве борьбы с коррупцией и саботажем. Гора родила мышь…
Истинная причина аритмии народного хозяйства заключалась в том, что страна тратила время на бесплодные идеологические споры, митингуя на краю пропасти, вместо того, чтобы сосредоточиться на создании новой эффективной экономики. Но правда не интересовала Крючкова. Правда иссушала источник его всевластия…
Демонстрируя показную готовность содействовать курсу реформ, Крючков за спиной президента сколачивал группу единомышленников, тоскующих по старым временам и мечтающих, как он, положить конец кошмару горбачевского Апреля.
По мере приближения к развязке конфронтация становилась все более жесткой и явной.
– Самая серьезная стычка проходила накануне Октябрьских праздников 1990 года, – вспоминает работавший тогда министром внутренних дел СССР Вадим Бакатин. – Движение «Демократическая Россия» намеревалось провести альтернативную демонстрацию с требованием снять тормоза с начатых преобразований, в поддержку программы «500» дней и т. д. Вопрос о том, разрешать ли демонстрацию, обсуждался с участием Горбачева. Я сказал, что запрещать мы не имеем права. Активно против меня выступал Крючков. Он потребовал «показать, наконец, силу»…
17 июня 1991 года на сессии Верховного Совета, выступая в поддержку просьбы премьер-министра СССР Валентина Павлова о чрезвычайных полномочиях, Крючков сообщил депутатам, что стране грозит катастрофа, как всегда, усмотрев ее не в крахе социально-экономической системы, а в том, что в сферу управления экономикой и политикой страны проникли «агенты влияния», разваливающие по заданию западных спецслужб народное хозяйство СССР. В доказательство Крючков зачитал письмо своего учителя Юрия Андропова, написанное им еще во времена холодной войны – 24 января 1977 года.