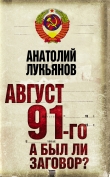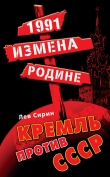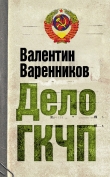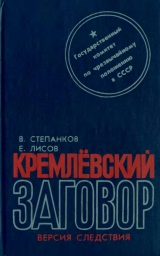
Текст книги "Кремлевский заговор"
Автор книги: Валентин Степанков
Соавторы: Евгений Лисов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
«САМАЯ ЛУЧШАЯ ДЕМОКРАТИЯ, КОГДА ВЛАСТЬ У МЕНЯ…»
СПРАВКА О ЛИЦЕ, ПРОХОДЯЩЕМ ПО ДЕЛУ О ЗАГОВОРЕ С ЦЕЛЬЮ ЗАХВАТА ВЛАСТИ
Тизяков Александр Иванович. 1926 года рождения. Русский.
По специальности инженер-металлург. В 1958 году окончил Уральский политехнический институт.
Кандидат экономических наук.
Участвовал в Великой Отечественной войне.
Жил и работал в Свердловске. Последняя занимаемая должность – генеральный директор научно-производственного объединения «Машиностроительный завод имени Калинина».
Президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства и связи СССР.
Награжден орденами «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», «Октябрьской революции» и многими медалями.
Тизяков, как и Стародубцев, возглавлял монополию. Но только промышленную. Ассоциация, которая была создана по его инициативе в ноябре 1989 года и которую он сам же и возглавил, объединила все крупные государственные предприятия страны.
На всякого, кто изъявлял желание выйти из-под опеки монополии, Тизяков смотрел как на своего врага. Главный инженер конструкторского бюро «Новатор» Вячеслав Горбаренко вспоминает, какой была реакция генерального директора Тизякова на решение «Новатора» выйти из состава научно-производственного объединения и стать самостоятельной хозяйственной единицей: «Тизяков был взбешен, у него побелели глаза, тряслись руки. Он старался сдержаться, но не мог… Позже, когда заводу отмечалось 125 лет, Тизяков в отместку лишил наше конструкторское бюро права приобрести по льготным ценам закупленные за валюту на Западе товары».
Как и Стародубцев, он был безмерно тщеславен. Считал себя великим экономистом, говорил, что «за полторы минуты» поставит на место академика Шаталина, экономическую программу Явлинского называл не иначе, как «детским лепетом», академика Агангебяна – «кабинетным недоучкой», на всех заводских совещаниях звучало, что только он может принимать верные решения. Незадолго до августа Тизяков включил в список работников, представляемых к наградам, и свою фамилию. Себе он затребовал Золотую звезду Героя Социалистического Труда.
Он не скрывал своих убеждений. По заводскому радио во всеуслышанье клеймил «изменника Горбачева», афишировал свои связи с лидером коммунистов России Иваном Полозковым – оголтелым реакционером, делающим ставку в противостоянии законно избранным властям на так называемые «комитеты национального спасения». Когда в апреле Горбачеву удалось удержаться на посту генсека, открыто говорил при сослуживцах: «Пусть не радуется – скоро мы его из президентов погоним». Он переходил на мат, когда речь заходила о демократах, считая выше своего достоинства сотрудничать с руководителями местной исполнительной власти.
Любимая поговорка Тизякова: «Лучшая демократия такая, при которой вся власть у меня».
Научно-производственное объединение, возглавляемое Тизяковым, принадлежало к военно-промышленному комплексу, Тизяков, как и Стародубцев, работал в режиме наибольшего благоприятствования. Однако на него проливался финансовый дождь такой щедрости, которая даже и не снилась королю крупных аграриев.
Как и Крестьянский союз, Ассоциация, созданная Тизяковым, стала силой, противостоящей проведению реформ. В конце 1990 года на своем конгрессе эта общественная организация приняла Обращение к президенту СССР, в котором заявила, что «время экспромтов в экономике кончилось» и в ультимативном тоне потребовала перевести экономику на рельсы чрезвычайного положения.
Тизяков был одержим идеей чрезвычайного положения. Остановить ход реформ стало смыслом его жизни.
Тизяков одним из первых стал разрабатывать механизм заговора. Это ему принадлежит идея создания ГКЧП как высшего органа власти.
– В начале февраля 1991 года я вместе с Тизяковым летел в одном самолете в командировку в Москву, – вспоминает главный конструктор КБ «Новатор» Валентин Смирнов. – Тизяков сидел в кресле, расположенном впереди меня. Он что-то сосредоточенно писал. В просвет между креслами я увидел раскрытую страницу блокнота. На ней по пунктам излагался план заговора с целью реорганизации структуры управления страной. Как я понял, вся власть в СССР должна была перейти к ВКУ (Временный комитет управления СССР – первоначальное название ГКЧП. Прим. авт.), президент должен был только исполнять волю этого органа.
Когда Тизяков перелистнул страницу блокнота, мое внимание под пунктом 19 привлекла запись: «Нападки на армию, КПСС, КГБ, МВД. Выяснить, кто. Составить списки».
После того, как полет закончился, я поделился увиденным с главным инженером КБ «Новатор» Вячеславом Горбаренко.
– Понимая, что обладаем важной информацией, мы довели ее до сведения одного из народных депутатов, попросив его поставить в известность о планах Тизякова кого-нибудь из демократического руководства страны, – рассказывает Вячеслав Горбаренко, – но нашей информации не придали должного значения.
То, что увидел в самолете Смирнов, было всего лишь малой частью документов, которые, готовя заговор, разрабатывал Тизяков. Его перу принадлежит большое количество Указов и всяческих программ.
Как и Крючков, Тизяков был убежден, что к руководству партией пробрались люди, выполняющие задания западных спецслужб. В документе «Анализ положения в стране, причины провала перестройки и пути выхода из кризиса», который Тизяков готовил как манифест ГКЧП, говорится: «Радеющие и любящие свою державу люди не смогли бы допустить за шесть лет такого развала страны. Этот развал происходит именно по преднамеренному плану… Руководством КПСС делается все, чтобы КПСС не нашла методов работы в новых условиях. КПСС обманута!» «Разве это, – вопрошает манифест Тизякова, – не требует: «Виновных к ответу!» Далее идет список «виновных», к которым наряду с Горбачевым, Яковлевым, Шеварднадзе причислен и… «верный ленинец» Егор Лигачев.
Второй лозунг в манифесте: «Надо навести порядок в стране!» Ясное дело, что надо. Но каким образом? Рецепт Тизякова таков: «Исполнительная власть должна быть сильной, и ей никто не должен мешать в работе… Общими силами надо бороться за спасение государства, сейчас речь идет о вещах жизненно важных, неизмеримо более значительных, нежели судьба любого отдельного человека…».
В портфеле Тизякова следствие обнаружило целый пакет готовых Указов, которые должны были послужить делу реализации доктрины «сильного государства». Эти документы не оставляют никаких сомнений в том, что ГКЧП ставил своей целью задушить демократические реформы, вернуть общество к той системе, которая существовала в стране до 1985 года.
Жизнь в «сильном государстве», согласно Указам Тизякова, выглядела бы следующим образом.
Советы всех уровней распущены, деятельность всех партий, кроме КПСС, под запретом, кооперативное движение и неугодная пресса – тоже. Забастовки, стачки – дело подсудное. По ночам мирные граждане вздрагивают от выстрелов, т. к. один из Указов Тизякова разрешает (цитируем дословно) «командирам патрулей (офицерам) министерства обороны и КГБ, захвативших на месте преступления: кражи квартир, домов граждан, грабежа граждан на улицах, изнасиловании – расстреливать на месте без суда и следствия с составлением в последующем акта за подписью всех членов патруля и, если есть, потерпевших…».
А править «сильным государством» должен был, согласно опять же Указу Тизякова, Совет Министров СССР во главе… с самим Александром Тизяковым.
В нарисованный ГКЧП рай, с Павловым у ворот, народ бы не поверил.
19 АВГУСТА 15.00–18.00
…ДЛЯ ПАВЛОВА
Министр угольной промышленности СССР Михаил Щадов докладывал Павлову:
– В Кузбассе начинается забастовка. Три шахты уже «лежат». Завтра за ними последуют другие. В Кузбассе надо вводить чрезвычайное положение…
Шло заседание кабинета министров СССР. Павлов сидел во главе стола. Лицо его было красным, почти багровым.
К обеду врач с большим трудом привел его в чувство, и он явился на заседание ГКЧП. Его намеревались послать на пресс-конференцию, но он отказался, сказав, что ему надо встретиться с министрами. Никто не настаивал: разве можно в таком виде на люди?
Трудно пересказать то заседание кабинета министров. Павлов постоянно терял канву разговора, перескакивал с одного на другое.
Присутствовавшие так и не поняли, с какой целью их собирали. Большинство решило: чтобы выяснить отношение к созданию ГКЧП. Павлов почти каждого строго спрашивал: «Ты – за?»…
Свидетельствует Дмитрий Язов:
– После заседания кабинета министров, мне позвонил Павлов: «Давай, ты что там стоишь! Арестуй этих забастовщиков!» Кто-то из министров, видимо, ему сообщил о начавшейся забастовке. Здесь я понял, что он уже «созрел», слишком выпивши…
Это был последний выход Павлова «в свет». После заседания кабинета министров он уехал на дачу и более оттуда не показывался. Дальнейшему участию премьер-министра в заговоре помешал тяжелый запой…
…ДЛЯ ЯЗОВА
Когда жена министра обороны СССР Эмма Язова, утром услышала лязг танковых гусениц и сообщение о создании ГКЧП, она не на шутку испугалась за мужа.
Около 15 часов к ней на дачу приехала приятельница, Наталья Аверьянова.
– Я застала Эмму плачущей, – свидетельствует Аверьянова. – Она стала говорить, что не понимает случившегося, что звонила мужу, с ним что-то не то и она хочет к нему ехать. Набрала номер мужа и попросила прислать на дачу машину.
Когда пришла «Волга», Эмма Язова попросила меня поехать с ней. Нога у нее выше колена была в гипсе. Она практически не ходила. Мы с майором, который прибыл в «Волге», сняли ее с коляски и с большим трудом усадили в машину.
В Генеральном штабе министерства обороны у лифта нас встретил Дмитрий Язов. Мы прошли в кабинет, оставшись в нем втроем.
Эмма заплакала, видно было, что ее слезы ранят Язова. Он стал ее успокаивать. Эмма в ответ стала говорить, что все случившееся – это гражданская война, просила его весь этот кошмар остановить и позвонить Горбачеву.
Язов сказал: «Эмма, пойми: нет связи». Эмма опять стала плакать. После этого Язов сказал: «Эмма, ты пойми, я один».
В это время по спецканалу началась трансляция пресс-конференции ГКЧП. Эмма поинтересовалась, почему он не с ними. Язов, ничего не сказав, огорченно махнул рукой. «Дима, – заплакала Эмма, – с кем ты связался! Ты же над ними всегда смеялся. Позвони Горбачеву…» Язов с раздражением в голосе повторил, что связи нет…
…ДЛЯ ЯНАЕВА
Янаев сидел в центре стола на сцене зала, битком забитом советскими и зарубежными журналистами. Шла пресс-конференция.
– Дамы и господа, друзья, товарищи! – говорил он. – Я хотел бы сегодня заявить о том, что Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР полностью отдает себе отчет в глубине поразившего страну кризиса. Он принимает на себя ответственность за судьбу Родины и преисполнен решимости принять самые серьезные меры по скорейшему выводу государства и общества из кризиса… В таком режиме, дамы и господа, работать, в каком работал президент Горбачев все эти последние шесть лет… естественно, и организм изнашивается немножко. Я надеюсь, что мой друг президент Горбачев будет в строю, и мы будем еще вместе работать…
...ДЛЯ ГОРБАЧЕВА
Перед обедом на сторожа «Зари» Вячеслава Генералова свалилась неожиданная новость: заместитель мэра Ялты в связи с тем, что Горбачев более не является президентом, отказался поставлять продукты на дачу.
С целью уладить конфликт, Генералов направил в Ялту своего сотрудника.
Горбачев тем временем с семьей и своим помощником, Анатолием Черняевым, пошел на пляж. Но не для того, чтобы искупаться…
– После полудня меня вызвал Горбачев, – вспоминает Анатолий Черняев. – «Пора, – говорит, – принимать меры. Пойдем-ка, поговорим на балконе». Но Раиса Максимовна предложила разговор перенести на пляж. Там, мол, уж точно не подслушают.
Разместились в пляжном шатре. Обсудив ситуацию, Горбачев сказал: «Надо выдвинуть два требования. Записывай!» И я записал эти требования: «1. Предоставить самолет для возвращения в Москву. 2. Восстановить связь».…
Свидетельствует сотрудник личной охраны президента Олег Климов:
– После 15 часов из главного дома дачи вышел помощник президента Анатолий Черняев. Вручив мне пакет, в котором были требования президента, он попросил меня передать его Генералову для незамедлительной отправки в Москву…
Свидетельствует генерал-майор КГБ Вячеслав Генералов:
– После того, как я получил пакет с требованиями Горбачева, я, не затягивая времени, позвонил Плеханову и зачитал ему текст записки. Через полчаса он нашел меня по телефону, сказав, что требования Горбачева переданы Янаеву…
…Заместитель начальника 9 отдела КГБ СССР в Крыму А. Костырев проводил собрание личного состава.
– Старшим на «Заре» является Генералов, – говорил он. – Все вопросы служебной деятельности решать только через него. Перестройка зашла в тупик: ГКЧП положит конец хаосу и анархии. В это сложное для страны время, мы, сотрудники КГБ, должны проявить себя должным образом. Это проверка для нас на прочность.
Личный состав поинтересовался состоянием здоровья Горбачева.
– Надо, – ответил Костырев, только что вернувшийся с «Зари», – ориентироваться на сообщения печати.
В 15.25 буй номер 3 выдал сигнал о нарушении водной границы «Зари». «Цель классифицируется как дельфин», – отметил в журнале дежурный сотрудник охраны.
В 16 часов на «Заре» включили телевидение.
Для охраны, свободной от службы, в кинозале крутили американский фильм «Кошмар в сумасшедшем доме».
ПРАВДА О ЯДЕРНОМ КАРАУЛЕ
В чьих руках советская «ядерная кнопка»? Не было, пожалуй, в дни путча вопроса более тревожного для мира. И более темного. Нельзя сказать, что со временем вопрос этот значительно прояснился. Свидетельством тому многочисленные «сенсации» в нашей и зарубежной прессе.
31 августа 1991 года итальянская газета «Карьере делла сера» опубликовала интервью с бывшим начальником Генерального штаба, в течение одного лишь дня занимавшим пост министра обороны, генералом Моисеевым.
– …В те часы единственным человеком, который контролировал стратегические, ядерные силы, был я. Президент был выключен, Язов – тоже. Могу сказать вам, что я обеспечивал безопасность и сделал это должным образом. Ничто не угрожало миру…
…Когда прервалась связь с дачей Горбачева в Крыму, мы разъединили все средства связи и поместили в безопасное место ядерный портфель. Я говорю о кодах на пуск, которые были отменены. Никто не мог ими воспользоваться…
Это утверждение генерала Моисеева.
А президент Горбачев незадолго до своей отставки в интервью французским журналистам заверял мировую общественность: «Только я могу начать ядерную войну».
Между тем, на уровне массового сознания бытует совсем иное представление о глобальных проблемах безопасности. В качестве иллюстрации процитируем статью доктора политических наук Дмитрия Ольшанского в еженедельнике «Россия» (27 ноября – 3 декабря 1991 г.). Для начала автор предлагает читателям такие, как он выражается, «факты».
«…18 августа, когда к Горбачеву в Форос прибыли эмиссары ГКЧП, все еще вроде бы было в порядке. Как всегда. Как положено. На месте, при Президенте, находился «хранитель безопасности» страны – дежурный офицер, «ядерный абонент», держатель того самого «чемоданчика», «портфельчика», в котором находятся ядерные коды, посредством которых Верховный главнокомандующий может привести в действие нашу стратегическую ядерную мощь. Так сказать, «нажать» кнопку.
После того, как депутация «чепистов» покинула Форос, офицер исчез. Неизвестно куда. Бесследно. Прямо-таки растворился. Вместе с чемоданом. И до сих пор нет ни одного сколь-нибудь официального сообщения о его последующей судьбе…»
Далее автор доводит до сведения читателей, что для генералов Генштаба «с 9 часов 40 минут первого дня путча началась сумасшедшая десятичасовая гонка», целью которой было заблокировать «ядерные замки», т. е. пункты спецсвязи, чтобы никто не смог воспользоваться «ключом», т. е. кодами, хранившимися в чемоданчике бесследно сгинувшего офицера безопасности.
Во время «сумасшедшей гонки», чуть было не закончившейся вооруженным столкновением с людьми из КГБ, генштабисты постоянно думали о пропавшем офицере и прорабатывали «три основные версии» случившегося с ним.
«Первая – самая успокоительная: парень с горбачевским «ядерным чемоданчиком» просто «выполнил до конца инструкцию». А в ней, вроде бы, есть пункт о самоликвидации в критической ситуации. Так что «заблокировал» чемоданчик и взлетел вместе с ним на воздух…
…Вторая версия: парень скрылся, чтобы коды не попали в «чужие руки», допустим, «гэкачепистов». Не исключалось, что кто-то (скажем, сотрудники нашей армейской разведки или еще кто-нибудь) мог помочь ему в этом. Но где он? В горах Бельбека? Или даже где-то в совсем ином месте? И что он будет делать с чемоданчиком? Контролирует ли он его? Да и вообще, не повредился ли от переживаний рассудок этого парня?
Данная версия плавно перетекала в третью, согласно которой «портфельчик» все-таки попадал или уже попал в чьи-то совсем уже чужие руки…»
Статья большая и пересказать все «факты», которыми оперирует автор, не представляется возможным. Подчеркнем лишь только, что изложенное в ней подается как истина в последней инстанции, а лица, фигурирующие в этом захватывающем повествовании, известны всему миру. И потому действуют подобные публикации на умы и сердца простых граждан несомненно сильнее, чем голословные заверения в полной безопасности, изредка доносящиеся из коридоров власти.
Однако действительные события, происходившие вокруг «ядерного чемоданчика» президента, мало похожи на истории о Джеймсе Бонде или нашем Штирлице. Ни лихих погонь, ни жертвенных самоликвидаций, ни хитроумных побегов – вообще ничего героического и романтического не случилось в то августовское воскресение, когда объект «Заря» был внезапно отрезан от мира.
В поездке на отдых Горбачеву сопутствовали девять служащих Генерального штаба: три офицера связи специального оперативно-технического управления – майоры В. Мануйлов, С. Соломатин, капитан В. Миронов и шесть сотрудников 9 направления Генерального штаба, подразделения, обеспечивавшего президенту СССР возможность управления стратегическими ядерными силами в чрезвычайной обстановке, при внезапном массированном ударе противника, – полковники В. Васильев, Л. Алешин, В. Рын-дин, В. Рожков, подполковники В. Кириллов и И. Антипов.
Начальником группы был Васильев. На дежурство заступали по три человека – два офицера-оператора и один связист. Дежурная смена длилась сутки, начинаясь в 9 часов утра. Свободные от дежурства офицеры жили в Алупке в военном санатории. Ни радио, ни телевизора, ни телефона у них там не было. В случае необходимости они ходили звонить к сестре-хозяйке, у нее стоял городской аппарат.
Ядерная вахта на «Заре» располагалась в так называемом гостевом домике метрах в ста от президентских аппартаментов. Операторы находились в одной комнате, связист – в другой. Доступ в помещение был ограничен, двери держали всегда закрытыми, обедать дежурные ходили по очереди. В распоряжении ядерного караула были следующие виды связи: специальная, связь ПМ или ВЧ, как называли ее ранее, прямая связь с президентом и дежурной сменой охраны, а также обычная внутренняя связь – трехзначная телефонная.
Ядерные адъютанты президента обязаны были выполнять только его приказы. Они не состояли в оперативном подчинении у сотрудников КГБ, однако согласовывали с ними действия на территории дачи. И, разумеется, их вход и выход контролировались охраной.
18 августа 1991 года на президентской даче дежурили офицеры-операторы В. Кириллов, И. Антипов и связист В. Миронов. Старшим в смене был подполковник Владимир Александрович Кириллов. В 16 часов 32 минуты по специальным аварийным сигналам аппаратуры офицеры-операторы узнали, что все виды связи в их помещении отключились. Погас также экран телевизора. Продолжал работать только радиотелефон, соединяющий ядерную вахту на даче со спецкоммутатором пункта правительственной связи в Мухалатке. Кириллов позвонил туда, попросил соединить с командованием в Москве, но ему ответили, что связи ни с кем нет. В 16 часов 35 минут дежурный связист смены Миронов доложил Кириллову, что из Мухалатки на его запрос о причинах отсутствия связи поступил ответ без комментариев – «Авария».
Вот что рассказал о дальнейших событиях этого дня Кириллов:
– …Примерно в 16 часов 40 минут к нам в комнату постучал Генералов, мы открыли дверь, и он сообщил, что старшего хочет видеть генерал Варенников. Поскольку я был старшим, то я пошел вместе с Генераловым к Варенникову, который находился в холле. Кроме него там были Плеханов, Бакланов и еще примерно человек пять, которых я не знал.
Варенников спросил у меня, в каком состоянии находится наш узел связи. Я ответил, что связи нет, на что он мне сказал, что так и должно быть и узел связи должен быть выключен. Я у Варенникова спросил, сколько это будет продолжаться, он ответил, что сутки. При этом он сказал, что президент все знает.
После этого разговора они поднялись и ушли к дому, в котором находился президент, а мы продолжали заниматься восстановлением связи, пытались соединиться с Москвой, но ничего не получалось. После 17 часов спецкоммутатор в Мухалатке вообще перестал отвечать. Я подходил к охране и спрашивал, есть ли связь и что происходит, но они мне ответили, что связи нет и они не знают, что происходит.
Примерно в 17 часов 15 минут я подошел к Плеханову с теми же вопросами, но он ответил: «Вас это не касается, продолжайте работу». В тот период я проверил прямую связь с президентом, но ее также не было. Где-то в 17 часов 20–25 минут все лица, прибывшие на дачу, уехали, остался один Генералов. Около 19 часов он подошел ко мне и сказал, что все режимные вопросы следует решать через него. Я спросил его о встрече с начальником нашей группы Васильевым, но Генералов ответил, что это невозможно, а если Васильев войдет на территорию дачи, то выйти не сумеет…
Поскольку с ядерными адъютантами президента не случилось ничего достойного внимания до утра следующего дня, покинем Форос и перенесемся в Москву, чтобы узнать, как реагировали на экстраординарную ситуацию в 9 направлении Генерального штаба ВС СССР, которое, как мы уже упоминали, должно было обеспечивать президенту возможность управления стратегическими ядерными силами в чрезвычайной обстановке.
Судя по свидетельским показаниям начальника этого суперважного подразделения Виктора Ивановича Болдырева, случившееся не только не подвигло штабных генералов на «десятичасовую сумасшедшую гонку за ядерными замками», но и вообще особого ажиотажа не вызвало. Впрочем, предоставим слово самому Болдыреву.
– …18 августа 1991 года после 17 часов, более точное время указать не могу, по докладу основного центра Коммутации системы, мне стало известно, что в 16 часов
32 минуты связь с дежурной сменой при президенте СССР прекратилась. Мне сказали, что причина пока не установлена, но она выясняется.
На следующий день, т. е. 19 августа, в 7 часов 45 минут мне дежурный офицер Потапов или Перегудов, точно не помню, доложил, что причиной прекращения связи является повреждение кабеля оползнем в полутора километрах от Фороса. До прихода на работу по радио я узнал, что в стране действует ГКЧП, о подготовке и создании которого мне ничего известно не было. Тогда я понял, что за оползень повредил кабель связи…
Чтобы подивиться столь длительной безмятежности генерала, надо знать то, что знал он:
– …Система управления стратегическими ядерными силами предусматривает: наличие в системе абонентских комплектов президента СССР, министра обороны СССР и начальника Генерального штаба ВС СССР, объединенных пунктом управления…
…при отключении абонентского комплекта президента СССР от пункта управления разрушается вся система управления стратегическими ядерными силами, т. к. без комплекта президента СССР управление невозможно.
Таким образом, президент СССР был лишен возможности управления стратегическими ядерными силами с использованием специальной автоматической системы управления с 16 часов 32 минут 18 августа 1991 года…
Но только в 8 часов утра 19 августа начальник ядерного караула начинает предпринимать попытки разобраться в происходящем.
– …Понимая, что произошло, я попытался связаться с дежурной сменой на Форосе, но смог дозвониться только до отдела правительственной связи в Ялте. Там соединить меня с моими дежурными отказались, сославшись на то, что линия не работает. Поэтому выяснить обстановку, создавшуюся у президента СССР, я не смог. А в 8 часов 30 минут меня вызвал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС СССР В. Г. Денисов и приказал эвакуировать в Москву абонентский комплект президента и группу офицеров, которые обслуживали его. На это я Денисову ответил, что связи с группой не имею…
А в это время в Форосе у полковника Виктора Тихоновича Васильева, начальника группы ядерных адъютантов президента, голова шла кругом от неожиданного поворота событий. 19 августа он должен был сопровождать Горбачева в Москву на подписание Союзного договора, поэтому приехал на президентскую дачу пораньше, чтобы сменить дежурных и подготовиться к вылету. С ним были офицеры из очередной смены.
– …Около 8 часов 19 августа, – вспоминает Васильев, – мы подъехали к посту внешней охраны, ворота были закрыты, их охраняли люди в форме пограничников. К нам подошел старший лейтенант. Мы объяснили ему, кто такие, и предъявили пропуска. Он переписал наши фамилии, уточнил имена, отчества и ушел.
Затем к нам вышел полковник, тоже пограничник, и сказал, что наши пропуска недействительны, а все вопросы решает Генералов. У меня и у других возник вопрос, что же случилось, на что полковник ответил: «Слушать надо радио». Мы же ничего не знали, т. к. в санатории ни радио, ни телевизора у нас не было.
Тогда полковник, видя, что мы действительно ничего не знаем, вынес нам из домика охраны транзисторный приемник. Мы услышали «Обращение к советскому народу» и поняли, что произошло что-то не совсем объяснимое, т. к. по радио передали о том, что у Горбачева плохое состояние здоровья и он не может исполнять обязанности президента. Мы же все знали, что М. С. Горбачев здоров и должен сегодня лететь в Москву, т. к. вылет не отменяли и не откладывали.
Мы ждали ответа, вернее решения Генералова, больше часа и узнали о нем от того же полковника. Он передал нам, что смены не будет, никого не велено пропускать, а нам следует ехать к месту своей постоянной дислокации, т. е. в Алупку. Мы вернулись в санаторий…
Итак, генерал КГБ скомандовал начальнику ядерного караула: «Кругом, арш!», и тот безропотно подчинился. Другой реакции от него, собственно, и не приходилось ожидать. В конце концов, он был не Джеймс Бонд и не какой-нибудь камикадзе, а полковник Васильев – дисциплинированный военспец. И потому не надо было толковать ему про субординацию, про то, что в Москве есть начальство повыше и если что не так – пусть генералы Генштаба разбираются с гэбистом Генераловым.
И те действительно разобрались, причем, без всяких аффектаций, доказав тем самым, что КГБ и Генеральному штабу не было никакого резона устраивать «сумасшедшую гонку за ядерными замками», не говоря уже о том, чтобы заставлять своих людей кидаться друг на друга из засад.
Узнав от начальника 9 направления Болдырева о том, что у него нет связи с ядерным караулом президента, начальник Главного оперативного управления Генштаба Денисов тут же снял трубку и позвонил, после чего назвал Болдыреву номер телефона, по которому ему «разрешат связаться с группой». «Разрешавшим» был заместитель Крючкова Агеев. По его приказу заработали «волшебные» телефоны КГБ, Васильева нашли в санатории и велели ехать в Ялту, в отдел правительственной связи, откуда он позвонил Болдыреву.
Болдырев передал Васильеву приказ Денисова: «Сосредоточить всех офицеров в Ялте и быть готовыми к выезду на аэродром «Бельбек», где их будет ждать самолет».
Васильев ответил, что не может вывести смену с президентской дачи. Болдырев перезвонил Денисову. Тот заверил, что все образуется, и приказал только сообщить начальнику штаба ПВО Мальцеву список офицеров, которые должны вылететь из Фороса в Москву.
И действительно, уже к полудню прояснилась участь дежурной смены, запертой на президентской даче.
– …Около 13 часов, – вспоминает Антипов, – зашел Генералов и сказал, чтобы мы не волновались, все будет нормально, и чтобы мы собрали свою аппаратуру, она еще пригодится, и что есть приказ от Болдырева и Денисова вылететь нам в Москву.
Около 14 часов нам сообщили с КП, что приехал Васильев… Нас на автомашине КГБ отвезли на КП, за воротами ждал Васильев. Он подтвердил, что есть приказ от Денисова через Болдырева нам выезжать. Мы перенесли нашу аппаратуру в РАФ, на котором приехал Васильев, и отправились за связистами, что были в Мухалатке на спецкоммутаторе, взяли их, потом поехали в Алупку, забрали тех, кто был там, и уже все вместе отправились в аэропорт «Бельбек»…
В 19 часов 40 минут ядерный караул в полном составе улетел в Москву на самолете президента и увез с собой его абонентский комплект, приведенный в нерабочее состояние путем стирания магнитной памяти. Во «Внуково-2» офицеры сдали встречавшим их представителям Генштаба оружие и аппаратуру, после чего были развезены по домам, за исключением Васильева, который как старший группы отправился к начальству на доклад.
Та поистине будничная простота, с которой президент, Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил, был отстранен от контроля над стратегическим сверхоружием, неопровержимо свидетельствует о том, что фактически он никогда не владел ядерной кнопкой. Управление ядерными силами всецело находилось в руках генеральской верхушки армии и КГБ.
Между тем и мировую общественность, и президента всячески заверяли, что без президентского приказа «атомный кулак» не ударит, что вся система управления ядерными стратегическими силами «Казбек» замкнута на абонентский комплект президента, который устроен так, что даже попади он в чужие руки, злоумышленникам не удастся им воспользоваться, а в случае отключения его от системы вся она парализуется.
Вспомним, однако, цитировавшееся в начале этой главы утверждение начальника Генштаба Моисеева, что он был единственным человеком, контролировавшим стратегические ядерные силы в дни путча, и сопоставим их с показаниями Юрия Дмитриевича Маслюкова, длительное время являвшегося председателем Государственной военно-промышленной комиссии кабинета министров СССР и входившего в состав Совета обороны страны. Будучи допрошенным в качестве свидетеля, он на вопрос, состоится ли ответный ядерный удар, если президент СССР лишен возможности доступа к системе «Казбек», дал такой ответ: