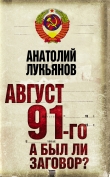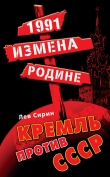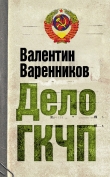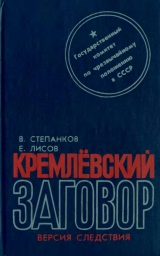
Текст книги "Кремлевский заговор"
Автор книги: Валентин Степанков
Соавторы: Евгений Лисов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
ПОРТРЕТ «КРЕМЛЕВСКОГО ЯСТРЕБА», КОТОРОГО КОЛЛЕГИ НАЗЫВАЛИ «КРЕМЛЕВСКИМ ДВОРНИКОМ»
ДОСЬЕ СЛЕДСТВИЯ
СПРАВКА О ЛИЦЕ, ПРОХОДЯЩЕМ ПО ДЕЛУ О ЗАГОВОРЕ С ЦЕЛЬЮ ЗАХВАТА ВЛАСТИ.
Бакланов Олег Дмитриевич. 1932 года рождения. Родился в г. Харькове. Украинец. Образование высшее. Закончил Всесоюзный заочный энергетический институт. Кандидат технических наук. Член КПСС с 1953 года. Начал работать после окончания ремесленного училища монтажником на секретном заводе в 1950 году. Здесь прошел все ступени служебной лестницы до заместителя главного инженера завода.
Затем стал главным инженером Харьковского приборостроительного завода, принадлежащего министерству Общего машиностроения (оборонная промышленность). В 1972 году возглавил его. С 1975 по 1976 годы – генеральный директор производственного объединения «Монолит» министерства Общего машиностроения. С 1976 года – заместитель министра Общего машиностроения, с 1983 года – руководитель этого министерства.
С 1988 по 1991 год секретарь ЦК КПСС – куратор оборонной промышленности. Последняя занимаемая должность – заместитель председателя Совета Обороны при президенте СССР.
Лауреат Ленинской премии 1982 года. Герой Социалистического Труда, награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами «Октябрьской революции», «Знак почета», многими медалями, в том числе медалью «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа».
На ноябрьской, 1990 года, встрече президента с воинами-депутатами рядом с Язовым в президиуме сидел секретарь ЦК КПСС Олег Бакланов – куратор оборонной промышленности, жесткий блюститель военных интересов.
Напрасно искать фамилию Бакланова в списках награжденных. Перечень его орденов здесь публикуется впервые. О том, какие награды и за что получал Бакланов, мало кто знал. С него, как с «секретоносителя», не спускал глаз КГБ. За несколько дней до заговора у Бакланова на Украине умерла двоюродная сестра. Даже в поездке на ее похороны Бакланова «пас» офицер КГБ. Только узкий круг лиц был осведомлен, что он является председателем государственной комиссии по программе «Буран», что первые пуски этих кораблей, созданных в противовес «Шатлу», осуществлялись под его непосредственным руководством.
Бакланов не был исключением – все, что касалось обороны, было тайной за семью печатями. Военная доктрина никому не оглашалась, никто не знал, в чем ее суть. «Когда поют солдаты, спокойно дети спят!» – эти слова из популярной песни были ответом на все вопросы.
В советской прессе не было принято критиковать армию, а тем более оборонную промышленность. Эта тема была закрытой. Оборонные заводы, на которых работал чуть не каждый четвертый житель СССР, как бы вовсе не существовали – даже разговоры о них, с точки зрения КГБ, были преступлением против безопасности страны. Общественному мнению внушалось: все, что предпринимается партией и ленинским ЦК в оборонной сфере, может вызывать только одобрение.
Лишь после провала заговора стала просачиваться информация о том, что дела обстоят далеко не так.
Один из самых авторитетнейших ученых страны, занимающийся проблемами обороны, Петр Короткевич в интервью «Литературной газете» заявил, что в результате близорукой политики КПСС к руководству ВПК пришли некомпетентные, случайные люди. Короткевич назвал их «кремлевскими дворниками»: – «Дворники не понимают, что такое наука, потому-то и возникли дорогостоящие программы, от которых не было никакого толку».
Короткевич назвал целый ряд таких программ, в том числе «ядерный щит» Москвы, обрекавший столицу в случае агрессии на двойной удар – чужой и… свой, и особо подчеркнул роль главы «кремлевских дворников» Олега Бакланова в создании всех этих безумно дорогих нелепиц.
Ученый рассказал, как в 1989 году секретарь ЦК КПСС Бакланов «заморозил» проект единой стратегической обороны, разработанный группой крупнейших ученых, передовых военных руководителей. Реализация проекта означала сокращение и профессионализацию армии, демилитаризацию экономики и в конечном результате двойное (!) уменьшение оборонных расходов.
К 1985 году Советский Союз проиграл состязание с США по основным стратегическим технологиям, которые определяют военно-стратегический потенциал государства. По данным второго секретаря Управления международных организаций министерства иностранных дел Российской федерации Сергея Федерякова, приведенным в февральском (1992 г.) номере журнала «Международная жизнь», в 1982 году США опережали СССР по десяти позициям стратегических технологий. Причем, по таким важнейшим, как компьютеры, системы наведения ракет, обнаружения подводных лодок, технологии «Стеле», Советский Союз отставал очень значительно. По пяти технологиям у СССР и США было равенство. А по двум позициям – обычные боеголовки и силовые установки – Союз шел впереди. В 1985 году СССР уже не имел преимущества ни по одной из технологий. Увеличивался временной разрыв в разработке и внедрении образцов новой техники. Если в 40–50 годах он составлял 5–6 лет, то в 60–80 годах он уже достигал 9—12 лет.
Для СССР втягиваться в новый дорогостоящий виток капиталоемкого военно-стратегического строительства было равносильно самоубийству. Так считали объективные эксперты. Но курс на свертывание гонки вооружений больно ударял по ВПК, который вольготно чувствовал себя в условиях постоянного противостояния – сорил деньгами, получал награды.
С семидесятых годов верхушка ВПК состояла из членов так называемой «днепропетровской группировки» Брежнева. В партии за «оборонку» отвечал друг генсека по Днепропетровску – секретарь ЦК КПСС Кириленко, в Совете Министров оборонными вопросами ведал днепропетровец Смирнов, а за их спинами уютно пристроились родственники партийной и государственной аристократии. Зять Устинова занимался разработкой боевых лазеров, зять Кириленко – СОИ и так далее, и так далее…
Достаточно утвердившись в этом мире, Бакланов в 1983 году занял пост министра Общего машиностроения. В 1988 году инерция прошлых номенклатурных подходов вознесла его в кресло секретаря ЦК КПСС, куратора военно-промышленного комплекса. Даже в самых смелых мечтах он не представлял себе, что станет преемником Устинова, Кириленко – вождей, вошедших в историю Советского государства. Он рассчитывал, что будет обладать такой же властью и влиянием, как и они. Однако Горбачев начал ломать кости оборонной промышленности, провозглашать речи в пользу мирного сосуществования.
Бакланов, в отличие от большинства будущих сотоварищей по ГКЧП, никогда не играл с президентом «в темную», он сразу предпочел роль откровенного оппозиционера. На совещаниях по разоружению Горбачев не раз был вынужден останавливать Бакланова, отстаивавшего интересы ВПК, вопросом: «Вы что, не согласны с моей политикой?»
Особенно крупный конфликт возник между ними из-за американской СОИ. Система, которая создавалась США с целью противодействия возможному ракетно-ядерному нападению, была выведена за скобки переговоров по разоружению. СССР же уменьшал ракетно-ядерный потенциал. СОИ, по мнению Бакланова, таким образом вполне могла противостоять советскому ракетному удару. Он поставил вопрос о том, чтобы СОИ на переговорах по разоружению была все же положена на весы американской стороной. Раздраженный Горбачев оборвал его: «Не лезь в это дело!»
На армию как силу, способную положить конец «смуте», у Бакланова оставалась последняя надежда.
Следствие при обыске обнаружило у него речь, с которой он готовился выступить на апрельском 1991 года пленуме ЦК КПСС. Вот что он хотел сказать партии и народу:
«…Иллюзорными выглядят сегодня представления о том, что военной угрозы извне нашему народу не существует. Нами и так сделаны колоссальные односторонние сокращения Вооруженных Сил, производства вооружения и военной техники, ведения научных и конструкторских работ в области обороны. Достигнутый в 70-е годы с огромным напряжением сил и средств народа военный паритет сегодня разрушен, и мы живем практически под диктовку США, которые стали фактически безраздельным властелином стран и народов, мировым жандармом.
Дальше отступать нельзя. Коварными заблуждениями дилетантов являются навязываемые народу представления о якобы безграничных возможностях военно-промышленного комплекса…
Основным условием антикризисной программы должно быть немедленное приостановление всех республиканских и региональных законов, принятых после 1985 года… восстановление целостности СССР в «границах 1985 года», создание Комитета национального спасения с чрезвычайными полномочиями, вплоть до введения военного положения в стране.
Чрезвычайные меры могут быть осуществлены лишь чрезвычайной политической властью, которая имеет разветвленную структуру, пронизывающую все слои общества, все сферы народного хозяйства.
Такой властью может быть лишь КПСС, пусть обескровленная, отлученная от рычагов управления, но сохраняющая в себе вертикальные структуры, а значит, способность и возможность управлять на основе железной дисциплины ее членов…»
Шеварднадзе, который в беседах с Бейкером рассуждал о том, что не за горами то время, когда США и СССР будут согласовывать, какие виды вооружения целесообразно создавать вместе, Бакланов считал агентом, продающим интересы Родины. И Горбачева тоже. И не он один. Из его заявления следствию явствует: подозрение Бакланова, что Горбачев преднамеренно подрывает обороноспособность страны, разделяли Крючков и Болдин. Именно это создало, по словам Бакланова, «определенный фон» его действий в августе 1991 года.
Накануне заговора со страниц ультра-патриотической газеты «День» он открыто делился «планами на будущее»:
«…Армия, если ей придется взять на себя управление экономикой, транспортом, обществом в целом, сможет лишь некоторое время поддерживать такое управление… Она, армия, нуждается в серьезном интеллектуальном обеспечении, чтобы сформулировать концепцию нового периода, внести в него не только стабилизирующие элементы, но и элементы развития. Вообще в Вооруженных Силах, в оборонной индустрии накоплен огромный организационный опыт, которым может воспользоваться гражданское общество. У оборонщиков гораздо больше организационного опыта, чем, скажем, у новоиспеченных политиков, которые не в состоянии обеспечить даже уборку мусора на улицах Москвы, накормить и одеть население, спланировать стратегию городского хозяйства. Когда дилетанты отступят на задний план, перестанут бить по рукам инженерам, они снова восстановят застывшую промышленность, оживят научно-исследовательские коллективы, продолжат свои изыскания и открытия…»
Тихий, всегда начинающий свое обращение к кому бы то ни было со слова «уважаемый», человек толкал страну на самоубийство.
ДОСЬЕ СЛЕДСТВИЯ
ДОКУМЕНТ БЕЗ КОММЕНТАРИЯ
Из протокола допроса Олега Бакланова от 9 сентября 1991 г.:
Вопрос:
– За что Вы получили столь высокие награды?
Ответ:
– «Знак Почета» я получил за разработку ракетного комплекса. Орден Трудового Красного Знамени – за аналогичную работу. Звание Героя Социалистического Труда – за постановку на боевое дежурство последних моделей. Ленинскую премию – за модернизацию одной из машин, которая до сих пор стоит на боевом дежурстве.
Вопрос:
– Когда и где Вы познакомились с членами ГКЧП? Какие у Вас были с ними отношения?
Ответ:
– С Тизяковым я познакомился будучи секретарем ЦК. Был в Свердловске. Посетил завод, которым он руководил. После этого с Тизяковым завязались рабочие контакты, связанные с конверсией. Павлова я тоже плохо знал. Когда работал министром Общего машиностроения, Павлов был каким-то чиновником в министерстве финансов. Я с ним не общался, имел дела с министром финансов Гарбузовым. Более близко я Павлова узнал, когда встал вопрос, кого назначать председателем кабинета министров после ухода с этого поста Рыжкова.
Янаева я впервые увидел, когда его избирали секретарем ВЦСПС. Выслушал его речь, а потом уехал. Это было в 1989 или 1990 году.
С Крючковым я имел больше контактов, так как он обладал большой информацией, и общей и специальной. Когда началась трансформация Политбюро, когда концентрация власти несколько изменилась, естественно, у меня возникали на сей счет вопросы и я обращался к Крючкову. Он вообще человек, способный анализировать.
С Язовым я познакомился, когда стал министром Общего машиностроения. Как руководитель министерства, которое выполняло заказы обороны, счел нужным познакомиться в первую очередь с Язовым. Взял с собой слайды образцов военной техники, показал ему, над чем работаем. Это было наше первое с ним знакомство. А дальше все совещания, которые он проводил по вопросам военной техники, я всегда посещал.
С Пуго я познакомился, когда он уже руководил Комиссией партконтроля в ЦК КПСС. Я позвонил ему в связи с тем, что меня как секретаря ЦК направили на пленум в Ригу, и я посоветовался, как себя там вести. Это был мой первый контакт с Пуго. Второй контакт был, когда рассматривалось дело по «АНТу». Ему и мне было поручено этот вопрос изучить.
Болдин являлся ключевой фигурой в аппарате ЦК, и вся текущая работа шла через него. Человек он очень собранный, исполнительный, принципиальный, болеющий за дело.
Вместе с Болдиным и Крючковым мы состояли в одном дачном кооперативе. Получили кредит для строительства на 10 лет. И на почве совместного строительства у нас были тоже постоянные контакты.
Варенникова я узнал по совместной командировке в Афганистан, куда я был послан в качестве личного представителя Горбачева. Моя задача состояла в том, чхобы в личных контактах с Наджибуллой дать ему понять, что принято однозначное и бесповоротное решение о выводе советских войск из Афганистана. Командовал советскими войсками в Афганистане тогда генерал Громов, а Варенников был Главным уполномоченным советником. Все вместе мы обсуждали проблемы, возникающие в связи с выводом войск.
Лукьянов попал в поле моего зрения, когда еще был заведующим отделом ЦК КПСС. Я как-то, сразу после прихода на работу в ЦК, попросил его проконсультировать меня, как себя вести, какие в ЦК существуют обычаи, правила. Он к моей просьбе отнесся по-человечески, объяснил, что к чему. На заседании Политбюро ЦК КПСС Лукьянов сидел как раз напротив меня. А когда Лукьянов ушел на работу в Верховный Совет, отношения стали у нас носить характер «здравствуйте – до свидания».
Вопрос:
– В каких командировках Вы были за последний год, начиная с лета 1990 года?
Ответ:
– Был в городе N. Там у нас большой комбинат, связанный с производством ядерного оружия. С одной стороны, меня беспокоило, что мы прекратили испытания, из-за чего можно было потерять контроль над этой техникой, с другой стороны, рассматривали, как включить здешний научно-технический потенциал в процесс конверсии. Это было за месяц – полтора до августовских событий. Также летом 1991 года я летал в Алма-Ату к Назарбаеву. Нам нужно было провести с американцами в Семипалатинске совместные испытания. Поэтому Назарбаев просил приехать, встретиться. Договорились, что мы сделаем соответствующие выплаты за возможный ущерб в порядке трех миллиардов. Потом летал на полигон, расположенный на Новой Земле. Осмотрели все места, где раньше проводились испытания, все скважины, заслушали научно-технические доклады. Определились, что взрывы на Новой Земле можно продолжать. Решили с этим предложением выйти на Верховный Совет СССР…
ДОСЬЕ СЛЕДСТВИЯ
ДОКУМЕНТ БЕЗ КОММЕНТАРИЯ
Из заявления Олега Бакланова на допросе от 6 ноября 1991 г.:
…Дело касается вопроса, связанного с тем обвинением, которое мне предъявлено. Когда я стал заниматься вопросами обороны нашей страны, то, исходя из имеющегося опыта, высказывал свои позиции товарищу Горбачеву. И руководствовался, соответственно, этими позициями. Затрагивал, в частности, вопросы переговоров по разоружению. С моей точки зрения, его ратифицировать нельзя, потому что в период переговорных процессов, которые длились на протяжении восьми или девяти лет, мы сделали ряд существенных упущений, которые ставят наше государство в неравные условия с нашим партнером, с которым этот договор заключается, – с Соединенными Штатами Америки.
Я не хотел бы обсуждать политические аспекты этого договора, поскольку он имеет и позитивные, и негативные стороны. Этот вопрос требует специального рассмотрения и, возможно, дополнительной дискуссии. Но с точки зрения военно-стратегических вопросов, здесь есть существенные замечания. Первое: блок НАТО сейчас существует и укрепляется, а Варшавского договора у нас нет. В процессе переговоров из них был исключен вопрос о военно-морских силах США, которые являются существенной частью в триаде стратегических ядерных наступательных сил Соединенных Штатов. Соотношение боевых блоков за счет методики подсчетов, а также за счет того, что потенциал Англии и Франции был выведен за скобки, складывается с существенным превосходством в пользу Соединенных Штатов примерно в полтора-два раза. Это было изложено в личной записке товарищу Горбачеву. Она не была принята во внимание, и договор был подписан без учета этого замечания.
Следующий вопрос – это вопрос, связанный с системой раннего предупреждения о возможном ракетно-ядер-ном нападении. Дело в том, что наша Красноярская станция, которая была построена в этих целях и находилась на этапе ввода в эксплуатацию, была американской стороной поставлена под сомнение как нарушающая договор. И из-за политики, которая проводилась со стороны бывшего министра иностранных дел, она была демонтирована. В то же время, две станции раннего предупреждения со стороны американцев и блока НАТО, – это в Гренландии и Англии – несоответствующие договоренности, продолжают функционировать и сейчас.
В процессе контактов и разговоров по работе я обменивался мнениями на этот счет с Владимиром Александровичем Крючковым, Валерием Ивановичем Болдиным. Может быть, я неправильно понял, но они высказали ряд замечаний, которые меня навели на мысль, что такая политика была не случайной. Я больше не хотел бы распространяться на эту тему, а хотел бы просить Вас предоставить возможность очной ставки с товарищами, поскольку их информация создавала определенный фон моих действий, в частности, связанных с ГКЧП.
Вопрос:
– Вы не могли бы уточнить, из чего Вы поняли, что такая политика президента с чем-то связана. Вам кто-то сказал или были какие-то документы?
Ответ:
– Заниматься такой серьезной проблемой как безопасность страны и не знать целей своей деятельности – это, по меньшей мере, нелепо…
Вопрос:
– Ас какой целью нужна очная ставка?
Ответ:
– С той целью, чтобы снять сомнения в части моих размышлений по поводу добросовестности проведения пере говорных процессов. Или мои сомнения напрасны, или они имеют под собой дополнительную основу, которой я не располагаю, но которой, может быть, располагают мои коллеги…
ПОРТРЕТ ПРЕМЬЕРА,
КОТОРЫЙ СЧИТАЛ ЗАПАДНЫХ БАНКИРОВ ДИВЕРСАНТАМИ
СПРАВКА НА ЛИЦО, ПРОХОДЯЩЕЕ ПО ДЕЛУ О ЗАГОВОРЕ С ЦЕЛЬЮ ЗАХВАТА ВЛАСТИ.
Павлов Валентин Сергеевич. 1937 года рождения. Русский. Образование высшее. По специальности экономист, окончил Московский финансовый институт. Доктор экономических наук. Член КПСС с 1962 года.
Начал трудовую деятельность с инспектора государственных доходов райфинотдела, затем работал в министерстве финансов СССР, где от рядового экономиста дослужился до заместителя министров финансов СССР. В 1986 году стал председателем Государственного комитета по ценам, в 1989 – министром финансов СССР, в 1991 – премьер-министром СССР.
28 съездом партии избран членом ЦК КПСС. С марта 1991 г. – член Совета Безопасности СССР. Военнообязанный, лейтенант запаса интендантской службы. Награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени.
«Ярый прагматик. Не властолюбив, но не склонен подчиняться. Обладает чрезвычайно, крепкой нервной системой. Не слишком заботится о том, что будут говорить о нем впоследствии. Готов идти на непопулярные решения. Он не пробиваем».
Павлов все сделал для того, чтобы подтвердить эту характеристику физиономиста, которую газета «Московские новости» напечатала вскоре после его вступления в должность председателя кабинета министров.
Первая же проведенная Павловым крупная акция по изъятию из оборота 50 и 100 рублевых купюр обернулась скандалом. «Нам угрожала потеря экономической независимости, так как Запад скупил в огромном количестве 50 и 100 рублевые купюры и готовился выбросить их на наш денежный рынок, чтобы дестабилизировать обстановку в стране», – объясняя причины грандиозной операции, заявил Павлов, в интервью газете «Труд». По его мнению, «против СССР ведется «финансовая война»», в которой участвуют западные банки».
Это шокирующее заявление многие расценили, как отказ от нового мышления и возврат к временам «холодной войны». В ответ на просьбу ЕС пояснить смысл высказываний премьер-министра СССР, вызвавших негативную реакцию на Западе, М. С. Горбачев посоветовал не трактовать их «обобщенно».
Акция Павлова преследовала скорее политические, чем экономические цели: вбить клин между Горбачевым и Западом, показать республикам, кто в стране хозяин. Изъятие денежных купюр демонстративно не было согласовано с республиками. Глава российского правительства Иван Силаев узнал о готовящейся операции буквально за несколько часов. Ближе к полуночи его вызвал к себе Павлов и, действуя в духе сталинских традиций, вручил свое распоряжение в запечатанном конверте, вскрыть который приказал только на рассвете.
Главной целью Павлова было обуздать суверенитет республик. Главным его противником стало правительство России. После «российского демократического взрыва» 1990 года политическая и экономическая инициатива начала стремительно переходить вниз, к республикам, к новым представительным органам и общественности. И остановить этот процесс без укрощения России было невозможно.
В отличие от своего предшественника Рыжкова Павлов, первый профессиональный финансист на посту премьер-министра, не тратил время на театральные всхлипывания и риторические призывы остановить «парад суверенитетов» – он решил воздействовать на республики силой рубля. На период реализации антикризисной программы Павлов намеревался полностью подчинить себе Госбанк СССР и налоговые инспекции. Это давало возможность с помощью финансово-бюджетной и кредитной политики сохранить единое экономическое пространство, зорко присматривать за национальными окраинами и таким образом остановить распад союзной экономики на отдельные составляющие.
Но ставка на «завинчивание экономических гаек», будучи возвратом к администрированию, только модернизированному, получила резкий отпор со стороны республик, бесповоротно ставших на путь экономической и хозяйственной самостоятельности.
Причины своих неудач Павлов видел в политике Горбачева, который вместо того, чтобы содействовать сохранению влияния Центра, пошел навстречу республикам, начав Ново-Огаревский процесс. В случае подписания Союзного договора сформированное Павловым правительство практически оставалось бы не у дел, а разработанная им программа сохранения сильного Центра выбрасывалась на свалку.
Остановить Ново-Огаревский процесс могло только ЧП.
«Партия утратила бдительность, – сказал Павлов на апрельском пленуме ЦК КПСС 1991 года. – Кабинет министров предлагает немедленно ввести ЧП на транспорте, в отраслях топливно-энергетического комплекса, металлургии. При необходимости ЧП должно вводиться и в отдельных регионах страны. Особый режим деятельности должен быть введен и в банковской системе».
На это Горбачев Павлову и другим, муссировавшим на пленуме тему ЧП, ответил в своей заключительной речи: «Некоторые товарищи видят способ выхода из кризиса в одном – во введении ЧП во всей стране. Причем, под этим подразумевается отнюдь не потребность сохранения порядка и дисциплины на производстве… Будем говорить откровенно. По существу многим чрезвычайные меры видятся как средство возврата к политической системе, существовавшей у нас в доперестроечное время…»
Отношения между Павловым и Горбачевым после апрельского пленума обострились. Президент и премьер-министр окончательно разошлись по разные стороны баррикад.
На июньской сессии Верховного Совета СССР, на которой Павлов потребовал для себя «дополнительных полномочий», в том числе и на законодательную инициативу, депутат из Белоруссии поинтересовался, как тот собирается реализовывать суверенитет республик в сочетании с идеей сохранения единого экономического пространства. На что премьер в свойственной ему нагловатой манере (а в тот день он был, что называется, в ударе) ответил: «Вообще суверенитета как такового, ничем не ограниченного, не бывает нигде в мире. Суверенитет всегда ограничен. Либо это делается добровольно, либо принудительно».
Кабинет министров, если бы предпринятая на сессии попытка «законного» переворота удалась, немедля ввел бы в стране ЧП. Об этом свидетельствует подготовленный Александром Тизяковым проект правительственного Постановления. Свое мнение о человеке, которого данный документ, в случае вступления в силу, превращал в диктатора, Тизяков изложил на допросе от 26 сентября 1991 года:
– …Я знал, что Павлов слишком увлекается алкоголем, и причем серьезно. Поэтому на встречах с М. С. Горбачевым я трижды ему докладывал об этом, что Павлов пьет и очень часто. Знали об этом и в Минфине СССР.
После утверждения Павлова премьером все подтвердилось. Он, кроме складно говорить, оказался неквалифицированным во многих вопросах руководителем. Вы можете переговорить с его первыми заместителями, и они, если будут честными, подтвердят это…
Верховный Совет оказался принципиальнее Тизякова и отказал премьер-министру в его притязаниях. Таким образом конституционные методы введения ЧП были исчерпаны. Павлову оставалось либо ожидать сложа руки разгрома своего правительства, либо войти в число заговорщиков.
В Лондон, на совещание «семерки», Горбачев взял не премьера, а его заместителя Щербакова. Похоже, что это и определило окончательный выбор Валентина Павлова.
ДОСЬЕ СЛЕДСТВИЯ
ДОКУМЕНТ БЕЗ КОММЕНТАРИЯ
Из проекта Постановления кабинета министров СССР, которое планировалось принять в случае предоставления правительству дополнительных полномочий: [4]4
Изъят при обыске у А. Тизякова.
[Закрыть]
От______________ 1991 г. Москва. Кремль.
Шестой год так называемой перестройки привел страну к развалу экономики и политической системы.
В экономике происходят процессы, которые привели страну на грань катастрофы. Падают выпуск продукции, национальный доход. Упала дисциплина на производстве. Расстроена денежная система. Практически потеряно управление народным хозяйством.
Объявленные суверенитеты привели страну к гражданской войне, в результате мы имеем сотни погибших и около миллиона беженцев.
Все больше разгорается война законов. Страну захлестнула преступность.
Политическая нестабильность сводит на нет все меры по стабилизации экономики.
То есть, на данном этапе идет речь о спасении государства и общества.
Это – не лозунг, а концентрированная оценка на сегодня ситуации в стране. Такое дальше допускать нельзя, ибо это приведет к более тяжелым последствиям.
Исходя из сложившейся критической обстановки в стране, которая вызывает законную тревогу всех советских людей за судьбу своей Родины, Союза Советских Социалистических Республик, и Постановления Верховного Совета СССР «О предоставлении Правительству СССР особых полномочий на период вывода экономики СССР из кризиса», Кабинет Министров СССР берет на себя полноту ответственности по принятию безотлагательных срочных мер по стабилизации политического и экономического положения в СССР и постановляет:
1. Ввести чрезвычайное положение на всей территории СССР.
2. Установить, что на всей территории СССР действуют только Законы Союза ССР.
3. Возложить ответственность за стабилизацию экономики и политического положения в стране на исполнительные органы власти всех уровней.
4…Все нижестоящие органы подчиняются вышестоящим органам исполнительной власти. Решения исполнительных органов обязательны для всех ведомств, предприятий, организаций, советских, иностранных граждан и общественных организаций…
5. Министру обороны СССР т. Язову Д. Т. вводить при необходимости комендантский час на всей или отдельных территориях СССР, для чего образовать необходимое количество комендатур. Решение о введении комендантского часа до населения доводит командующий войсками военного округа. Всем исполнительным органам власти оказывать помощь в реализации необходимых мер по осуществлению чрезвычайного положения и комендантского часа.
6. КГБ и МВД СССР (т.т. Крючков В. А., Пуго Б. К.) в период чрезвычайного положения согласовывают свои действия с Министерством обороны СССР.
7. Кабинет Министров СССР обращается ко всем гражданам СССР, трудовым коллективам предприятий, организаций, общественным организациям, средствам массовой информации с призывом проявлять спокойствие, благоразумие и принять все необходимые меры по быстрейшей стабилизации экономического и политического положения в СССР.
8. Данное Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Премьер-министр СССР В. С. Павлов