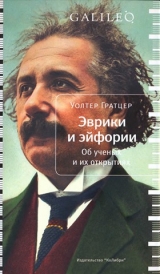
Текст книги "Эврики и эйфории. Об ученых и их открытиях"
Автор книги: Уолтер Гратцер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
Живое ископаемое
За три дня до Рождества 1938 года хранительница крошечного Ист-Лондонского музея на восточном побережье Южной Африки готовила к выставке коллекцию ископаемых останков. Девушку звали Маржори Куртенэ-Латимер. Тем утром ее работу прервал телефонный звонок из гавани, где только что пришвартовался траулер, доверху набитый уловом, – имелись и акулы, и множество другой рыбы. Капитан траулера и прежде передавал самых разнообразных рыб в коллекцию музея. Куртенэ-Латимер еще не успела распорядиться запасами от предыдущих уловов, а выставку следовало подготовить до праздников. Поэтому нельзя сказать, чтобы ей особо хотелось возиться с новыми образцами. “Но тут я вспомнила, как все на “Ирвине” и “Джонсоне” были ко мне добры. Тем более приближалось Рождество. По крайней мере, мне следовало спуститься в порт – пожелать им того, чего обычно желают на праздник”.
Итак, мисс Куртенэ-Латимер взобралась на борт траулера и увидела на палубе груды рыбы, губок, водорослей и прочей мелочи. Поодаль от главной кучи виднелся странный голубой плавник. “Я разгребла кучу слизи и обнаружила самую красивую рыбу из всех, что мне доводилось видеть. В полтора метра длиной, розовая с синим, в редких белесых пятнах, она вся переливалась серебристо-сине-зеленой радугой. У рыбы, покрытой жесткой чешуей, были четыре похожих на лапы плавника и странный крохотный щенячий хвост. Она была невероятно красивой – походила на какое-то китайское украшение, но мне и в голову не приходило, что бы это могло быть” Так мисс Куртенэ-Латимер 6о лет спустя описывала свою первую встречу с латимерией. Капитан траулера тоже был поражен ее диковинным обликом: рыба вцепилась ему в руку, когда он разглядывал ее, не вынимая из сети. Поначалу он даже подумывал, а не выпустить ли ее обратно в море.
Мисс Куртенэ-Латимер пожелала заполучить ее в свой музей, но тут встал вопрос, как сохранить этот дар морей. Владелец местного ледника взять рыбу к себе не соглашался – из страха, что запах разложения, к тому моменту уже хорошо ощутимый, испортит воздух в его лавке. Сторож морга тоже отказался помочь. Химики города смогли найти совсем немного формалина, которого оказалось недостаточно; в конце концов, когда рыба начала истекать маслом, ее отнесли к таксидермисту. Мисс Куртенэ-Латимер была убеждена, что наткнулась на нечто выдающееся, и внезапно ее поразила мысль, на что это похоже: да это ископаемая рыба! Но такого просто не могло быть – мисс Куртенэ-Латимер ведь видела ее живой. Наконец она, зарисовав находку, отправила письмо своему знакомому, доктору Дж. Л.Б. Смиту, преподававшему химию в Университете Родса в Грэхемстауне, однако его истинное призвание была ихтиология. К сожалению, Смит тогда был в отъезде, и письмо попало к нему в руки только две недели спустя – когда сгнившие части тела рыбы (к разочарованию Смита и биологов всего мира) уже давно выбросили.
Смит, получив письмо мисс Куртенэ-Латимер, смотрел на рисунок и недоумевал. “Я не знал, – напишет он позже, – ни одной рыбы в наших водах или в других морях, похожей на эту, она напоминала ящерицу”.
И тут словно бомба взорвалась у меня в голове: за наброском и листом бумаги я увидел длинный ряд рыбообразных существ, которые мерцали как на экране: рыбы, которых больше нет; рыбы, которые жили в темной древности, а потом исчезли навсегда, и все, что от них осталось, дошло до нас в виде редких окаменелостей.
Когда Смит прибыл в Ист-Лондон, он поглядел на чучело рыбы, погладил его и, повернувшись к первооткрывательнице, заявил: “Милая, это открытие будет на устах у ученых всего мира”.
Рыбы, похожие на латимерий, появились в морских глубинах около 400 миллионов лет назад и незаметно дожили до наших дней. Смит назвал открытый вид Latimeria Chalumnae в честь Маржори Куртенэ-Латимер. Пошло пять лет, и в разгар Второй мировой войны обнаружилась еще одна особь. Получив известие об этом открытии с Коморских островов, Смит лично обратился к премьер-министру, доктору Малану, и тот тут же приказал самолету Южноафриканских военно-воздушных сил доставить рыбу, прежде чем она успеет сгнить.
История о латимерии отлично изложена в книге: Weinberg Samantha, A Fish Caught in Time: The Search for The Coelacanth (Fourth Estate, London, 1999), вдобавок имеются воспоминания самого Смита, которые относят к разряду научной классики: Smith J.LB., Old Fourlegs: The Story of the Coelecanth (Longmans, Green, London, 1956).
Звуки физики
Ричард Фейнман – один из немногих физиков после Эйнштейна, сумевших произвести впечатление на широкую публику. Тому причиной – две замечательные книги мемуаров и блестящее остроумие Фейнмана. Отрывки из первой его книги дают представление об этом гениальном ученом, о стиле его работы и стиле его жизни.
К разнообразным встречам и визитам Фейнман всегда относился беззаботно, и потому редко записывал адреса или телефонные номера. В 1957 году его пригласили на конференцию по гравитации в Университет Северной Каролины.
Мой самолет приземлился на день позже открытия конференции. Из здания аэропорта я вышел к стоянке такси и сказал диспетчеру:
– Мне нужно в Университет Северной Каролины.
– Какой из них вы имеете в виду? – попросил уточнить диспетчер. – Государственный университет Северной Каролины в Рэлее или Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле?
Стоит ли говорить, что у меня не было ни единого соображения на сей счет?
– А где они находятся? – спросил я, рассчитывая, что, возможно, они друг от друга недалеко.
– Один в северном направлении, другой в южном, примерно на одинаковом расстоянии отсюда.
Со мной не было никаких бумаг, способных подсказать, куда мне надо, и никто, кроме меня, не приехал на конференцию с опозданием в сутки.
И тут у меня возникла идея.
– Послушайте, – сказал я диспетчеру, – конференция началась вчера, поэтому вчера тут должны были мелькать странные парни. Давайте-ка я вам их опишу: они, как бы это сказать, витают в облаках и болтают друг с другом, не обращая внимания, что творится вокруг, бормоча что-то вроде “Джи-мю-ню, джи-мю-ню”1.
Он засиял.
– Точно, – сказал он. – Вам нужен Чапел-Хилл. – Он жестом подозвал очередное такси: – Отвезите этого человека в университет в Чапел-Хилле.
Я сказал “спасибо” и поехал на конференцию.
Из книги Feynman Richard, Surely You're Joking Mr Feynman!
Adventures of a Curious Character (Norton, New York, 1985).
Ленточные черви, венерология и научная этика
Идея о самозарождении жизни стара как сама биология. Из века в век ожесточенные споры об этом то утихали, то разгорались. Примерно к XVII столетию эта идея взволновала и Церковь. Мысль о том, что живое могло внезапно возникнуть из неодушевленной материи, противоречила христианскому вероучению, гласящему, что Господь лично создал каждой твари по паре, чтобы эти пары размножались и гибли. Конец разногласиям на исходе XIX века положил Пастер, проверивший гипотезу экспериментально, но голоса протеста не утихали еще лет 50.
XIX век в биологии начался дискуссией о ленточных червях: здравый смысл подсказывал, что те зарождаются исключительно в кишках падали. Затем, в 1830-40-х, было показано, как яйца паразитов или сами паразиты могут передаваться от одного вида к другому. Наконец, в 1854 году дрезденский врач Фридрих Кюхенмейстер (1820–1890), глубоко религиозный человек, которого паразиты интересовали прежде всего как способ понять пути Господни, описал весь жизненный цикл ленточного червя. Его метод выглядел довольно мерзко.
Кюхенмейстер тогда занимался так называемыми пузырчатыми червями. Пузырчатых червей можно найти у коров, свиней и некоторых других животных. Названием эти существа обязаны пузырям, которыми себя обволакивают. Эти пузыри обнаруживали в мышцах животных, и они, казалось, ничуть не мешали своим хозяевам. При изучении под микроскопом в пузырчатых червях можно было разглядеть нечто похожее на голову ленточного червя. Кюхенмейстер извлек ленточных червей из мускулов особей разных видов, а затем скормил их другим животным, внутри которых после вскрытия, произведенного через определенное время, обнаружились, как и следовало ожидать, ленточные черви. Он также подозревал, что ленточные черви попадают в человеческий организм из свиного мяса; свидетельством тому была высокая заболеваемость в семьях местных торговцев свининой.
В 1855 году Кюхенмейстера посетила блестящая идея, как проверить эту гипотезу: он попросил разрешения поставить эксперимент на приговоренном к смерти преступнике. За несколько дней до казни этого человека Кюхенмейстер заметил (а времена, надо сказать, не предрасполагали к брезгливости), что в свинине, которую он ест на ужин, полно сварившихся ленточных червей. Он поспешил к мяснику и приобрел немного мяса с той же туши. Из мяса он извлек несколько ленточных червей и поместил их в остывающий суп и в кровяную колбасу, а затем предложил оба блюда приговоренному (обошлось без того, что сейчас называют информированным согласием). Приговоренный принял подношения, а три дня спустя попал в руки палача. Кюхенмейстер вскрыл тело, изучил внутренности и нашел молодых подрастающих ленточных червей, прикрепленных к стенкам кишечника. Спустя пять лет Кюхенмейстеру представился еще один шанс подтвердить свои выводы. На этот раз ему доверили приговоренного за четыре месяца до казни. Результат не мог не радовать: после вскрытия в кишках преступника обнаружился ленточный червь. в полтора метра длиной. Открытие, каким бы важным оно ни было, вызвало в сообществе биологов глубокое отвращение. Рецензент статьи, цитируя Вордсворта, назвал Кюхенмейстера “ботаником, который будет разглядывать цветочки и на могиле матери”.
Впрочем, другие ученые в поисках истины не жалели свои собственные тела, причем смело подвергали их еще большим издевательствам: к примеру, Джон Хантер, знаменитый шотландский анатом и хирург Георга III, в 1767 году ввел себе в пенис гной из язвы больного гонореей, чтобы установить, как именно передается болезнь. Хантеру не повезло: у пациента вдобавок к гонорее был сифилис, и ученый так и не выздоровел. Более того, он ошибочно заключил, что гонорея и сифилис – проявления одной болезни, и этим отбросил венерологию на много лет назад. Только столетие спустя ученые смогли обнаружить возбудителей венерических болезней, и для этого снова пришлось переступить через этические принципы. В 1885 году немецкий бактериолог Эрнест фон Бумм вывел культуру бактерий гонореи и для большей уверенности сделал прививку здоровой женщине. Четырьмя годами позже Альберт Нейссер из Бреслау в поисках спирохет, которые вызывают сифилис, ввел четырем здоровым людям выделения сифилитика. История эта вызвала бурю общественного негодования, а Нейссера осудили и оштрафовали.
Но и преступление Нейссера было менее гнусным, чем хладнокровный эксперимент по изучению сифилиса, поставленный в Алабаме и растянувшийся на 40 лет. Дело происходило уже в XX веке: большой группе пациентов, куда вошли исключительно негры (в южных штатах сифилис привыкли считать “негритянской болезнью”: утверждалось, что сифилис генетически избирателен) давали только плацебо, чтобы за развитием болезни можно было следить до самой смерти зараженных.
Открытия Фридриха Кюхенмейстера в деталях описаны в книге: Foster W.D., A History of Parasitology (Livingstone, Edinburgh, 1965); см. также Zimmer Carl, Parasite Rex: Inside the Bizarre World of Nature's Most Dangerous Creatures (The Free Press, New York, 2000). 3a историей экспериментов на себе следует обратиться к книге: Altman Lawrence K., Who Goes First? (Random House, New York, 1987).
Математические обои
Софья Ковалевская – гениальный математик. Современные учебники упоминают ее имя в связи с теоремой Коши-Ковалевской о дифференциальных уравнениях. Кроме того, она внесла заметный вклад в механику и физику – в особенности в теорию прохождения света сквозь кристаллические твердые тела. А о жизни ее можно писать романы.
Софья Ковалевская родилась в 1850 году в семье русских дворян: ее отцом был генерал от артиллерии Корвин-Круковский. Математикой ее увлек дядя:
Главным образом он любил передавать то, что за свою долгую жизнь ему удалось изучить и перечитать. И вот в часы этих бесед, между прочим, мне впервые пришлось услышать о некоторых математических понятиях, которые произвели на меня особенно сильное впечатление. Дядя говорил о квадратуре круга, об асимптотах – прямых линиях, к которым кривая постоянно приближается, никогда их не достигая, и о многих других, совершенно не понятных для меня вещах, которые тем не менее представлялись мне чем-то таинственным и в то же время особенно привлекательным. Ко всему этому суждено было присоединиться следующей, чисто внешней, случайности, которая еще усилила то впечатление, которое производили на меня эти математические выражения.
Перед приездом нашим в деревню из Калуги весь дом отделывался заново. При этом были выписаны из Петербурга обои; однако не рассчитали вполне точно необходимое количество, так что на одну комнату обоев не хватило. Сперва хотели выписать для этого еще обоев из Петербурга, но, как часто в подобных случаях водится, по деревенской халатности и присущей вообще русским людям лени все откладывали в долгий ящик. А время между тем шло вперед, и пока собирались, судили да рядили, отделка всего дома была уже готова. Наконец, порешили, что из-за одного куска обоев не стоит хлопотать и посылать нарочного за 500 верст в столицу. Все комнаты в исправности, а детская пусть себе останется без обоев. Можно ее просто обклеить бумагою, благо на чердаке в палибинском доме имеется масса накопившейся за много лет газетной бумаги, лежащей там без всякого употребления.
Но по счастливой случайности вышло так, что в одной куче со старой газетной бумагой и другим ненужным хламом на чердаке оказались литографированные записи лекций по дифференциальному и интегральному исчислению академика Остроградского, которые некогда слушал мой отец, будучи еще совсем молоденьким офицером. Вот эти-то листы и пошли на обклейку моей детской. В это время мне было лет одиннадцать. Разглядывая как-то стены детской, я заметила, что там изображены некоторые вещи, про которые мне приходилось уже слышать от дяди. Будучи вообще наэлектризована его рассказами, я с особенным вниманием стала всматриваться в стены. Меня забавляло разглядывать эти пожелтевшие от времени листы, все испещренные какими-то иероглифами, смысл которых совершенно ускользал от меня, но которые, я это чувствовала, должны были означать что-нибудь очень умное и интересное, – я, бывало, по целым часам стояла перед стеною и все перечитывала там написанное. Должна сознаться, что в то время я ровно ничего из этого не понимала, но меня как будто что-то тянуло к этому занятию. Вследствие долгого рассматривания я многие места выучила наизусть, и некоторые формулы, просто своим внешним видом, врезались в мою память и оставили в ней по себе глубокий след. В особенности памятно мне, что на самое видное место стены попал лист, в котором объяснялись понятия о бесконечно малых величинах и о пределе. Насколько глубокое впечатление произвели на меня эти понятия, видно из того, что когда через несколько лет я в Петербурге брала уроки у А.Н. Страннолюбского, то он, объясняя мне эти самые понятия, удивился, как я скоро их себе усвоила, и сказал: “Вы так поняли, как будто знали это наперед”. И действительно, с формальной стороны, многое из этого было мне уже давно знакомо.
Отец Софьи, отмечала она в мемуарах, имел “сильное предубеждение против ученых женщин” и решил положить конец математическим занятиям дочери с ее наставником, тем более его знания все равно были довольно ограниченны.
Так как целый день я была под строгим надзором гувернантки, то мне приходилось пускать в дело хитрость. Идя спать, я клала книгу (“Курс алгебры” Бурдона, который ей добыл наставник) под подушку и затем, когда все засыпали, я при тусклом свете лампады или ночника зачитывалась по целым ночам.
Но тут снова помог счастливый случай: владелец поместья по соседству, господин Тыртов, был профессором физики. Однажды он принес в дом Софьи свой только что вышедший вводный курс физики. Девушка буквально вцепилась в книгу и вскоре наткнулась на тригонометрические функции, которые прежде не попадались ей на глаза. Она расстроилась, тем более что ее учитель помочь уже ничем не мог. Вступив в борьбу с тригонометрией один на один, вскоре она уяснила для себя, что же все-таки означает синус и как его вычислять. Когда она сообщила профессору Тыртову, что многое в его книге поняла, тот ей лишь снисходительно улыбнулся.
Когда я рассказала ему, каким путем я дошла до объяснения тригонометрических формул, то он совсем переменил тон. Он сейчас же отправился к моему отцу и горячо стал убеждать его в необходимости учить меня самым серьезным образом. При этом он сравнил меня с Паскалем.
Итогом стало своего рода соглашение о перемирии: сошлись на том, что учить ее будет уже упоминавшийся профессор Страннолюбский, математик из Морской академии в Санкт-Петербурге, который быстро распознал в ней математический талант.
Однако интересы Софьи не сводились к одной математике. Она была влюблена в литературу и (вместе с сестрой) сдружилась с Достоевским. Допускают, что Софья и ее сестра, за которой писатель одно время ухаживал, стали прототипами героинь романа “Идиот” Аглаи и Александры.
В 1868 году Софья вышла замуж за Владимира Ковалевского, которому предстояло стать профессором палеонтологии Санкт-Петербургского университета, и спустя несколько лет родила дочь. Замужество позволило ей бежать из удушливой атмосферы родительского дома и путешествовать. В 20-летнем возрасте она познакомилась с великим немецким математиком Карлом Вейерштрассом. В то время Вейерштрасс был стареющим холостяком и, вероятно, в известной степени женоненавистником. В ответ на просьбу Софьи о помощи он устроил ей экзамен: попросил решить ряд задач, причем весьма сложных. Профессор был уверен – русская наверняка с ними не справится, и он будет избавлен от нежеланной соискательницы. Но все обернулось иначе. Вейерштрасс быстро осознал, что перед ним – исключительный талант.
Вейерштрасс стал учителем, советником и другом Софьи. Под его руководством она смогла развить свои способности и вскоре уже представила в Геттингенский университет диссертацию на соискание докторской степени. Диссертация опиралась на три ее статьи – две по чистой математике и одну по теоретической астрономии. Затем она вернулась к мужу в Россию, и, как казалось, на долгие семь лет забросила математику – к отчаянию Вейерштрасса. По истечении этого времени она развелась с мужем и приняла приглашение уважаемого шведского математика Магнуса-Гёсты Миттаг-Леффлёра, которому Вейерштрасс поручил отыскать ее в России. В Стокгольме ее интерес к математике возродился. Ковалевская стала профессором математики – впервые такой пост заняла женщина. Только 17 годами позже подобного признания удостоилась Мария Кюри. Чтобы отвоевать эту позицию для Ковалевской, Миттаг-Леффлёру пришлось изрядно потрудиться. Большинство математиков страны поддерживало ее кандидатуру, но возражения имелись в другом лагере. Так, например, известный драматург Август Стринберг называл ее “чудовищем”, капризом природы. Но Ковалевская продолжала трудиться на благо науки, и за статью по механике (“О вращении твердого тела вокруг неподвижной точки”) была удостоена высоко ценимой премии от Французской академии наук, величину которой в тот раз даже удвоили – ввиду “крайне важной услуги”, какую эта работа оказала теоретической физике.
Тем временем Софья (или, как ее называли в Швеции, Соня) снова начала писать. Ее беспокойный характер опять заявил о себе, и, казалось, она вновь забросила математику, на этот раз ради второй своей страсти – литературы. В Стокгольме она опубликовала несколько рассказов, пьесу и ряд статей в шведских литературных журналах. Ковалевская была переполнена новыми замыслами, планировала новые книги, но всему этому сбыться не удалось. Зимой 1891-го Софья Ковалевская скончалась от плеврита. Ей исполнилось всего 41 год. Последние ее слова были: “Слишком много счастья”.
Цитаты приводятся по книге: Ковалевская С. В., Воспоминания и письма. Изд. [2-е], испр. М., 1961. Биография Ковалевской Софьи, The Little Sparrow: A Portrait of Sophia Kovalevsky by D.H.Kennedy (Ohio University Press, Athens, Ohio, 1983), равно как и глава, посвященная этой книге, в сборнике эссе: Bernstein Jeremy, Cranks, Quarks and the Cosmos (Basic Books, New York, 1993), а также некролог, опубликованный другом Софьи Ковалевской, князем, отважным ученым и анархистом Петром Кропоткиным, в Nature, 41,375(1891).








