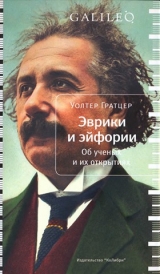
Текст книги "Эврики и эйфории. Об ученых и их открытиях"
Автор книги: Уолтер Гратцер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 33 страниц)
Ребенок – отец взрослого
Джереми Бернштайн в своем эссе “Детский сад науки” собрал воспоминания знаменитых физиков о своем детстве. Ученые рассказывают, как у них впервые проснулся интерес к миру чисел.
Когда великого теоретика Ганса Бете (в девяносто с лишним лет он все еще был озабочен проблемами теоретической физики, которую считал самым интересным из человеческих занятий) спросили, есть ли у него детские воспоминания о математике, тот ответил:
О да – и много. Числа занимали меня с самого раннего возраста. В пятилетнем возрасте на прогулке я задал матери такой вопрос: “Не странно ли, что когда ноль стоит в конце числа, это многое значит, а когда в начале, это не значит ничего?” А однажды, когда мне было примерно четыре года, профессор физиологии Ричард Эвальд, начальник моего отца, спросил: “Сколько будет 0,5 поделить на 2?" Я отвечал так: “Дорогой дядя Эвальд, этого я не знаю”, однако при следующей встрече подбежал к нему со словами “Дядя Эвальд, это будет 0,25м. Тогда я уже знал о десятичных дробях. В семилетнем возрасте я выучил степени и заполнил целую книгу степенями двойки и тройки.
Станислав Улам – польский математик (1909–1984), который большую часть активной жизни провел в Соединенных Штатах и чьи математические прозрения стали решающими при создании водородной бомбы. Следующая цитата позаимствована из его захватывающей автобиографии “Приключения математика”:
Я начал проявлять математическое любопытство весьма рано. В библиотеке моего отца имелась потрясающая серия немецких книг в мягкой обложке – серия называлась Reklam. Одной из книг была “Алгебра” Эйлера. Я заглянул в нее, когда мне было лет десять– одиннадцать, и книга показалась мне какой-то головоломкой. Символы выглядели как магические знаки. Мне не верилось, что когда-нибудь я смогу их понять. Это наверняка стимулировало мой интерес к математике. Я своими силами открыл способ решать квадратные уравнения. Помню, что мне это далось ценой невероятного сосредоточения и почти болезненного и не вполне осознанного усилия. А делал я вот что: дополнял выражения до полного квадрата в уме, без помощи карандаша или бумаги.
Отрывок ниже взят из биографии Энрико Ферми, написанной его другом, физиком Эмилио Сегре:
Ферми сообщил мне, что одним из главных интеллектуальных прорывов в его жизни была попытка понять – в десятилетнем возрасте! – как именно уравнение х2+у2=г2 определяет окружность. Наверняка кто-то сообщил ему этот факт, однако юный гений должен был осмыслить его сам.
То, что ю-летний ребенок открыл полярную систему координат, определенно следует считать фантастическим достижением.
А вот как Фриман Дайсон описывает Бернштайну одно из своих первых математических впечатлений:
Было время, когда меня укладывали спать в середине дня – точного возраста я не помню, однако мне наверняка не было и десяти. Однажды, собираясь заснуть, я принялся складывать числа – 1+1/2+1/4+1/8+… – и сообразил, что сумма сходится к двум. Другими словами, я сам, без всякой помощи, обнаружил существование сходящихся бесконечных рядов.
Бернштайн также замечает, что Эйнштейн, который был вечно недоволен своими математическими способностями, придумал доказательство теоремы Пифагора (“квадрат гипотенузы…”) в 12-летнем возрасте. Это открытие, однако, затмевает подвиг Пола Эрдёша, невероятно эксцентричного венгра, который каждую минуту, не потраченную на занятия математикой, считал потерянной; он мог перемножать в уме трехзначные числа в три года, оперировать квадратами и кубами в четыре, а к подростковому возрасту выдумал 37 доказательств теоремы Пифагора.
Все истории, приводимые выше, собраны в книге: Bernstein Jeremy, Cranks, Quarks and the Cosmos (Basic Books, New York, 1993,) – за исключением последней, которая рассказывается в биографии Эрдёша: Hoffman Paul, The Man Who Loved Only Numbers: The Story of Paul Erdos and the Search for Mathematical Truth (Fourth Estate, London, 1998).
Гук дразнит коллег
Современные ученые часто жалуются, что их коллеги недостаточно беспристрастны в патентных делах и в вопросах первенства, однако прежде все обстояло еще хуже. Натурфилософы эпохи Просвещения стремились обезопасить свои открытия, сводя к минимуму риск ошибиться публично: записи сразу же отправляли в архив (с указанием даты, когда они сделаны) либо зашифровывали. Роберт Гук, современник Исаака Ньютона, был блестящим эрудитом, другом архитектора Кристофера Рена (и не только его) и, к слову, сконструировал известный памятник на Паддинг-лейн в лондонском Сити (памятник указывает место, с которого начался Великий пожар 1666 года).
Гук невероятно ревностно относился к тому, что сейчас называют интеллектуальной собственностью, и не доверял современникам. Его имя носит закон, который гласит, что растяжение материала прямо пропорционально приложенной к нему силе. Гук, как известно, изобрел пружинные часы, и этим отчасти и объясняется его интерес к упругим свойствам материалов. В 1665 году Гук сформулировал суть своего открытия так: “Вот истинная теория упругости или пружин, и отдельное объяснение вытекающих из нее свойств объектов, в каких упругость можно наблюдать, а также способ измерения скоростей тел, приводимых такими объектами в движение: ceiiinosssttuu". Последнее слово – анаграмма, смысл которой Гук раскрыл через два года, когда уже был уверен в своих результатах и удовлетворен тем, что они применимы и к часовой пружине:
Прошло два года с тех пор, как я опубликовал нижеследующую теорию в виде анаграммы в конце моей книги с описанием гелиоскопов: ceiiinosssttuu, что значит Ut Tensio sic vis, – “отношение силы пружины к ее растяжению постоянно”. То есть если единица силы изгибает или растягивает пружину на единицу длины, то две единицы силы растянут ее на две, а три – на три, и так далее. Раз теория столь коротка, то и проверить ее весьма просто.
За описанием работ Гука и его ученых современников стоит обратиться к книге: Jardine Lisa, Ingenious Pursuits (Little, Brown, London, 1999/
Узнай соперника
Дж. Г. Крауфер (1899–1983) – научный журналист и популяризатор науки, который, похоже, за свою жизнь успел увидеться со всеми учеными мира, известными и не очень. В весьма интересных мемуарах он рассказывает о тех встречах, которые пришлись на время двух мировых войн. Нижеследующее, говорит он, может быть и позднейшей выдумкой, однако, как бы то ни было, верно по сути. Э.А. Милн (1896–1960), оксфордский математик и космолог, предложил свои услуги Военному министерству и получил в ответ текст, набранный под копирку: если понадобится, сообщалось в послании, за его услугами обратятся. Если вспомнить его свершения времен Первой мировой и приобретенную с тех пор известность, будет понятно, почему Милн был так взбешен столь неучтивым ответом. Пользуясь связями, он известил о своей обиде высшие министерские чины. Вскоре Милну пришло приглашение в министерство за подписью бригадного генерала. Милн с порога разразился гневным монологом. Как он сообщил генералу, который терпеливо слушал его разглагольствования, Военному министерству следовало бы знать, что эта война будет войной научной. Раз так, то не стоит ли министерству наилучшим образом распорядиться научным знанием и воспользоваться услугами именитых ученых?
Генерал дождался момента, когда Милн выдохся, и затем спросил: “Скажите, вас в университете награждали Адамсовской премией”[5]5
Адамсовскую премию вручают раз в год какому-нибудь молодому британскому математику за исключительные заслуги, и ее лауреатами в разное время становились Максвелл, Пойнтинг, Томсон, Хокинг и Пенроуз.
[Закрыть]. “Нет, – со злостью ответил Милн, – а при чем здесь это?” – “А вот меня награждали”, – сказал генерал.
Вот еще рассказ про недооцененного собеседника:
Однажды на базе “Экселент” (это военно-морской комплекс на берегу Портсмутской бухты) появились два рослых американских офицера. О том, как их зовут, в сопроводительной информации ничего не говорилось. Их представили Герберту Ричмонду, известному математику, который отвел их к нам в кабинет и начал объяснять им простейшим языком, чем мы занимаемся. Опыт научил его исходить из предположения; что гости-офицеры ничего в математике не смыслят, так что прежде всего он стремился избегать любых формул математического анализа. Американцы вежливо слушали и время от времени делали осмысленные замечания. Наконец Ричмонд мягко спросил: “Вероятно, вы знакомы с анализом?” Самый высокий из них, благовидный человек средних лет с хорошими манерами, слегка улыбнулся и согласился: “Да, мы с анализом знакомы”.
Ричмонд вздохнул с облегчением и сообщил, что в таком случае продолжит. Теперь он чуть глубже вдавался в суть, а комментарии американцев становились все содержательней. Спустя какое-то время Ричмонд решил поинтересоваться: “Вероятно, вы математики?” Высокий благовидный американец загадочно улыбнулся и сообщил: “Меня зовут Веблен”. Я сидел в четырех ярдах от них и ясно видел, как Ричмонд подпрыгнул на собственном стуле и стал нечленораздельно бормотать: “Ой-ой-ой”. Ричмонд и Освальд Веблен занимались одним и тем же разделом математики, и только что он полчаса потратил на то, чтобы объяснить этому человеку, не прибегая к анализу, как решаются дифференциальные уравнения.
Освальд Веблен (1880–1960), известный своими трудами в разных областях геометрии, позже стал директором Института фундаментальных исследований в Принстоне, где работал Эйнштейн.
Есть много примеров такого комического недопонимания. Глен Сиборг, которому в 1951 году вручили Нобелевскую премию по химии за работы, посвященные трансурановым элементам, был научным советником нескольких американских президентов подряд. Кульминацией его противостояния с сенатским комитетом стал риторический вопрос разозленного сенатора: “Что вы можете знать про плутоний?” Сиборгу пришлось ответить, что именно он открыл этот элемент.
Обе истории Дж. Г. Крауфера приводятся в его мемуарах: Crowther J.G., Fifty Years with Science (Barrie and Jenkins, London, 1970). Последний рассказ см. в книге: Seaborg Glenn, A Chemist in the White House: From the Manhattan Project to the End of the Cold War (American Chemical Society, Washington D.C., 1998).
Божественная искра вспыхивает ночью
Многих ученых посещала сверхъестественная вспышка откровения во время отдыха или на границе бодрствования и сна. Примечателен случай австрийского физиолога Отто Леви (1873–1961), профессора физиологии в университете Граца, которого прежде всего помнят за открытие механизма передачи нервного импульса. В 1936 году открытие это принесло ему Нобелевскую премию, которую он разделил со своим другом из Англии, Генри Дейлом. Центральной проблемой нейробиологии тех лет был вопрос о том, передаются ли нервные импульсы мускулам, работу которых они регулируют, с помощью химического вещества-посредника. К тому моменту Генри Дейл уже показал, что присутствующее в организме вещество, ацетилхолин, способно стимулировать нерв – скажем, замедлять биение сердца в точности так же, как при естественной стимуляции блуждающего нерва, управляющего сердечной мышцей.
Однажды вечером Леви задремал над книгой, но внезапно вскочил – с ясным чувством пережитого откровения ослепительной яркости. Леви схватил карандаш и бегло записал его суть. Однако, проснувшись на следующее утро, он не мог не только восстановить осенившую его мысль, но и разобраться в собственных записях. Весь день он просидел в лаборатории, тщетно надеясь, что вид знакомых приборов освежит его память, и безуспешно пытаясь понять написанное. Тем же вечером, укладываясь спать, Леви чувствовал себя невероятно подавленным, однако пару часов спустя он проснулся, потому что идея заново промелькнула в голове. В этот раз он перенес ее на бумагу с куда большей осторожностью.
На следующий день он отправился в лабораторию ставить один из самых простых, самых изящных и самых значимых экспериментов в истории биологии. В ходе этого эксперимента и было доказано, что у нервных импульсов есть химический посредник. Леви взял два лягушачьих сердца и погрузил в солевой раствор, чтобы те продолжали биться, затем стимулировал у одного блуждающий нерв, и биение прекратилось. Это сердце он извлек, а на его место поместил второе. К великому удовлетворению Леви, раствор подействовал на второе сердце так же, как стимуляция нерва – на первое: пульсирующий мускул замер. Это породило волну экспериментов, посвященных медиаторам нервного импульса, в лабораториях всего мира: теперь изучали не только связь между нервами, мускулами и железами, на которые те воздействуют, но и между самими элементами нервной системы.
Вещество, которым нерв после стимуляции обогащал солевой раствор вокруг сердца, теперь относят к нейротрансмиттерам. В опыте Леви нейротрансмиттером был, разумеется, ацетилхолин.
То, что изолированное сердце может биться часы подряд, тоже выяснилось совершенно случайно. Сидни Рингер (1835–1910), врач из больницы Лондонского университетского колледжа, в свободное время занимавшийся фармакологией, много лет проработал с сердцами лягушек. Эти сердца, помещенные в физиологический раствор, продолжали сокращаться еще полчаса после отсечения от лягушачьего тела. Как-то одно сердце вышло за рамки этого срока, и, казалось, собирается биться неопределенно долго. Рингер был в затруднении: сначала он решил, что эффект связан с сезонными особенностями физиологии амфибий, но затем обнаружил, что лаборант, которому поручили приготовить сердце к опыту на этот раз, вместо дистиллированной воды взял водопроводную. Вот что пишет Генри Дэви:
Как объяснял мне сам Филдер (тот самый нерадивый лаборант, я встретился с ним, когда он уже был далеко не молод), он просто не видел смысла терять время на дистилляцию воды для доктора Рингера – тот не почувствует разницы, если взять для солевого раствора воду прямо из-под крана.
Рингер поинтересовался у компании “Нью Ривер Хед”, тогда отвечавшей за водоснабжение северной части Лондона, какие ионы содержатся в их водопроводной воде; так удалось узнать об исключительной роли ионов кальция в физиологии. Раствор, используемый в физиологических опытах, до сих пор называют раствором Рингера.
Что касается Отто Леви, то он, будучи евреем, после аншлюса Австрии был вынужден бежать из страны и нашел убежище в Нью-Йорке, но перед этим был схвачен штурмовиками и брошен в тюрьму. Ожидая худшего и опасаясь за судьбу жены и детей, Леви прежде всего боялся, что результаты его последних опытов не подготовлены к печати и будут утеряны навсегда, если его расстреляют. Он сумел вкратце описать свою работу и подкупить тюремщика, чтобы тот отправил ее в научный журнал. Проделав это, он испытал “невероятное облегчение”. Леви не расстреляли: его влиятельный друг, сэр Генри Дейл, пригрозил бойкотом австрийским ученым, и семья Леви счастливо воссоединилась в Америке.
Леви был не единственным ученым-евреем, которого сэр Генри Дейл спас от гибели. В 1932 году, за год до прихода Гитлера к власти, Дейл приехал на конференцию в Германию, и пришел в восторг от доклада, посвященного веществу растительного происхождения под названием физостигмин. Это удивительное вещество, открытое Леви, заставляет нервную ткань выделять ацетилхолин. Докладчиком был некто Вильгельм Фельдберг, молодой физиолог. На следующий год еврея Фельдберга выгнали из Берлинского университета. Уже не надеясь найти подходящее место в Британии или в Америке, он все-таки, узнав, что в Берлин приехал представитель Рокфеллеровского фонда, поспешил с ним встретиться.
Он (представитель Рокфеллеровского фонда) был полон сочувствия, однако сказал мне примерно так: “Вы должны понимать, Фельдберг: уволено так много знаменитых ученых, которым мы обязаны помочь, что было бы нечестно давать какую-либо надежду на место в университете молодому человеку вроде вас. – И затем, скорее чтобы меня утешить, он продолжил: – Давайте я по крайней мере запишу ваше имя. Никто ведь ничего не знает наверняка”. Когда я записал свое имя, он поколебался и сказал: “Кажется, я о вас слышал. Давайте посмотрим”. Пролистав страницы своего дневника, он внезапно произнес, обрадовавшись: “Да вот же! У меня для вас известия от сэра Генри Дейла, которого я встретил в Лондоне недели две назад. Сэр Генри просил меня, если я вдруг встречу Фельдберга в Берлине, передать ему, что он, Дейл, будет рад предложить ему работу в Лондоне. Так что с вами все в порядке, – сказал он с теплотой в голосе. – Нашелся хоть один человек, о котором мне не придется больше беспокоиться”.
Фельдберг сделал впечатляющую карьеру в лондонском Медицинском исследовательском совете, и эта карьера прервалась только тогда, когда ученому исполнилось 89 лет, – по неудачному стечению обстоятельств и довольно нелепо. Фельдберг случайно совершил открытие: по неловкости уронил настольную лампу на брюхо кролика, которому только что ввели обезболивающее. От перегрева уровень сахара в кроличьей крови неожиданно поднялся. Фельдбергу выдали грант на исследование этого эффекта, который представлял некоторый научный интерес. Тем временем группа борцов за права животных, искавшая способ попасть к нему в лабораторию, такой способ нашла. Прикинувшись телевизионщиками, они получили разрешение снять в лаборатории репортаж об исследовательской работе. Фельдберг, которому помогал престарелый лаборант, уже не вполне контролировал себя, и перед камерами не смог правильно обезболить кролика, а потом вдобавок внезапно заснул как раз в тот момент, когда делал животному укол. Когда эти кадры появились в общенациональных газетах, разгорелся скандал. В итоге обиженный и расстроенный Фельдберг вынужден был уйти в отставку. На следующий год он умер.
О великом открытии Отто Леви рассказывается в книге: Cannon WB., The Way of Investigator (Norton, New York, 1945); воспоминания Вильгельма Фельдберга можно найти здесь: ed. Hodgkin A.Let al., The Pursuit of Nature: Informal Essays on the History of Physiology (Cambridge University Press, Cambridge, 1977).
По образу и подобию
Бенджамин Силлимэн – известный ученый первой половины XIX века, химик, профессор Йельского университета. Ниже он описывает происшествие, которое привело его в отчаяние. Ученый заказал дюжину реторт у местных мастеров. Целой реторты у него не было, и, чтобы дать представление о том, что именно ему нужно, он отослал с письмом два стеклянных обломка.
Наконец с мануфактуры Ист-Хаверфорд привезли дюжину моих реторт зеленого стекла: все были тщательно упакованными и совершенно целыми – за вычетом того, что у каждой было отломлено горлышко, в точности как у образца. Горлышки и шары были уложены в коробки так, как укладывают в гроб обезглавленных королей. Такой род “китайской подделки” позволил мне составить надлежащее представление о том, как обстоят дела с производством химического стекла в этой стране, по крайней мере в Коннектикуте: смею надеяться, подобная нелепость вряд ли приключилась бы в Филадельфии или в Бостоне.
Fulton J.F. and Thomson E.H., Benjamin Silliman: Pathfinder in American Science (Schuman, New York, 1947).
Как наука помогала выжить
Наукой продолжали заниматься – иногда всерьез, а иногда превращая ее в нелепую пародию на саму себя – и в лагерях смерти нацистской Германии, а некоторым ученым она даже спасла жизнь. Так, например, в Освенциме однажды было принято решение отобрать из числа узников химиков для работ на резиновом заводе Бунаверке, в отделении полимеризации. Среди таких узников оказался человек, которому предстояло стать большим писателем, автором книг о том, как даже в условиях концлагеря люди сохраняли честь и достоинство, – это был Примо Леви. Когда капо, заключенный, назначенный старостой барака, объявил, что немцы ищут химиков-добровольцев для работы в химической лаборатории, Леви, к тому моменту полумертвый от голода и усталости, тут же вышел вперед. Его отвели к герру инженеру Панвицу.
– Где вы родились? – Он обратился ко мне на вы, как велят правила вежливости. У инженера не было ни малейшего чувства юмора. И, будь он проклят, он не прикладывал ни малейшего усилия к тому, чтобы его немецкий можно было разобрать на слух.
– Я получил диплом с отличием в Турине в 1941-м. – И едва я произнес это, я ясно почувствовал, что мне не поверят – или, скорее, я уже не верил сам себе: было довольно бросить взгляд на мои грязные руки, усеянные язвами, на покрытые коркой грязи штаны каторжника. И все же я бакалавр Туринского университета, нет повода сомневаться в этом сейчас – мой мозг со всем его запасом знаний по органической химии, даже после столь долгого перерыва, снова готов думать! Кроме того, ощущение незамутненного счастья, то возбуждение, которое растеклось теплом по венам, – вот это, я понимал, и есть экзаменационная лихорадка, моя лихорадка по поводу моего экзамена, спонтанная мобилизация всех логических способностей и всех моих знаний. То, чему мои университетские приятели всегда так завидовали.
Экзамен проходит хорошо. Мне начинает казаться, что я становлюсь выше ростом. Теперь Пановиц спрашивает про тему моей дипломной работы. Мне предстоит совершить невероятное – извлечь со дна памяти цепочку ассоциаций, которая погребена так глубоко: с тем же успехом я мог бы попробовать вспомнить, чем я занимался несколько реинкарнаций назад.
Бог меня бережет. Мои бедные старые “Измерения диэлектрических постоянных” вызывают особенный интерес. Этот блондин-ариец, которому так уютно живется на свете, спрашивает, владею ли я английским, и дает в руки книгу Гаттермана, и даже это абсурдно и невероятно: как здесь, по эту сторону колючей проволоки, может быть Гаттерман – в точности такой же, по какому я учился на четвертом курсе у себя дома, в Италии!
Но вот все кончено: возбуждение, поддерживавшее меня на протяжении всей проверки, внезапно меня оставляет и, пустой и раздавленный, я разглядываю безупречную кожу его руки, которая пишет неразборчивыми буквами мою судьбу на белом листе.
Вот другой пример жизни, спасенной благодаря науке:
Поль Ланжевен рассказывал мне, как его дочь выжила в Освенциме. Это случилось благодаря офицеру-эсэсовцу, который был биологом и очень не хотел ехать на Восточный фронт. Он убедил немецких чиновников, что стоит попробовать выращивать каучуконосные деревья в Польше. Ему разрешили устроить в Освенциме лабораторию и разбить при ней сад. Себе в помощники он отобрал нескольких биологов из заключенных, которые обычно не задерживались в лагере дольше двух недель, – потом их отправляли в газовую камеру.
Одной из отобранных оказалась женщина-еврейка, биолог с серьезной репутацией. Когда просматривали список заключенных, обратили внимание на фамилию Ланжевен, вдобавок Элен Ланжевен призналась, что работала биологом. Дочь Ланжевена провела в лагере два года и – выжила, благо “садовникам” обеспечили чуть лучшие условия существования по сравнению с прочими.
Первая история – из книги: Levi Primo, If This is a Man (Penguin Books, London, 1979); вторая – из Crowther J.G., Fifty Yean of Science (Barrie and Jenkins, London, 1970).








