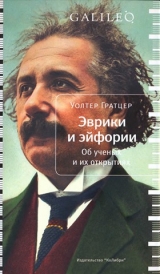
Текст книги "Эврики и эйфории. Об ученых и их открытиях"
Автор книги: Уолтер Гратцер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)
Случайная встреча
После того как Макса Борна, одного из отцов квантовой теории, выдворили с кафедры в Геттингене из-за расовых законов, принятых в 1933-м нацистским правительством, он нашел убежище в Эдинбурге. Путь к спасению ему открыла случайная встреча с Резерфордом.
В 1927-м Борн приехал на международный конгресс в Комо. Один из докладов показался ему скучным, и, дождавшись, когда начнут демонстрировать слайды, Борн воспользовался темнотой и выскользнул из аудитории. Осматривая коридор с намерением убедиться, что его бегства никто не заметил, он увидел человека, который тихо вышел из соседней двери и теперь точно так же оглядывался по сторонам. Это оказался Резерфорд, который, рассмеявшись, сказал Борну: “Вы тоже не можете этого вынести? Пойдемте к озеру!” Прогулка заняла весь остаток дня и положила начало их дружбе. В 1933 году Резерфорд пригласил Борна в Кембридж. Позже он переехал в Эдинбург. Эта история – пример того, как случай решал судьбы многих в те нелегкие времена.
Георгий Гамов рассказывал, что, когда Борн сошел с поезда в Кембридже, ему, уже травмированному немецкой действительностью, бросился в глаза плакат “Вот to be Hanged” (“Рожденный для казни” или “Борн должен быть повешен”). Встречавшим пришлось объяснять Борну, что это всего-навсего афиша спектакля, идущего в местном театре.
Bohr Niels: Memoirs ofWorking Relationship by Stephan Rozental (Christian Ejîers, Copenhagen, 1998).
Своенравная совесть Эддингтона
Первое время теорию относительности Эйнштейна (и общую, и специальную) никак нельзя было назвать общепринятой истиной. Одни ее противники не могли отказаться от представлений об эфире, гипотетической светоносной среде; других пугала мысль, что время – понятие относительное, а скорость света – максимально возможная. Среди самых стойких защитников Эйнштейна в этих непрекра-щающихся спорах был выдающийся английский астроном сэр Артур Эддингтон (1882–1944).
Эддингтон был болезненно стыдлив, но отнюдь не скромен. Его блистательный ученик Субраманьям Чандрасекар вспоминал мельком услышанный диалог Эддингтона с другим астрономом, Людвигом Зильберштейном. Зильберштейн мнил себя большим знатоком теории Эйнштейна и потому сделал Эддингтону комплимент, назвав того одним из трех человек в мире, которые эту теорию понимают. Эддингтон выглядел смущенным, и Зильберштейн дружески посоветовал ему отбросить ложную скромность – на что последовал ответ: “Дело вовсе не в этом. Просто я пытаюсь догадаться, кто же третий”. Помимо всего прочего, Эддингтон был квакером и пацифистом и потому весьма симпатизировал Эйнштейну, который не побоялся всеобщего осуждения, выступая против германского милитаризма с самого начала Первой мировой войны. В этом, возможно, и стоит искать причину, заставившую Эддингтона доказывать правоту Эйнштейна.
Эйнштейн страстно желал проверить экспериментально те предсказания, которые давала его теория (скорее для того, чтобы убедить скептиков, чем для собственного спокойствия, – сам он ни секунды не сомневался в своей правоте). Одно из предсказаний, допускающих проверку, заключалось в том, что гравитация искривляет свет; самый простой способ в этом убедиться – измерить видимое смещение звезды, достаточно близко подошедшей к солнечному диску. Эти звезды видны во время полных солнечных затмений, и одно из таких затмений ждали 29 мая 1919 года. Эддингтон настоял, чтобы Британия снарядила для наблюдений сразу две экспедиции – одну в бразильский Собраль, а другую (под руководством самого Эддингтона) – на остров Принсипи у западного побережья Африки.
Задача, однако, оказалась сложнее, чем думали. Великий Лаплас в начале XIX века и немецкий астроном Георг фон Зольднер немногим позже независимо предсказали, что свет, рассматриваемый как поток частиц, будет изгибаться гравитационным полем. (Работа Зольднера пылилась в архивах, пока ее не отыскал оппонент Эйнштейна Филипп Ленард, чьи антисемитизм и раздражение росли день за днем, и теперь он использовал Зольднера в борьбе со своим заклятым врагом.) Ньютонова механика предсказывала сдвиг на 0,875", а модель Эйнштейна – на 1,75" Впрочем, сдвиги такого порядка едва выбивались за рамки погрешности измерения самых точных приборов того времени. Могли ли телескопы в Собрале или на Принсипе с достоверностью отличить 0,9" от 1,8"? Эддингтон предполагал, что могли.
Самые благоприятные условия для наблюдений складывались в Бразилии. Лучший из телескопов, привезенных туда, выдавал среднее отклонение в 1,98" (то есть больше, чем требовала теория Эйнштейна), а на телескопе похуже получили о,86", неотличимое от прогнозов Ньютоновой механики. На острове Принсипи в самый неподходящий момент появились облака, и только на двух из шестнадцати пластинок, заснятых во время затмения, имелись изображения звезд – не слишком четкие, зато позволяющие сделать хоть какие-то замеры. По ним выходило, что среднее отклонение составляет 1,61" при стандартной ошибке в 0,3". Результаты представили на внеочередном собрании Королевского общества и Астрономического общества, созванном специально для этого 6 ноября 1919 года. Председательствовал сэр Дж. Дж. Томсон, президент Королевского общества. Королевский астроном сэр Фрэнк Дайсон выступил первым и сообщил вот что:
Астрографические пластинки (то есть фотографические пластинки, экспонированные на специальном телескопе) дают 0,97" для смещение на лимбе, если проводить калибровку по самим пластинкам, а равное – 1,40", если калибровать по контрольным пластинкам (то есть снимкам, сделанным на том же телескопе ночью). Однако лучшие пластинки показывают результат 1,98" – притом что Эйнштейн предсказывал смещение на лимбе в 1,75" На этих пластинках согласие между данными для отдельных звезд было наилучшим из возможных.
После тщательного анализа пластинок я готов заявить: нет сомнений, что предсказания Эйнштейна подтверждаются. Были получены ясные доказательства того, что свет искривляется в соответствии с Эйнштейновыми законами гравитации.
Дайсон ни словом не обмолвился о данных, полученных на Принсипи. Эддингтон, который выступал вслед за ним, результаты с Принсипи не отбраковал, и если забыть про показания менее совершенного телескопа из Собраля, то после усреднения оставшихся величин – избыточно высокой “бразильской” в 1,98" и не слишком точной “африканской” в 1,61" – получалось ровно то, что предсказывал Эйнштейн. Тут выступил профессор Зильберштейн: “Другая попытка проверить теорию относительности, основанная на красном смещении света далеких звезд, провалилась. Так почему стоит верить сомнительным данным по искривлению света, полученным на пределе точности приборов?” – спросил он. У Эддингтона не нашлось убедительного ответа. (С загадкой красного смещения справятся позже: оно возникает из-за сдвига в частоте колебаний излучения, испущенного движущимся объектом. Точным аналогом может служить снижение тона у свистка удаляющегося поезда.)
Вот воспоминания одного из участников экспедиции на Принсипи:
Когда нас познакомили с задачей, имелось три возможных сценария. Первый – никакого отклонения не будет вообще, то есть свет не подчиняется законам гравитации. Второй – случится “отклонение наполовину”: это будет означать, что притяжение все-таки действует на свет, как утверждал еще Ньютон, и ситуацию описывают простые ньютоновские законы. Третий – наконец произойдет “полное отклонение”, которое подтверждает правоту Эйнштейна в противовес Ньютону. Помню, как Дайсон разъяснял все это моему коллеге Коттингэму. “Если мы получим двойное отклонение – что это будет значить?” – спрашивал тот. “Тогда, – сказал Дайсон, – Эддингтон сойдет с ума, и вы отправитесь домой в одиночку”.
Не приходится сомневаться, что главной целью Эддингтона было восстановить согласие между немецкими и западными учеными, подпорченное патриотическим угаром Первой мировой войны.
Дело в том, что группа немецких светил (в которую Эйнштейн, разумеется, не входил) в 1914 году подписала так называемую Фульденскую декларацию, где со страны снималась вся ответственность за развязывание войны и подчеркивалось, что немецкие ученые поддерживают армию. Это и последующие события спровоцировали всплеск яростного шовинизма в научных журналах (таких как Nature) в Британии, Франции и США.
Выводы экспедиций привлекли к себе одобрительное внимание прессы: появился номер Times с заголовком “Революция в науке: идеи Ньютона отвергнуты”, а за Эйнштейном закрепилась репутация героя. Разумеется, во время последующих затмений тоже делались замеры, которые давали противоречивые и двусмысленные результаты, но пререкаться было уже поздно. И лучшие специалисты, и общественность сходились во мнении: теория относительности верна. Что касается Эддингтона, его время от времени мучила совесть, но разве что слегка. Впоследствии он признавался, что сомнения его посещали, однако в некрологе коллеге Дайсон писал:
Объявление результатов вызвало живой интерес у общества, и теория относительности, которая прежде была достоянием немногих специалистов, в одночасье стала известна всем. Более того, не обошлось без международного резонанса: эта история положила конец бойкоту немецкой науки. Став первыми в деле проверки и окончательного подтверждения теории, принадлежащей “врагу”, наша национальная Обсерватория вернула к жизни лучшую из научных традиций. Этот урок, вероятно, стоит усвоить всему остальному миру.
Чисто технически такой поступок был ошибкой, которая пуристу покажется более чем постыдной, – зато совершили ее из самых благородных побуждений.
Рассказ и цитаты позаимствованы из статьи: Earman J. and Glymour С., “Relativity and Eclipses”, Historical Studies in the Physical Sciences ii, 49 (1980,).
Трудная судьба Хаутерманса
Биография Фрица Хаутерманса – готовый сюжет для какого-нибудь романа. Немец по происхождению, он вырос и учился в Вене. Был физиком, который глубоко понимал квантовую теорию. Теоретическим изысканиям он предавался в венских кафе, и о его невероятном пристрастии к кофе ходили легенды. Заработав неплохую научную репутацию, он оказался в Геттингене, одной из столиц теоретической физики того времени. Хаутерманс был на четверть евреем, поэтому мог испытывать гордость за предков (“Когда ваши предки сидели на деревьях, – говорил он коллегам-арийцам, – мои уже подделывали банкноты”) и при этом не опасаться преследований по нацистским расовым законам. Кроме того, он был убежденным коммунистом и много лет подряд состоял в партии – что считалось ничуть не менее опасным, чем быть евреем. Из-за этого он и бежал в Англию, где едва не изобрел лазер (это устройство, позволяющее генерировать свет высокой интенсивности с фиксированной длиной волны, создадут в 1960-м). Впрочем, и жизнь в Англии не пришлась ему по вкусу: особенно ему досаждал запах вареной баранины. Он снова пустился в путь, на этот раз поддавшись своей давней мечте побывать в Советском Союзе. Очередным местом его работы стал Харьковский физико-технический институт, где тогда собралась плеяда блестящих физиков, среди которых был и великий Лев Ландау.
Сталинские репрессии не обошли институт стороной: как и многие из его советских собратьев, Хаутерманс был арестован и испытал на себе все прелести заключения в тюрьме НКВД. Попытки западных физиков за него заступиться остались без внимания. Хаутерманса обвинили в шпионаже в пользу Германии и подвергли жесточайшим пыткам. Выбор стоял между смертью и признанием вины, и Хаутерманс выдал своих немецких связных – точнее, оговорил неких Мессрса, Шарнхор-ста и Гнейзенау, многие годы как уже покойных немецких генералов, в честь которых были названы три военных корабля. Следователи не распознали обмана, зато друзья на свободе имели возможность догадаться, какими средствами от него добились показаний.
Хаутерманс наверняка умер бы в тюрьме, если бы не пакт Молотова – Риббентропа, неожиданно подписанный Германией и СССР в 1939 году. Когда Хаутерманса спросили, какое место ссылки он предпочитает, он назвал Англию. Однако советские власти отправили его в Германию – то есть прямо в руки гестапо. Но тут его спасло вмешательство бесстрашного Макса фон Лауэ, чье твердое и открытое противостояние нацистскому режиму выделяло его среди прочих лидеров немецкой науки. Выйдя из тюрьмы, Хаутерманс устроился на работу в пригороде Берлина – это была лаборатория, принадлежавшая известному физику, изобретателю и миллионеру Манфреду фон Арденну. За годы работы у него Хаутерманс несколько раз посещал своих прежних коллег на оккупированной немцами Украине – он был членом комиссии, учрежденной военно-морскими силами Германии, которая выясняла, какие исследования проводились в советских лабораториях. По возвращении он отправлял посылки с едой своим харьковским друзьям и вел опасную двойную игру по спасению евреев и других нелегалов.
Лаборатория фон Арденна участвовала в германском атомном проекте. Однажды оказавшись в Швейцарии, Хаутерманс направил в Англию телеграмму, которая поясняла, какой задачей заняты немецкие физики. В Берлине Хаутермансу предстояла своего рода очередная битва при Ватерлоо. Он имел привычку курить сигареты одну за одной (это в конце концов и стало причиной его смерти), а к 1945 году табак в Германии найти было нелегко. Поэтому он сблизился с Абрахамом Эсау, главным администратором атомного проекта, и убедил его, что македонский табак обогащен тяжелой водой, необходимой для изготовления бомбы. Мешок табака немедленно приобрели и прислали Хаутермансу – как материал военного назначения и экстренной надобности. Выкурив всё, Хаутерманс попросил добавки. К этому времени назрели первые подозрения, и ему пришлось ответить на ряд неприятных вопросов. Гестапо вынудило фон Арденна уволить Хаутерманса, и вскоре того арестовали. Лауэ снова, при поддержке других ведущих физиков, попытался вытащить из застенков своего беспутного друга. Хаутермансу разрешили переехать в физический институт в Геттингене. Спустя несколько месяцев война окончилась, и он наконец оказался в безопасности.
Хаутерманс проработал в Геттингене еще семь лет, переключившись на изучение естественной радиоактивности; однако тут его коснулись ограничения, введенные союзниками для ученых. Так, например, в лаборатории запрещалось использовать резисторы с сопротивлением больше 109 Ом. Обиженный Хаутерманс заявлял, что даже у обычного карандаша сопротивление выше. В 1962 году его позвали на физический факультет Бернского университета. Там он спланировал потрясающую программу исследований, однако уже через четыре года скончался в возрасте 63 лет от рака легких.
Отрывочные воспоминания о Хаутермансе и о его бурной научной биографии можно найти в книге мемуаров: Frisch Otto, What Little I Remember (Cambridge University Press, Cambridge, 1979J и еще в книге: Gamow George, My World Line (Viking Prress, New York, 1970), а также в автобиографии: Casimir Hendrik B.G., Haphazard Reality (Harper and Row, New York, 1983J. Любопытная биография Хаутерманса, написанная И.Б. Крипловичем, опубликована в Physics Today, 45, 29 (1992J.
Отшелушить и погибнуть
Впервые годы XX века диетологам стало ясно, что в нашей пище часто содержатся очень малые количества неких крайне важных для жизни веществ. Польский биохимик Казимир Функ назвал их витаминами, от слов vital (“жизненный”) и amine (“амин”). Это было ошибкой, поскольку, когда структуры некоторых витаминов удалось определить, они оказались никакими не аминами. Первым открыли вещество, которое сейчас известно как витамин B1, или тиамин, и открытие это случилось совершенно случайно.
Бери-бери – болезнь, от которой быстро умирают. Столетиями она истребляла целые народы и отдельные группы людей, а в конце XIX века эпидемия прокатилась по Голландской Восточной Индии. В 1886 году голландское правительство направило на расследование комиссию экспертов.
Двое ее членов были учеными – их звали Клеменс Винклер и Корнелис Пекельхаринг. Ученых сопровождал молодой армейский врач, Христиан Эйкман (1858–1930). В те времена господствовала микробная теория болезней, выдвинутая отцами – основателями микробиологии Луи Пастером и Робертом Кохом, и голландцы решили, что бери-бери вызывает микробная инфекция. Два года они бились над тем, чтобы выделить возбудителя болезни, и в конце концов пришли к выводу, что достигли желаемого. Винклер и Пекельхаринг вернулись домой, оставив Эйкмана доделывать опыты на месте. Тот работал в военном госпитале с цыплятами, пораженными, как казалось, тем же бери-бери, но все попытки заразить здоровых птиц биоматериалом больных или мертвых ни к чему не приводили, однако заболевали – сами – даже те, кого взяли в контрольную группу здоровыми, при этом анализы не выявляли у них ни бактерий, ни паразитов.
Эйкмана начали мучить подозрения, что и он, и его коллеги на ложном пути. И тут он случайно заметил: болезнь выкашивала птиц все лето, а осенью резко пошла на спад. Эйкман решил выяснить, что изменилось в условиях содержания птиц и узнал, что как раз в период перемен в госпиталь прибыл новый повар. Он отвечал за прокорм и цыплят, и людей, а поскольку ему не хотелось тратить на кур качественный рис, он закупил для них дешевый, шелушеный. Тогда Эйкман разделил цыплят на две группы: одну кормил шелушеным, другую нешелушеным рисом. Разгадка была найдена: первые быстро заболевали, однако поправлялись, когда им давали рисовую шелуху, а со вторыми вообще все было в порядке. Исследователь предположил, что шелушеный рис отравляет цыплят неизвестным токсическим веществом, а шелуха содержит противоядие. Правильный вывод сделал Пекельхаринг: в шелухе имеется “активный компонент”, который предотвращает болезнь. В 1912 году известный кембриджский биохимик Фредерик Гоуленд Хопкинс впервые выделил витамин. 17 лет спустя Хопкинс и Эйкман получат за свое открытие Нобелевскую премию.
Eijkman С., Nobel Prize Lectures in Physiology and Medicine, 1922–1944 (Elsevier, Amsterdam, 1965).
Табак и кванты
Хотя квантовая теория чрезвычайно важна для объяснения фотоэффекта (кстати, Нобелевской премией Эйнштейна наградили именно за это открытие), сам автор теории относительности никогда не мог принять неопределенностей, заложенных в нее. Эти его сомнения и выразились в знаменитой фразе “Бог не играет в кости”. “Если бы Вселенной управлял случай, – говорил Эйнштейн, – я предпочел бы быть крупье в казино, а не физиком”. Эйнштейн со своим эпистемологическим протестом был неодинок. В1913 году два будущих нобелевских лауреата, ассистент Эйнштейна Отто Штерн и Макс фон Лауэ, прогуливаясь по горе Утлиберг в окрестностях Цюриха, дали торжественную клятву (Вольфганг Паули с издевкой назвал ее “клятвой на Утли” – по аналогии с “клятвой на Рютли” Вильгельма Телля, которая привела к воссоединению швейцарских кантонов). В клятве физиков говорилось: “Если нелепица Бора в конце концов окажется верной, мы уйдем из физики” (Свое слово они, разумеется, не сдержали.)
Непрерывные попытки Нильса Бора (1885–1962) переубедить Эйнштейна (это тянулось десятилетиями) были похожи на то, как священники уговаривали еретиков спасти свою душу. Абрахам Пайс – друг, последователь и биограф Бора – вспоминает одну такую показательную их встречу в кабинете Бора:
Когда мы вошли, Бор пригласил меня сесть (“В любой системе координат мне нужна точка отсчета”), а сам вскоре начал в раздражении ходить вокруг длинного стола в центре комнаты. Затем он попросил меня записать несколько фраз, которые он, возможно, произнесет в процессе ходьбы. Стоит пояснить, что в подобных обстоятельствах Бор никогда не оперировал целыми предложениями. Обычно он цедил по слову и повторял это слово то с лаской, то с угрозой, пока не придумывал, чем продолжить. Это могло занять несколько минут. На сей раз он выбрал слово “Эйнштейн”. Он едва ли не вприпрыжку носился вокруг стола и повторял: “Эйнштейн… Эйнштейн…“ Незнакомому с Бором человеку это наверняка показалось бы забавным. Чуть позже он переместился к окну и выглянул туда, не переставая бормотать “Эйнштейн… Эйнштейн…”.
Тут дверь неслышно приоткрылась, и тихо, на цыпочках, вошел Эйнштейн.
Он приложил палец к губам, призывая меня помолчать, и заговорщицки улыбнулся. Несколько минут спустя он объяснил свое странное поведение. Врач запретил Эйнштейну покупать табак. Однако врач не запрещал ему табак красть, а как раз это он и собирался сделать сейчас. Все еще на цыпочках он прокрался к банке с табаком Бора – та находилась на столе, за которым я сидел. Тем временем Бор, ничего не замечая у своего окна, по-прежнему бормотал “Эйнштейн… Эйнштейн… Я был в полной растерянности, не зная, что предпринять, поскольку совершенно не представлял, что собирается предпринять Эйнштейн.
Затем Бор, отрывисто выдохнув: “Эйнштейн!” – повернулся. Так они и застыли, лицом к лицу, как если бы Бор поймал Эйншейна на месте преступления. Мало сказать, что на мгновение Бор лишился речи. Даже я, хотя и видел, как Эйнштейн вошел, на секунду испытал странное чувство. Минуту спустя зловещие чары рассеялись: Эйнштейн признался, в чем был его замысел, и мы еще долго оглушительно хохотали.
Pais Abraham, Niels Bohr’s Times (Oxford University Press, Oxford, 1991).








