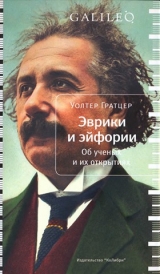
Текст книги "Эврики и эйфории. Об ученых и их открытиях"
Автор книги: Уолтер Гратцер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
Устами поэтов
Печально известный венский психиатр Юлиус Вагаер-Яурегг (1857–1940) придумал один из самых пугающих методов лечения. Вагнер-Яурегг не разделял взгляды Фрейда, с которыми в Вене мало кто не соглашался, а был сторонником фармакологического вмешательства. Однажды ему показалось, что психическое состояние некоторых его беспокойных больных улучшилось после того, как те перенесли лихорадку. Это подтолкнуло его к гипотезе (которую позже признают неверной), что повышенная температура тела благотворно влияет на мозг. Эту весьма опасную теорию он решил проверить на своих пациентах, которых начал заражать стафилококком, стрептококком, а затем и туберкулезом. Итоги этих чудовищных опытов только укрепили его уверенность в выбранном пути, и он предпринял следующий шаг: ввел кровь больного малярией другому больному, сифилитику в прогрессирующем параличе. Пациент, с восторгом сообщал Вагнер-Яурегг, сразу пошел на поправку.
Метод вошел в моду; в 1927-м Вагнеру-Яуреггу присудили Нобелевскую премию. Такое лечение широко практиковали в 20-х и 30-х годах, и неясно, сколько пациентов от этого погибло. К счастью, в последующие десятилетия появились более действенные и менее опасные лекарства. Не исключено, Что пациентам принесла бы больше пользы проверенная терапия образца XIX века: резкое погружение в ледяную воду.
Энтузиазм Вагнера-Яурегга был подстегнут самым неожиданным образом:
В 1927 году великий Юлиус Вагнер-Яурегг отправился в Стокгольм, на церемонию вручения Нобелевской премии по медицине. Эта высокая награда была ему присуждена за открытие способа лечения душевнобольных, который заключался в том, чтобы повышать у больных температуру (для чего тех обычно заражали малярией). Когда поезд должен был вот-вот тронуться, в купе вошла дама и уселась напротив. Завязалась беседа, и тут выяснилось, что леди тоже направляется в Королевский дворец в Стокгольме, и тоже на вручение Нобелевской премии. Соседке психиатра полагалась премия по литературе: леди звали Грация Деледда, она была поэтессой с острова Сардиния и ее перу принадлежал роман о безумном молодом человеке, который однажды во время припадка упал в реку, простудился, заболел лихорадкой и таким образом излечился от душевной болезни.
История рассказывается в статье известного биохимика: Heyningen W.E.van, Trends in Biochemical Sciences, N177, August 1979.
Смертоносные паразиты
Водной из своих работ Людвиг Гросс, первооткрыватель вируса лейкемии, который не побоялся оспорить догму об отсутствии всякой связи между вирусами и раком, увлекательно рассказывает историю другого страшного заболевания – тифа. Гросс, врач в Нью-Йоркской больнице, занимался научными исследованиями в свободное от работы время. В молодости он был сотрудником Института Пастера в Париже и там в 1934 году познакомился с Шарлем Николем, лауреатом Нобелевской премии по медицине 1928 года. Тот доказал, что тиф переносят вши – что, впрочем, предполагали и раньше. В первые годы XX века Николь возглавлял Институт Пастера в Тунисе. В разгар эпидемии тифа его озадачил удивительный факт: горожане легко подхватывали болезнь и на улицах, и у себя дома, но ни один человек не заразился в больнице, которая была переполнена тифозными больными. Пациентов, попавших в госпиталь, разумеется, отмывали и переодевали в больничные робы. Николь заключил, что причина болезни кроется в грязной одежде – следовательно, виноваты вши. Он ввел обезьяне кровь тифозного больного, и, когда все признаки тифа были налицо, собрал с нее вшей и пересадил на другую обезьяну. Вскоре у той тоже начался тиф. Затем Николь показал, что сами вши, которые переносят инфекцию (очевидно, бактериальную), краснеют и гибнут. Болезнь, выяснил Николь, передается, когда их порошкообразные выделения попадают на кожу человека. Эффективную вакцину против тифа придумали только 30 лет спустя.
Гросс приводит еще одну историю, в которой нет поводов сомневаться. В 1936 году во Львове (тогда этот украинский город принадлежал Польше) он заглянул к доктору Рудольфу Вейглю. Вейгль изучал тиф и родственную ему болезнь, окопную лихорадку, еще с тех пор, когда во времена Первой мировой войны служил в военной бактериологической лаборатории.
Доктор Вейгль трудился в своей скромной лаборатории вместе с женой и несколькими ассистентами. Вот результаты его исследований. Нормальная здоровая вошь практически не содержит микробов. Вошь, проглотившая каплю крови больного тифом, краснеет и умирает спустя несколько недель. Во внутренностях зараженной вши размножаются риккет-сии (то есть бактерии Rikketsia prowazeki названные так в честь двоих американских ученых, Говарда Т. Риккетса и Станислава фон Провацека, которые умерли от подхваченного в лаборатории тифа), число которых в итоге измеряется миллионами. Эти миллионы живых риккетсий затем выводятся с экскрементами вши, невероятно заразным темным порошком. Доктор Вейгль передавал риккетсий от вши ко вше, приготовляя водную взвесь инфицированных внутренностей и вводя его здоровой вши миниатюрной клизмой (!). В ходе этих опытов несколько его сотрудников заразились тифом, но в конце концов выздоровели. Вшей следовало ежедневно подкармливать человеческой кровью. Доктор Вейгль с женой кормили вшей, рассаженных по коробкам, которые напоминали спичечный коробок, но отличались одной деталью: одну из сторон заменяла плотная решетка, сидя за которой вошь могла проколоть человеческую кожу и всосать кровь. Второй раз в жизни Вейгль заразился тифом именно тогда, когда пытался покормить зараженную вошь и позволил ей себя укусить. Из этого опыта он вывел, что тифом можно заболеть повторно, хотя вероятность этого ничтожно мала. Чтобы изготовить одну дозу вакцины, требовалось около юо вшей. Вскоре это число сумели уменьшить до 30. Тем не менее, когда понадобились большие порции вакцины, метод Вей-гля, весьма сложный и опасный для экспериментатора, вызывал большие затруднения.
Двумя годами позже американский ученый обнаружил, что риккетсий можно разводить в оплодотворенных куриных яйцах, а потом убивать и экстрагировать, и так производить вакцину без опасности заразиться.
О работе Вейгля вскоре стали рассказывать польским студентам-медикам, и это позволило полякам осуществить по крайней мере одну успешную операцию против немцев, когда спустя несколько лет их страну оккупировали гитлеровские войска. За время оккупации погибло более пяти миллионов поляков. Еще полмиллиона с лишним вывезли в Германию и в другие страны – эти несчастные были обречены на рабский труд.
Два варшавских молодых врача, Станислав Матулевич и Евгениус Лазовский, придумали уловку, которая спасла сотни их сограждан, живших неподалеку от Варшавы. Матулевич и Лазовский выяснили, что риккетсии вырабатывают точно такой же антиген, как и некоторые виды безвредных бактерий-протеев. Это означало, что антитела в крови больных тифом будут распознавать не только сами микробы тифа, но заодно и протеев. Поскольку заразиться протеями маловероятно, то подобная кросс-реактивность, как называют этот эффект медики, служит стандартным анализом на тиф: если белок крови потенциального больного вступает в реакцию (реакцию Вейля-Феликса) с лабораторными бактериями-протеями (иными словами, происходит агглютинация), значит, человек болен тифом.
Матулевич и Лазовский знали, что немцы испытывают ужас перед тифом – во время Первой мировой войны страшная болезнь опустошила страну и нанесла огромный ущерб армии. Недаром новоприбывших в концентрационные лагеря отправляли в карантин, чтобы предупредить вспышку тифа. Фашистские эскулапы не задумываясь убивали заключенных с малейшими его симптомами.
Только за одни сутки в Освенциме по этой причине уничтожили 746 человек.
Матулевичу пришло в голову, что у зараженного протеями реакция Вейля-Феликса будет положительной, и того примут за больного тифом. Первый опыт поставили на бежавшем из Германии работнике, который был готов пойти на смертельный риск, только бы не возвращаться обратно. Уловка сработала: образец крови отправили в немецкую государственную лабораторию и вскоре получили телеграмму, подтверждавшую заражение тифом. Тем временем оба доктора распространяли ложную эпидемию при помощи прививок. Гитлеровцы были готовы к таким попыткам обмана, как подмена образцов незараженной крови образцами зараженной, но тут, разумеется, немцы могли взять анализы сами, чтобы подтвердить диагноз. Узнать, что происходит, отправили старшего военного врача с двумя ассистентами, но врача поляки отвлекли водкой, имевшейся в изобилии, да так, что ему пришлось перепоручить инспекцию своим ассистентам. Им показали разваливающиеся дома, где, как предполагалось, лежат тифозные больные, и немцы сочли благоразумным не заглядывать внутрь. Для их удовлетворения поляки притащили старика, умиравшего от воспаления легких, и списали его плачевное состояние на тиф. Немцы были окончательно одурачены, и жители окрестных деревень благополучно избежали излишнего внимания с их стороны.
Gross Ludwik, Proceedings of National Academy of Sciences, USA, 93, io539 (1996), я за историей подлога с протеями следует обратиться к: J. D. С. Bennett and L Tysczczuk, British Medical Journal, 301,1471 (1990); см. также книгу: Dixon Bernard, Power Unseen: How Microbes Rule the World (Oxford University Press, Oxford, 1994).
Неприменимый принцип
Физик Р.В. Джонс рассказывает поучительную историю. Выйдя как-то из Кларендонской лаборатории Оксфорда, он увидел грязный стакан, полный воды.
В руках я как раз держал пистолет (это довольно необычное обстоятельство Джонс не поясняет). Не задумываясь, я выстрелил: стакан эффектно разлетелся, и это меня изумило. Я, разумеется (!), стрелял по стаканам и раньше, но они просто разбивались, а не разлетались на мелкие осколки. Следуя заповеди Резерфорда (вероятно, о том, чтобы тщательно проверять воспроизводимость результатов наблюдений), я еще раз проделал свой опыт, и все повторилось: особенностями своего поведения стакан был обязан воде. Годы спустя, после войны, мне пришлось читать лекцию перед большой аудиторией в Абердине: я преподавал им гидростатику. Начали с определений – что газ слабо сопротивляется сжатию, а жидкость сильно.
Я подумал, что определения стоит закрепить, повторив перед слушателями мои опыты с пистолетом, чтобы каждый мог взглянуть на них с такой точки зрения: стакан, который до попадания пули вмещал только воду, внезапно должен вместить еще и пулю. Он не может приспособиться к новому объему с той скоростью, с какой требуется, и потому разлетается.
Эксперимент получил в Абердине должную огласку, и особенно вдохновил местных инженеров, по пятницам устраивавших из сноса каких-нибудь сооружений целую церемонию. Одним из заданий, которое на них свалилось (хотя слово “свалиться”, как станет ясно, тут неуместно), было разрушение высокой заводской трубы на бумажном комбинате. Для процедур подобного рода существует много стандартных методов (один из старейших таков: вытаскивать по кирпичу с одной стороны кладки, заменяя каждый деревянной распоркой. Когда распорки займут больше половины окружности трубы, а высота деревянной, конструкции станет сопоставима с ее радиусом, внутри трубы разводят огонь. Дерево сгорает, и труба падает).
Инженеры, однако, решили на этот раз воспользоваться несжимаемостью воды. Эту идею подал им мой эксперимент. Инженеры решили, что сначала заткнут все дыры в основании трубы, затем закачают туда воду до отметки 2 метра или около того и, наконец, сымитируют попадание пули, подорвав под водой заряд взрывчатки. Коль скоро взрывы по субботам были в Абердине редкостью, затея собрала множество зрителей. Подожгли бикфордов шнур. Опыт был успешным настолько, что целиком провалился. Вот что произошло: как и в случае со стаканом, каждый кирпич, которого касалась вода, вылетел наружу, а изящно обрезанная снизу труба зависла в воздухе на двухметровой высоте. Вся конструкция затем опустилась в точности на старый фундамент, невредимая и в вертикальном положении, и этим вернула взрывателей к той задаче, которая стояла перед ними в самом начале.
Jones R.V., *Impotence and achievement in physics and technology Nature, 207,120 (1965J.
Послание из космоса
Львиной долей того, что известно нам об устройстве Вселенной, мы обязаны радиоастрономии. Огромные параболические тарелки-приемники, собирающие сигналы из пустоты, стали привычной деталью загородного пейзажа. И все они – результат случайного открытия, побочный продукт борьбы за выживание в первые годы Второй мировой войны. По правде говоря, примерно десятью годами раньше их появление предугадал некто Карл Янский – когда он, сотрудник американской компании Веll, искал причины атмосферных помех при радиосвязи. Янский обнаружил, что сила шумов заметно колеблется с периодом около суток, и интуиция подсказала ему, что этот период следует измерить с максимальной точностью. В итоге он сделал настоящее открытие: оказалось, что этот период – 23 часа 56 минут – совпадает с периодом обращения Земли по отношению к неподвижным звездам. Источник помех, следовательно, находится вне Солнечной системы и, похоже, спрятан где-то в Млечном Пути. Это смог подтвердить космолог-любитель Гроте Ребер – он специально построил параболический приемник в своем саду в Уитоне, штат Иллинойс, чтобы выяснить, откуда исходит обнаруженный Янским сигнал. Исследования эти тогда не заинтересовали астрономов, и еще десятилетие в космогонии ничего не менялось.
Но вот наступил 1942 год. Многие физики в то время занимались оборонными исследованиями. Среди них был и Дж. С. Хей. В его задачи входило улучшение работавшей со сбоями системы радаров Британской армии. Тогда английские ученые оказались вовлечены в особое состязание с немцами: кто искусней исказит чужой сигнал или помешает ему достигнуть адресата. Хей буквально загорелся этой работой.
Неплохая подготовка, сверхважный оборонный заказ и интригующие условия работы – все это подпитывало мой энтузиазм.
Весь 1941 год враги, из разу в раз все активней, пытались создать помехи нашим радарам. Военное министерство опасалось, как бы они не сделались окончательно бесполезными. 12 февраля 1942 года через Ла-Манш практически незамеченными прошли два немецких военных судна, “Шарнхорст” и “Гнейзенау”. Англичане обнаружили их только тогда, когда атаковать врага было уже поздно и бессмысленно. Вся операция сопровождалась помехами, наведенными с берегов Франции. Этот случай заставил военных чиновников серьезнее отнестись к борьбе с радио-помехами. Чтобы разобраться с такой нелегкой проблемой, они обратились за помощью к Армейской группе операционных исследований. Изучение помех трудно назвать самой интересной темой для исследований. Скорее, наоборот. Тем не менее на вызов следовало ответить, и я с готовностью принял предложение стать ответственным за анализ помех на армейских радарах, а также давать консультации по мерам противодействия. Вместе с офицерами мы составляли инструкции для операторов радаров и организовывали систему незамедлительных отчетов. Передвижную “помехонаблюдательную” лабораторию из стратегических соображений разместили на утесах Довера и укомплектовали членом моей группы. Мне отводилась особая роль – гражданского специалиста на ключевой позиции в армейской системе, а работа оказалась не только не скучной, но даже захватывающей: любой мой совет срочно рассматривали в специальной Противовоздушной комиссии и в самом Военном министерстве.
27 и 28 февраля 1942 года во множестве отчетов из самых разных областей страны одновременно сообщалось, что противовоздушные радары с рабочей длиной волны 4 и 8 метров днем испытали серьезные помехи и что невероятная интенсивность помех сделала дальнейшую работу радаров невозможной. К счастью, в тот момент не происходило никаких авианалетов, но тревогу все равно объявили всюду, где был замечен новый вид помех. Осознав, что направления максимальной интерференции, зафиксированные операторами, повторяли маршрут Солнца на небе, я немедленно позвонил в Королевскую обсерваторию в Гринвиче, чтобы узнать, не стряслось ли чего-нибудь экстраординарного с солнечной активностью. Мне сообщили, что хотя и шел всего второй год (если отсчитывать от минимума) одиннадцатилетнего солнечного цикла, но, однако, на Солнце появилось невероятно активное пятно, которое медленно пересекало солнечный диск, а 28 января оказалось на центральном меридиане. (Солнечные пятна путешествуют за счет вращения Солнца вокруг своей оси, они – сильные магниты, хотя Солнце в целом – слабый магнит.) Мне стало ясно, что Солнце должно излучать электромагнитные волны – ничем иным объяснить совпадение направлений нельзя – и что источник этих волн лежит в зоне активного пятна. Я знал, что магнетронные установки генерируют сантиметровые радиоволны (то излучение, которое, отражаясь от самолета, позволяет радару его заметить) за счет электронов, движущихся в килогауссовых магнитных полях. Тогда, размышлял я, почему бы зоне активного пятна – с ее огромными запасами энергии и умением испускать потоки частиц, таких как ионы и электроны, – в магнитном поле порядка ста гауссов не порождать метровое излучение?
Когда я написал статью с изложением деталей происшествия, мой начальник Б. Ф. Дж. Шёнланд вспомнил про открытие Янским галактического радиошума, но с этим открытием я прежде не был знаком. Поразительно, но некоторые радиофизики, занятые изучением ионосферы и проблем связи, отнеслись к моим выводам с недоверием. Им было трудно допустить, что такие мощные всплески активности остались незамеченными в прежние десятилетия, когда радиофизика уже вовсю развивалась.
Для относительного новичка в этой области было едва ли не наглостью представлять статью про явление большой мощности, связанное с радио, на Солнце.
У открытия мощного радиоизлучения со стороны Солнца было много общего с открытием Янского, который обнаружил радиошум в космосе. Оба были примерами наблюдений, сделанных с определенной целью, но указывающих на прежде неизвестное явление. В обоих случаях целью было изучить разновидности интерференции, ограничивавшие эффективность какой-нибудь системы.
Работам Хея и похожим результатам, полученным в лабораториях Bell независимо от него, но чуть позже, пришлось ждать публикации до конца войны. Хей предполагает, что в ошибке прежних исследователей, которым не удалось зафиксировать столь явное и заметное излучение Солнца в период появления активных пятен, которое, говорит он, “буквально кричало, чтобы его заметили”, виновата распространенная тогда догма: никто не слеп настолько, чтобы не увидеть очевидного. Один только астроном-любитель подобрался к этой теме вплотную в 1938 году.
HeyJ.S., The Evolution of Radio Astronomy (Elek Science, London, 1973^.
Шахматная доска императора
Легенды рассказывают, что некий китайский император спросил у одного мудреца, как вознаградить его за важную услугу. Мудрец назвал свою цену: дай мне обычного риса, а вот сколько? Положи два зерна на первую клетку шахматной доски, четыре на вторую, восемь на третью и так далее. Скромная просьба, подумал император, и с облегчением согласился. Однако он не знал, что такое геометрическая прогрессия – выполняя указания мудреца, весь урожай риса страны следовало уложить на одну-единственную клетку, причем задолго до последней, 64-й.
Тот же простой расчет (очевидный для каждого, кто хорошо знаком с числами), привел, вероятно, к одному из главных технологических достижений XX века и обеспечил Кэри Мюллису, блестящему американскому биологу, Нобелевскую премию (в 1993 г.). Вот как сам ученый вспоминает ослепительный момент, когда ему вдруг все стало ясно, – минуты, которые удается пережить очень немногим.
Пятничным вечером в конце весны 1983 года я ехал с подругой химиком на машине в Мендочино, Калифорния. Она спала. Каждые выходные я отправлялся на север в мой небольшой домик. Три часа за рулем. Мне нравилось водить по ночам: руки заняты, мысли свободны. Той ночью я размышлял о предложенном мною эксперименте по секвенированию[15]15
Секвенирование – определение последовательности нуклеотидов.
[Закрыть].
Мюллис, сотрудник молодой биотехнологической компании Сеtus, долго вынашивал идею, которая должна была заметно облегчить расшифровку нуклеотидной последовательности ДНК. Длинные цепочки ДНК состоят из звеньев-нуклеотидов четырех типов – их обозначают буквами А.С.Т.G. Нуклеотидная последовательность – это тот порядок, в котором эти единицы выстраиваются в цепочку. Две нити знаменитой двойной спирали представляют последовательности, “дополняющие” друг друга: каждое А находится напротив Т в противоположной цепочке (и “привязано” к нему химически), а каждое С – напротив G. Для секвенирования применяют фермент, который копирует ДНК в процессе деления клетки. Чтобы заставить фермент (ДНК-полимеразу) двигаться вдоль цепи, нужен так называемый праймер. Это короткий фрагмент ДНК, специально синтезированный в лаборатории, и комплементарный, соответствующий, начальному участку той ДНК, которую собираются секвенировать. Мюллис рассуждал так: если взять два праймера, по одному на каждую нить двойной спирали (а разные нити, как известно, задают разные направления движения), то фермент будет перемещаться вдоль ДНК одновременно и вперед, и назад. Последовательности обеих нитей будут расшифровываться одновременно. Это будет дополнительной проверкой точности ответа, поскольку если последовательность одной нити известна, то последовательность другой легко воспроизвести (по принципу “дополнительности”). Впрочем, как оказалось, именно такая схема не работает:
Затем Мюллиса озарило: пусть энзим копирует сегмент с двумя праймерами на противоположных концах. Теперь предположим, что цепи свежевыделенной ДНК благополучно разделили (этого легко добиться нагреванием). Если в растворе хватает молекул праймера, фермент будет обрабатывать каждую новую нить. Из двух экземпляров получатся четыре, из четырех – восемь, и так далее. Загвоздка только в том, что при той температуре, при которой нити ДНК разделяются, фермент теряет активность, и каждый раз приходится добавлять новую его порцию. Эту трудность, впрочем, можно преодолеть, если взять фермент термофильной бактерии – из тех, что обитают в горячих источниках и содержат термостойкие белки. Мюллис продолжает:
Идея повторять процедуру раз за разом могла показаться до невозможного скучной. Однако я потратил много времени на написание компьютерных программ и был знаком с понятием рекурсивных циклов – математических процедур, которые снова и снова применяют к результатам последнего вычисления. Опыт подсказывал мне, какая сила скрыта в рекурсивных процессах с экспоненциальным ростом. Процедура репликации ДНК, которую я себе представил, должна была быть именно таким процессом. В восхищении я стал прокручивать у себя в голове степени двойки: 2, 4, 8, 16, 32… С трудом вспомнилось, что два в десятой степени – это что-то около юоо и что, следовательно, два в двадцатой примерно равно миллиону. Я остановил машину у поворота, откуда открывался вид на долину Андерсона. Из ящичка для перчаток я достал карандаш и бумагу. Нужно было проверить мои расчеты. Дженнифер, мой сонный пассажир, яростно возражала против такой задержки и против включенного света, но тут я заявил, что открыл нечто фантастическое. Не впе-чатлившись, она опять заснула. Я убедился, что два в двадцатой больше миллиона, и поехал дальше.
Утром в понедельник Мюллис, переполняемый восторгом, рассказал коллегам из корпорации Сеtus о своем методе, которому уже выдумал название – полимеразная цепная реакция, или ПЦР. Однако они сохраняли упрямое безразличие – разумеется, только до тех пор, пока не было доказано, что метод работает.
Вот, по крайней мере, та версия, которой придерживается Мюллис, но она не очень хорошо согласуется с воспоминаниями остальных. Ошибки, которые Мюллис допускал, работая в лаборатории, равно как и его утомительная склонность все преувеличивать, не слишком располагали к нему коллег. То, что ему тогда не очень доверяли, отчасти объясняет, почему идея ПЦР, впервые изложенная на лабораторном семинаре, встретила такой холодный прием. Но была и еще причина: как отмечал один из тогдашних сослуживцев Мюллиса, самое смешное в истории с ПЦР – то, что метод родился вовсе не из размышлений над какой-нибудь конкретной проблемой. Он оказался полезным для скромных задач, которыми занимался Мюллис, однако потом нашлись и другие применения, и их становилось все больше. Метод превратил Cetus в одну из ведущих биотехнологических компаний Америки и кардинально изменил ситуацию в биологии, биотехнологиях, сельском хозяйстве и фармацевтической промышленности. Теперь каждая биологическая лаборатория располагает специальным автоматическим устройством для “размножения” ДНК методом ПЦР. ПЦР позволяет получить осязаемое количество ДНК из образцов, содержащих всего несколько ее молекул – вроде пятна крови или спермы. Большинство биологов так до сих пор и не может понять, почему эта мысль пришла в голову не им, а Мюллису.
Рассказ про открытие ПЦР, который в основном следует версии Мюллиса, в книге: Bodmer Walter and McKie Robert, The Book of Man: The Quest to Discover our Genetic Heritage (Little, Brown, London, 1994), однако более подробное и непредвзятое изложение следует искать в книге: Rabinow Paul, Making PCR: A Story of Biochemistry (University of Chicago Press, Chicago, 1996).








