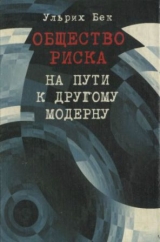
Текст книги "Общество риска. На пути к другому модерну"
Автор книги: Ульрих Бек
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
Модернизация в политической системе сужает свободу действий политики. Осуществленные политические утопии (демократия, социальное государство) сковывают – юридически, экономически, социально. Параллельно в результате модернизации в экономико-технической системе, напротив, открываются совершенно новые возможности вмешательства, с помощью которых можно упразднить культурные неизменности и основные предпосылки прежней жизни и труда. Микроэлектроника позволяет изменить систему занятости в ее социальной основе. Генная технология превращает человека в этакого полубога: он способен создавать новые материалы и живые существа, которые революционизируют биолого-культурные основы семьи. Такая генерализация принципа формирования и осуществимости, распространенного ныне и на субъект, которому все это должно служить, потенцирует риски и политизирует места, условия и средства их возникновения и толкования.
Не раз подчеркивалось, что «старое» индустриальное общество было «зациклено» на прогрессе. Но, во-первых, при всей критике по его адресу – от эпохи раннего романтизма до наших дней – никогда не ставилась под вопрос та латентная вера в прогресс, которая ныне, с ростом рисков, стала весьма сомнительной, а именно: вера в метод проб и ошибок, в возможность постепенно и систематически, несмотря на многочисленные рецидивы и проблемы с последствиями, овладеть внешней и внутренней природой (миф, который, к примеру, вопреки всей критике «капиталистической веры в прогресс» вплоть до недавнего времени был обязателен и для левых политиков). Во-вторых, сей аккомпанемент критики по адресу цивилизации ни на йоту не умалил пробивную силу общественных изменений, происходивших под лозунгом «прогресса». Это указывает на особенности данного процесса, при котором социальные изменения могут происходить как бы «инкогнито»: «прогресс» есть нечто большее, чем идеология; он представляет собой «нормально» институционализированную внепарламентскую активную структуру перманентного общественного изменения, где – парадоксальным образом – в экстремальном случае осуществляется даже ломка привычных отношений, при необходимости с помощью сил государственного порядка вопреки всем попыткам сохранить существующую ситуацию.
Чтобы понять легитимирующую силу согласия на прогресс, необходимо вновь вспомнить почти забытое обстоятельство: соотношение социально-политической культуры и технико-экономического развития. В начале XX века был опубликован целый ряд классических трудов по социологии, посвященных культурному влиянию на систему труда, технологии и экономики. Макс Вебер доказал, насколько значительную роль сыграли кальвинистская религиозная этика и содержащаяся в ней «аскеза внутреннего мира» для возникновения и развития «профессионального человека» и капиталистической экономической деятельности. Более полувека назад Торстейн Веблен доказывал, что законы экономики действуют не постоянно и не могут постигаться независимо, а целиком привязаны к культурной системе общества. Когда формы общественной жизни и общественные ценности изменяются, неизбежно изменяются и экономические принципы. Если, например, большинство населения (неважно, по каким причинам) отвергает ценности экономического роста, то ставятся под вопрос все наши представления об организации труда, критериях продуктивности и направлении технического развития и возникает новое принуждение к политическому действию. Вебер и Веблен аргументировали (по-разному) в том смысле, что труд, технические преобразования и экономическое развитие остаются связаны в рамках системы культурных норм, доминирующих ожиданий и ценностных ориентации людей.
Если эти, по сути, очевидные выводы, разделяемые и целым рядом других авторов[22]22
Наряду с Вебером и Вебленом назовем прежде всего таких социологов, как Эмиль Дюркгейм, Георг Зиммель, а в наши дни, в частности, Джон К. Гэлбрейт и Даниел Белл.
[Закрыть], до сих пор (не считая риторических заявлений) почти не имеют практической значимости, то причина, видимо, в том, что после второй мировой войны и вплоть до 60-х годов социально-политическая культура, упрощенно говоря, оставалась во многом стабильна. «Переменная», которая не меняется, выпадает из поля зрения, перестает быть «переменной», и потому ее значение ускользает от внимания. Ситуация резко меняется, как только эта стабильность расшатывается. Значение фонового культурно-нормативного согласия для развития экономики и техники становится зримо как бы задним числом, когда оно уже исчезает. На подъеме послевоенных лет в ФРГ (и в других западных индустриальных государствах) экономический, технический и индивидуальный «прогресс» явно переплелись друг с другом. «Экономический рост», «повышение производительности», «технические новшества» были не только экономическими целями, соответствовавшими заинтересованности предпринимателей в приращении капитала, но и зримо для каждого вели к восстановлению общества и росту индивидуальных потребительских шансов, а также к «демократизации» некогда эксклюзивных жизненных уровней. Это сцепление индивидуальных, общественных и экономических интересов в осуществлении «прогресса», понимаемого экономически и научно-технически, на фоне военных разрушений удавалось в той мере, в какой, во-первых, действительно происходил подъем, а во-вторых, казался предсказуемым масштаб технологических инноваций. Оба условия остаются вплетены в политические надежды социального государства и таким образом стабилизируют сферы политики и неполитики «технического преобразования». В частности, эта социальная конструкция технолога-политического согласия на прогресс основывается на следующих предпосылках, которые, впрочем, с возникновением новой политической культуры в 70-е годы утрачивают прочность.
Во-первых, это согласие базируется на общепринятой примирительной формуле «технический прогресс равен прогрессу социальному». Допущение гласит: техническое развитие продуцирует очевидные потребительные стоимости, которые в вицеоблегчений условий труда, улучшений жизни, подъема уровня жизни и т. д. буквально ощутимы для каждого.
Лишь такое отождествление технического и социального прогресса позволяет, во-вторых, рассматривать негативные эффекты (такие, как деквалификация, перемещения, риски занятости, опасности для здоровья, разрушение природы) отдельно как «социальные последствия технических преобразований», причем задним числом. «Социальные последствия» суть знаменательным образом нанесение вреда – а именно, частные вторичные проблемы для определенных групп, которые никогда не ставят под вопрос саму социальную пользу технического развития. Разговоры о «социальных последствиях» позволяют, во-первых, отмести всякое притязание на общественное и политическое формирование технического развития, а во-вторых, уладить разногласия о «социальных последствиях», никоим образом не нанося вреда процессу технических преобразований. Дискутировать можно и нужно только о «негативных последствиях». Само техническое развитие остается бесспорным, закрытым для решений, следует своей имманентной логике.
В-третьих, носителями и создателями этого технолого-политического согласия на прогресс являются конфликтные стороны индустрии: профсоюзы и работодатели. Государство выполняет лишь косвенные задачи – а именно приостанавливает «социальные последствия» и контролирует риски. Споры между тарифными партнерами вызывают только «социальные последствия». Антагонизмы в оценке «социальных последствий» изначально предполагают согласие на осуществление технического развития. Это согласие по коренным вопросам технологического развития подкрепляется давно опробованной общей враждебностью к «противникам техники», «разрушителям станков», «критикам цивилизации».
Все несущие опоры этого технолого-политического согласия на прогресс – разделение социальных и технических преобразований, допущение системных или объективных принуждений, формула согласия (технический прогресс равен прогрессу социальному) и первичная компетентность тарифных сторон – за последние лет десять более или менее расшатались, причем не случайно и не на основе культурно-критических интриг, а в результате самих процессов модернизации: конструкция латентности и побочных последствий подорвана вторичным онаучиванием (см. выше). С ростом рисков предпосылки примирительной формулы о тождестве технического и социального прогресса упраздняются (см. выше). Одновременно на арену конфликтов технологии и политики выходят группы, совершенно не предусмотренные во внутрипроизводственной структуре интересов и в формах ее восприятия проблем. Например, в конфликтах по поводу атомных электростанций и предприятий по обогащению ядерных материалов предприниматели и профсоюзы – носители нынешнего технического согласия – сосланы на зрительские трибуны, тогда как сами конфликты разрешаются теперь в прямом столкновении между государственной властью и гражданским протестом, т. е. по совершенно другому социально-политическому сценарию и между актерами, которые на первый взгляд имеют лишь одно общее – удаленность от техники.
Эта перемена арен и контрагентов тоже не случайна. Во-первых, она соответствует уровню развития производительных сил, на котором высокие технологии, сопряженные с большими рисками, – атомные электростанции, обогатительно-восстановительные производства, универсализация химических ядов – вступают в непосредственное взаимодействие с социальными сферами вне системы правил производственных игр. Во-вторых, в этом находит свое выражение растущая заинтересованность новой политической культуры в партиципации. Из конфликта по поводу предприятий, перерабатывающих ядерные отходы, «можно усвоить, что от численных меньшинств (например, «оппонирующих местных граждан») невозможно отделаться, обозвав их нарушителями спокойствия и скандалистами. Высказываемое ими несогласие имеет показательную ценность. Оно показывает… происходящее в обществе изменение ценностей и норм или же неизвестные до сих пор различия между разными социальными группами. Существующие политические институты должны по меньшей мере относиться к этим сигналам с такой же серьезностью, как и к срокам выборов. Здесь намечается новая форма участия в политике».
В конечном счете наука как источник легитимации тоже отказывает. Об опасностях предупреждают не невежды и не новые приверженцы каменного века, а все больше люди, которые сами являются учеными, – атомники, биохимики, врачи, генетики, информатики и т. д., – а также великое множество граждан, которые непосредственно затронуты опасностями и при том вполне компетентны. Они умеют аргументировать, хорошо организованы, отчасти располагают собственными журналами и в состоянии снабдить аргументацией общественность и судебные инстанции.
Тем самым, однако, все более отчетливо складывается открытая ситуация: технико-экономическое развитие утрачивает свое культурное согласие, причем как раз в тот момент, когда ускорение технического преобразования и диапазон общественных изменений приобретают исторически невиданный размах. Однако же в самом процессе технических преобразований утрата прежнего доверия к прогрессу ничего не меняет. Именно это несоответствие подразумевается понятием технико-экономической «субполитики»: диапазон общественных изменений обратно пропорционален их легитимации, причем это никак не меняет пробивной силы технического преобразования, которое именуется «прогрессом».
Страх перед «прогрессом» генной технологии ныне распространен очень широко. Проводятся парламентские слушания. Протестует церковь. Даже верующие в прогресс ученые не могут отделаться от этого страха. Но все это происходит как отклик на давно принятые решения. Более того: никакого решения не было. Вопрос «нужно ли?» никогда не ставился. Не работали никакие комиссии. Все просто идет «своим чередом». Эпоха человеческой генетики началась давным-давно, хотя мы все еще спорим, говорить ли ей «да» или «нет». Конечно, можно говорить прогрессу «нет», но этим его не остановить. Прогресс – это бланковый чек на осуществление по ту сторону согласия или несогласия. Демократически легитимированная политика весьма восприимчива к критике, но технико-экономическая субполитика к той же критике относительно невосприимчива, а ведь именно технико-экономическая субполитика, бесплановая, закрытая для решений, как раз и осознается как общественное изменение – уже в процессе своего осуществления. Эту особую формирующую и «пробивную» силу субполитики мы и обсудим ниже на экстремальном примере – примере медицины.
Согласно объявленному самопониманию, медицина служит здоровью; фактически она создала совершенно новые ситуации, изменила отношение человека к самому себе, к болезни, страданию и смерти – и даже изменила мир. Чтобы осознать революционные воздействия медицины, вовсе незачем углубляться в дебри оценок всесилия или несостоятельности медицины.
Можно спорить о том, вправду ли медицина улучшила здоровье людей. Бесспорно, однако, что она способствовала увеличению численности людей. За последние 300 лет население Земли выросло почти в десять раз. В первую очередь это следует отнести за счет снижения младенческой смертности и за счет возрастания ожидаемой продолжительности жизни. В Центральной Европе представители разных социально неравных слоев могут рассчитывать (если условия жизни в будущем резко не ухудшатся) достичь в среднем 70-летнего возраста, который еще в XIX веке считался «библейским». Здесь во многом отражаются и гигиенические улучшения, немыслимые без медицинских исследований. Смертность снизилась, поскольку улучшились условия жизни и питание и поскольку впервые были найдены эффективные средства обуздания инфекционных болезней. В итоге мы имеем стремительный рост населения как раз в бедных странах третьего мира, с вытекающими отсюда важнейшими политическими проблемами голода и нищеты, а также крайнего неравноправия в глобальном масштабе. Совсем другой аспект изменяющих общество воздействий медицины связан с разъединением диагностики и терапии на современном этапе развития медицины. «Естественнонаучный диагностический инструментарий, множество психодиагностических теорий и номенклатур и сциентистский интерес, проникающий все дальше в „глубины“ человеческого тела и человеческой души, ныне – уже вполне открыто – отделились от терапевтической сферы и прямо-таки… обрекли ее на „ковыляние в хвосте“». Следствие этого – резкий всплеск так называемых «хронических заболеваний», т. е. заболеваний, которые диагностируются благодаря наличию высокочувствительных медицинских приборов, однако же не могут быть излечены, ибо эффективные терапевтические методы не разработаны и даже не стоят на повестке дня.
На самом передовом своем этапе медицина продуцирует ситуации заболеваний, определяемых ею самой (предварительно или окончательно) как неизлечимые; представляя собой совершенно новые опасности или жизненные ситуации, они располагаются поперек всей нынешней системы социальных неравенств: в начале XX века примерно 40 человек из 100 умирали от острых заболеваний. В 1980 году такие заболевания составляли лишь 1 % от всех смертей. Доля хронических, больных за тот же период увеличилась с 46 % до более чем 80 %. При этом смерти все чаще предшествуют долгие страдания. Из 9,6 млн граждан ФРГ, зарегистрированных при малой переписи населения 1982 года как не вполне здоровые, около 70 % страдали хроническими заболеваниями. Излечение в смысле исконной задачи медицины в ходе такого развития все больше становится исключением. Однако данная ситуация свидетельствует не только о несостоятельности. Вследствие своих успехов медицина опять-таки «взваливает» на людей болезни, которые теперь с помощью высоких технологий способна диагностировать.
Данное развитие знаменует медицинский и общественно-политический перелом, широкомасштабные последствия которого ныне вообще осознаются и учитываются лишь в самых начатках: в ходе своего профессионализированного развития в Европе XIX века медицина технически избавила человека от страданий, профессионально их монополизировала и распоряжалась ими. Волей сторонних экспертов болезнь и страдание паушально делегировались институту медицины и, изолированные в «больницах», тем или иным способом «оперативно устранялись» врачами, причем больные во многом пребывали в неведении. Ныне ситуация изменилась: больных, которых систематически держали в неведении насчет болезни, оставляют наедине с болезнью и препоручают другим, опять-таки совершенно неготовьм к этому институтам – семье, профессиональной сфере, общественности и т. д. Стремительно распространяющийся СПИД – ярчайший тому пример. Болезнь как продукт диагностического «прогресса» в том числе тоже генерализируется. Все и каждый актуально или потенциально «болеют» – независимо от самочувствия. Соответственно, на свет Божий опять извлекают образ «активного пациента», требуют «рабочего альянса», при котором пациент становится «соцелителем» своей медицински установленной болезненной ситуации. Сколь непосильна для пациентов эта задача, показывает необычайно высокий уровень самоубийств. Например, у хронических почечных больных, чья жизнь зависит от регулярного гемодиализа, доля самоубийств на всех возрастных уровнях в 6 раз выше средних показателей по населению.
Вполне оправданно разгораются страсти вокруг уже вошедшей в медицинскую практику возможности оплодотворения in vitro и переноса эмбриона. Дискуссия ведется публично под вводящим в заблуждение лозунгом «младенец из пробирки». Суть этого «достижения технического прогресса» сводится к тому, «что в первые 48–72 часа после оплодотворения только-только начавший делиться человеческий эмбрион переносится из яйцевода женщины в лабораторные условия (т уйго = в пробирке). Соответствующие яйцеклетки извлекают из женского организма путем оперативного вмешательства (лапароскопии). Предварительно с помощью гормонов проводится стимуляция яичников, чтобы за один цикл созрело несколько яйцеклеток (гиперовуляция). Яйцеклетки оплодотворяются в растворе сперматозоидов и культивируются до стадии деления на 4–8 клеток. Затем, коль скоро развитие идет нормально, их переносят в матку».
Исходным мотивом оплодотворения in vitro является настойчивое желание бесплодных женщин иметь детей. На сегодняшний день большинство клиник предлагают эту методику исключительно женатым парам. С одной стороны, ввиду широкого распространения небрачных союзов это ограничение выглядит анахронизмом. С другой же – предоставление данной техники оплодотворения одиноким женщинам приведет к совершенно новым социальным отношениям, последствия которых совершенно непредсказуемы. Ведь речь здесь идет уже не о матерях, ставших одиночками в результате развода, а о сознательном материнстве без отца, которое исторически еще никогда не имело места. Оно предполагает донорское семя вне какого бы то ни было партнерства. В социальном смысле появятся дети без отцов, у них будет только один родитель – мать, а отец редуцируется до анонимного донора семени. В итоге это развитие выльется в сохранение биологического отцовства и упразднение отцовства социального (причем все опять-таки социальные проблемы генетического отцовства: происхождение, наследственность, притязания на алименты и наследство и т. д. – совершенно неясны).
Другая лавина проблем возникает, если задать простой вопрос о том, как обращаться с эмбрионами до пересадки: когда именно развитие эмбриона можно считать «явно нормальным и позволительно пересадить его в матку? С какого момента оплодотворенные яйцеклетки еще не суть нерожденное человеческое существо, а с какого – уже таковое? «Оплодотворение in vitro позволяет манипулировать человеческими эмбрионами вне организма женщины и тем самым открывает широкое поле для технических вмешательств, которые отчасти уже могут быть реализованы, а отчасти могут быть разработаны в дальнейшем». Так, по образцу уже существующих банков спермы подвергнутые глубокой заморозке эмбрионы могут храниться в соответствующих «эмбриональных банках» и продаваться (?). Доступность эмбрионов обеспечивает науку долгожданными «экспериментальными объектами» (нет слов!) для эмбриологических, иммунологических и фармакологических исследований. «Эмбрионы» – этим словом именуют первоначало человеческой жизни – можно размножить делением. Возникающие при этом генетически тождественные близнецы могут быть использованы для определения половой привязки или диагностики наследственных и прочих заболеваний. Здесь заложены истоки новых дисциплин и практик: генная диагностика и терапия на стадии зародыша[23]23
При возможных научных экспериментах развитие in vitro технически не обязательно ограничено стадией, на которой в нормальном случае происходит прикрепление эмбриона к матке. «Теоретически можно попытаться осуществить полное развитие эмбриона, чтобы действительно создать младенца из пробирки. Зародышевые клетки можно использовать для создания «химер», т. е. помесей с близнецами других видов. Химеры особенно удобны для экспериментального изучения эмбрионального развития. Наконец, можно помыслить «клонирование» человеческих зародышей, скажем, путем замены ядра зародышевой клетки ядром клетки другого человека. Опыты на мышах уже увенчались успехом. У людей таким образом можно было бы создавать генетически тождественное потомство или выращивать эмбриональную ткань, которая не несет опасности иммунного отторжения и может использоваться как материал для трансплантации органов донору клеточного ядра. Впрочем, пока что это чистая утопия». – (После экспериментов со знаменитой овечкой Долли клонирование перестало быть утопией, но осталось важнейшей нравственной и социальной проблемой. – Прим. перев.)
[Закрыть] – со всеми вытекающими отсюда важнейшими вопросами: что представляет собой социально и этически «желательный», «применимый», «здоровый» наследственный материал? Кто должен проводить – эти слова с трудом сходят с моего пера – «контроль качества эмбрионов», на каких правах и по каким критериям? Что произойдет с «забракованными эмбрионами», которые не удовлетворяют требованиям этого пренатального, «земного приемочного контроля»????
Многие этические вопросы, возникающие ввиду этих и других, здесь не названных, но точно так же упраздняющих теперешние культурные константы, медико-технических развитии[24]24
Например, совершенно новые проблемные и конфликтные ситуации возникают также в связи с пренатальной диагностикой и «внутриутробной хирургией», т. е. возможностью проводить операции на формирующемся ребенке в организме матери: (жизненные) интересы матери и ребенка разделяются, таким образам, еще до родов, на стадии их телесного единства. Возможности диагностико-хирургического вмешательства распространяют определения болезней на нерожденную жизнь. Риски вмешательства и его последствия – независимо от сознания и желания объектов вмешательства и врачей – создают противоречивые угрожающие ситуации между беременной матерью (или платной эрзац-матерью?) и растущим в ее утробе ребенком. Одновременно это пример того, как посредством медико-технических разработок можно распространить социальные различия за пределы телесного единства на телесно-душевные отношения.
[Закрыть], ныне уже замечены и компетентно обсуждаются. Здесь в центр внимания попадает совсем другой аспект, который теперешние дискуссии затрагивают лишь маргинально: структура действия (медицинского) «прогресса» как стандарта преобразования условий жизни общества, осуществляемого без одобрения. Как возможно, что все это происходит и что критическая общественность вынуждена лишь задним числом предъявлять обвинения профессиональному оптимизму малочисленной гильдии специалистов по человеческой генетике (которые сами по себе не имеют влияния и целиком сосредоточены на своих научных догадках), задавая им вопросы о последствиях, целях, опасностях и проч. этой совершаемой втихомолку социальной и культурной революции?
С одной стороны, здесь как будто бы с помощью того же самого (медико-технического «прогресса») создается нечто беспримерное. Даже если признать, что человеческие разработки в принципе содержат элемент самосозидания и самоизменения. Даже если считать, что история изначально предполагает и развивает способность изменять человеческую природу и воздействовать на нее, творить культуру, манипулировать окружающей средой и заменять принуждения естественной эволюции искусственно созданными условиями. Так или иначе, это не может затушевать тот факт, что здесь совершен прорыв в совершенно новые сферы. Речь о «прогрессе» предполагает наличие субъекта, которому все это в конечном счете пойдет на пользу. Теперь мышление и деятельность свободно полагают все осуществимым и направлены на противоположное – на объект, на овладение природой и возможное благодаря этому умножение общественного богатства. И если таким образом принципы технологической осуществимости и формируемости захватывают природные и культурные условия воспроизводства самих субъектов, то в мнимой непрерывности упраздняются основы модели прогресса: соблюдение интересов bourgerous отменяет условия существования citouen, который согласно распределению ролей в индустриальном обществе в конечном счете должен держать в руках демократические нити развития. Овладение природой в его генерализации исподволь становится в полном смысле слова техническим овладением субъектом – причем культурные масштабы просвещенной субъективности, которой это овладение изначально должно было служить, уже не существуют.
Это тайное установление эпохи человеческой истории, с другой стороны, происходит так, что здесь не нужно преодолевать никакие барьеры согласия. Меж тем как в ФРГ (и других странах) экспертные комиссии вырабатывают свое заключение о возможных и, в сущности, непредсказуемых последствиях данного шага (что означает также: до политических и законодательных выводов еще очень далеко), число зачатых in vitro детей быстро растет. В 1978–1982 годах зафиксировано чуть более 70 подобных случаев. К началу 1984 года – в одной только ФРГ – их было уже свыше 500, а количество детей составило 600. Клиники, осуществляющие оплодотворение т уйго (в частности, в Эрлангене, Киле, Любеке), располагают длинными списками ожидания. Стало быть, на основании своей активной структуры медицина обладает мандатом на свободу действий в целях осуществления и опробования своих «инноваций». Ведь общественную критику и дебаты о том, что исследователю разрешено, а что нет, всегда можно подкосить политикой «свершившихся фактов». Таким образом, безусловно, возникают и научно-этические вопросы. Однако, взятые отдельно, они лишь редуцируют проблему, напоминая попытку свести «власть монархии» к «морали королевского дома». Это заметно еще ярче, если сопоставить методы и диапазон изменяющих общество решений в политике и в медицинской субполитике.
То, что в сфере медицины при всей критике и скепсисе касательно прогресса до сих пор возможно и как бы вполне естественно, применительно к официальной политике означает скандал, ведь только так и можно назвать ситуацию, когда важнейшие эпохальные решения о будущем общества осуществляются помимо парламента и общественности, а дебаты об их последствиях ирреализуются практикой их осуществления. И здесь, пожалуй, отражается даже не несостоятельность морального качества науки. Согласно социальной структуре, в субполитике медицины нет парламента, нет исполнительных органов, где то или иное решение можно было бы заранее исследовать на предмет его последствий. Нет даже социального места решения, а стало быть, собственно, и фиксированного решения как такового. Вот в этом необходимо постоянно отдавать себе отчет: в насквозь бюрократизированных, развитых демократиях Запада все и вся просвечивается на предмет правомочности, компетентности, демократической легитимации, а в то же время возможно, минуя всякий бюрократический и демократический контроль, закрытым решением и под градом всеобщей критики и скепсиса упразднять во внепарламентской норме основы прежней жизни и прежнего образа жизни.
Таким путем одновременно возникает и сохраняется полнейший дисбаланс между внешними дискуссиями и контролем и внутренней определяющей властью медицинской практики. Общественное мнение и политика по своему положению всегда и неизбежно «униформированы», безнадежно ковыляют в хвосте разработок, мыслят категориями моральных и общественных последствий, которые чужды мышлению и деятельности медиков. Но самое главное, они с необходимостью рассуждают об ирреальном, еще непредсказуемом. Ведь в самом деле последствия техники внешнего оплодотворения можно эмпирически надежно изучить только после их реализации; до тех пор все остается чистой спекуляцией. Прямому осуществлению на живом субъекте, который соответствует критериям и категориям «медицинского прогресса», противопоставляются опасения и догадки относительно правовых и социальных последствий, спекулятивное содержание которых возрастает прямо пропорционально глубине вмешательства в теперешнее состояние культурной нормы. В переносе на политику это означает: обсуждение законов следует за их вступлением в силу, ибо только тогда и можно увидеть их последствия.
Взаимодействие эффективности и анонимности усиливает формирующую власть медицинской субполитики. В ее сфере возможно преступать границы с естественностью, изменяющий общество размах которой далеко превосходит радиус влияния политики, к тому же иначе пришлось бы идти к осуществлению через чистилище парламентских дебатов. В этом смысле клиника и парламент (или правительство), с одной стороны, вполне сравнимы, даже функционально эквивалентны в плане формирования и изменения социальных условий жизни, с другой же – совершенно несопоставимы, поскольку парламенту недоступны ни решения подобного масштаба, ни подобные возможности их непосредственной реализации. Меж тем как исследования и практика клиник последовательно уничтожают фундамент семьи, брака и партнерства, в парламенте и правительстве обсуждаются ориентированные на сдерживание и недопущение «ключевые вопросы» снижения расходов в системе здравоохранения, хотя и без того ясно, что благие концепции и их фактическое осуществление принадлежат двум разным мирам.
В субполитике медицины, напротив, заключены возможности бесконцептуального и беспланового нарушения границ по логике «прогресса». Оплодотворение in vitro поначалу тоже опробовали на животных. Конечно, можно спорить о том, насколько это дозволено. Однако важный барьер был безусловно преодолен с переносом этой методики на людей. Данный риск, являющийся вовсе не риском медицины (медика), а риском подрастающих поколений, нашим общим риском, мог и может сугубо имманентно присутствовать в сфере медицинской практики и в господствующих там (повсюду в мире) условиях и потребностях репутации и соперничества. Все это предстает в первую очередь как «этическая» проблема медицины и воспринимается и обсуждается общественным мнением в этих категориях лишь потому, что изначально существует социальная структура внедрения медицинских знаний в медицинскую практику «без спросу», закрытым решением, фактически исключая всякий внешний контроль и одобрение.
Это важнейшее различие между политикой и субполитикой можно сформулировать и так: демократически легитимированная политика благодаря инструментам своего влияния (право, деньги и информация, например просвещение потребителя) располагает косвенными средствами власти, чья «затяжная реализация» (имплементация) предоставляет дополнительные возможности контроля, коррекции и смягчения. В противоположность этому субполитике прогресса свойственна безимплементарная прямота. В ее рамках исполнительная и законодательная власть соединены в руках медицинской науки и практики (ср. в соотнесении с промышленностью: производственного менеджмента). Это модель недифференцированного полномочия на совершение юридически значимых действий, которая еще не знает разделения властей и при которой общественные цели открываются людям, ими затронутым, лишь задним числом – как побочные последствия в состоянии их реализации.
Данная структура чрезвычайно ярко заметна именно в медицинской профессии. Врачи обязаны этой формирующей властью опять-таки не своей особенной рациональности и не успехам в охране великой ценности «здоровья». Она есть, скорее, продукт и выражение удачной профессионализации (на рубеже XX века) и одновременно, будучи соответствующим пограничным случаем, представляет общий интерес в аспекте условий возникновения формирующей субполитической власти профессий (или в их «неполных» формах: специальностей). Главное, что одной профессиональной группе удается не только институционально гарантировать свое воздействие на исследования и таким образом открыть для себя источники инновации, не только существенно (со)определять нормы и содержания профессиональной подготовки и таким образом обеспечивать передачу профессиональных норм и стандартов следующему поколению. Важнейшее и весьма редко превозмогаемое препятствие одолевается лишь тогда, когда и практическое внедрение полученных знаний и сложившихся компетенции также происходит в профессионально контролируемых организациях. Лишь тогда профессиональная группа располагает организационной крышей, под которой объединены и замкнуты друг на друга исследования, обучение и практика. Лишь в такой ситуации можно без всякого одобрения и согласия развивать и утверждать формирующую власть, ориентированную на содержание. Парадигмой для этого «профессионального властного круга» является клиника. В ней исторически уникальным образом соединились, усиливая друг друга, все источники влияния профессиональной субполитики. Большинство других профессиональных групп и союзов либо не располагают таким инновационным источником, как исследования (социальные работники, медицинские сестры), либо принципиально отрезаны от внедрения результатов своих исследований (общественные науки), либо вынуждены применять эти последние вне своей профессии, в рамках сферы производства и контроля (технические и инженерные науки). Только медицина располагает в лице клиники организационным учреждением, где разработка и внедрение результатов исследований могут сугубо самостийно проводиться и совершенствоваться на пациенте под профессиональным руководством и согласно собственным масштабам и категориям при отграничении внешних вопросов и внешнего контроля.








