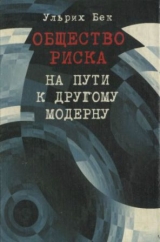
Текст книги "Общество риска. На пути к другому модерну"
Автор книги: Ульрих Бек
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 33 страниц)
Ульрих Бек
Общество риска. На пути к другому модерну
По поводу этой книги
Нельзя сказать, что наше столетие обойдено историческими катастрофами: две мировые войны, Аушвиц, Нагасаки, затем Харисбург и Бхопал, теперь вот Чернобыль. Это вынуждает к осторожности в выборе лексики и к обостренному восприятию особенностей исторического развития. Все страдания, все беды и насилия, которые люди причиняли друг другу, обрушивались до сих пор на «других» евреев, черных, женщин, политических иммигрантов, диссидентов, коммунистов и т. д. С одной стороны, существовали заграждения, лагеря, городские кварталы, военные блоки, с другой – собственные четыре стены – реальные или символические границы, за которыми могли укрыться те, кого, казалось бы, не коснулась беда. Все это есть по-прежнему – и всего этого после Чернобыля уже нет. Чернобыль – это конец «других», конец всех наших строго культивировавшихся возможностей дистанцирования друг от друга, ставший очевидным после радиоактивного заражения. От бедности можно защититься границами, от опасностей атомного века – нельзя. В этом их своеобразная культурная и политическая сила. Эта сила – в угрозе опасности, которая не признает охранных зон и дифференциации современного мира.
Эта не признающая границ динамика опасности не зависит от степени заражения и споров о его последствиях. Напротив, любые измерения говорят об опасности для всех. Признание опасности атомного заражения равносильно признанию безысходности для целых регионов, стран и частей света. Продолжение жизни и признание опасности вступают в противоречие друг с другом. Это роковое обстоятельство придает экзистенциальную остроту спорам о результатах измерений и предельных величинах, о краткосрочных и долгосрочных последствиях. Надо просто задать себе вопрос: что могло бы измениться, если бы дело дошло до признания официальными инстанциями крайне опасного уровня заражения воздуха, воды, животных и людей? Что тогда – официальная остановка или ограничение жизненных функций – дыхания, еды, питья? Что произойдет с населением целой части света, которое в разной степени (в зависимости от «фатальных» переменных величин – ветра и погоды, расстояния от места катастрофы и т. д.) окажется в зоне необратимого заражения? Можно ли держать в карантине целые страны и группы стран? Не начнется ли в них хаотическое брожение?
Или же все в конечном счете произойдет так, как это было после Чернобыля? Уже эти вопросы проясняют характер объективной угрозы, соединяющей в себе диагноз с пониманием неотвратимости происходящего.
Чтобы снять ограничения, обусловленные происхождением, и предоставить человеку возможность самому принимать решения и своим трудом обеспечить себе место в общественной структуре, в развитом модерне возникает новая «аскриптивная» разновидность чреватой грозными опасностями судьбы, от которой не уйти при всем старании. Она больше напоминает судьбу сословий в средневековье, чем классовые ситуации XIX века. Во всяком случае, она уже не признает сословного неравенства (как не признает пограничных групп, различий между городом и деревней, национальной или этнической принадлежности и т. д.). В отличие от сословных и классовых ситуаций она складывается не под знаком бедности, а под знаком страха и является не «традиционным реликтом», а продуктом модерна на высшей ступени его развития. Атомные электростанции – вершинные достижения производительных и творческих сил человека – после Чернобыля тоже стали знаками угрожающего нам современного средневековья. Они несут в себе угрозы, которые превращают доведенный в современном мире до крайности индивидуализм в его экстремальную противоположность.
Еще живы рефлексы другого столетия: как мне оберечь себя и своих близких? Еще пользуются высоким спросом советы по охране частной жизни, которой больше не существует. Но все уже живут в состоянии антропологического шока от пережитой грозной зависимости цивилизационных форм жизни от «природы» – зависимости, которая аннулировала все наши понятия о «гражданской зрелости», «собственной жизни», национальности, пространстве и времени. Далеко отсюда, в западной части Советского Союза, но отныне в непосредственной близости от нас, происходит катастрофа – не преднамеренная, не агрессивная, скорее, событие, которого можно было избежать, но в то же время и нормальное в своей исключительности, более того, по-человечески понятное. Причина катастрофы не в ошибке людей, а в системах, которые превращают вполне объяснимую человеческую ошибку в непостижимую разрушительную силу. В оценке опасности все оказываются заложниками измерительных приборов, теорий и прежде всего незнания – включая незнание экспертов, которые совсем недавно провозглашали, в соответствии с теорией вероятности, безопасность реакторов на протяжении десяти тысяч лет, а сегодня с захватывающей дух новой уверенностью твердят об отсутствии серьезной опасности.
При всем том бросается в глаза своеобразный состав смеси природы и общества, благодаря которой опасность преодолевает все, что оказывает ей сопротивление. Это в первую очередь «атомное облако» – та мощная цивилизационная сила, превратившаяся в силу природную, в которой парадоксальным и сверхмощным образом соединились история и погода. Весь опутанный электронными сетями мир завороженно следит за этим облаком. «Последняя надежда» на благоприятное направление ветра (бедные шведы!) лучше всяких слов говорит о масштабах беспомощности высокоцивилизованного мира, придумавшего колючую проволоку и стены, армию и полицию, но не сумевшего защитить свои границы. «Неблагоприятная» перемена ветра, да еще – о горе! – дождь – и становится очевидной тщетность попыток защитить общество от зараженной природы, ограничить атомную опасность «другой», «чужой» окружающей средой.
Этот опыт, о который в мгновение ока разбился наш прежний образ жизни, отражает ситуацию, когда мировая индустриальная система отдана во власть индустриально интегрированной и зараженной «природы». Противопоставление природы и общества – конструкт XIX века, служивший двоякой цели – покорению природы у ее игнорированию. К концу XX века природа оказалась покоренной и до предела использованной, превратившейся из внешнего феномена во внутренний, из существовавшего до нас в воспроизведенный. В ходе технико-индустриальной переделки природы и ее широкого подключения к рыночным отношениям она оказалась интегрированной в индустриальную систему. В то же время она стала неизбежной предпосылкой образа жизни в индустриальной системе. Зависимость от потребления и рынка означает новую форму зависимости от «природы», и эта имманентная «природная» зависимость от рыночной системы становится в этой системе законом жизни индустриальной цивилизации.
Борясь с угрозами внешней природы, мы научились строить хижины и накапливать знания. Против индустриальных угроз вовлеченной в индустриальную систему вторичной природы мы практически беззащитны. Угрозы превращаются в безбилетных пассажиров нормального потребления. Они путешествуют с ветром и по воде, скрываются везде и всюду и вместе с жизненно необходимыми вещами – воздухом, пищей, одеждой, домашней обстановкой – минуют обычно строго охраняемые защитные зоны модерна. Там, где после катастрофы защитные и предохранительные меры практически исключаются, остается только одна (кажущаяся) активность – отрицание опасности, успокаивание, которое порождает страх и вместе с возрастанием опасности, обрекающей людей на пассивность, становится все агрессивнее. Ввиду невозможности вообразить и воспринять опасность органами чувств эта остаточная активность перед лицом реально существующего остаточного риска обретает своих чрезвычайно деятельных сообщников.
Оборотной стороной обобществленной природы является обобществление ее разрушения, превращение этого разрушения в социальные, экономические и политические системы угроз высокоиндустриализованного мирового сообщества. В глобальности заражения и опутавших весь мир цепей распространения продуктов питания и товаров угроза жизни в индустриальной культуре переживает опасные общественные метаморфозы: повседневные нормы жизни ставятся с ног на голову. Рушатся рынки. В условиях изобилия царит дефицит. Возникают массовые претензии. Правовые системы не справляются с фактами. Самые животрепещущие вопросы наталкиваются на недоуменное пожимание плечами. Медицинское обслуживание оказывается несостоятельным. Рушатся научные системы рационализации. Шатаются правительства. Избиратели отказывают им в доверии. И все это при том, что грозящая людям опасность не имеет ничего общего с их действиями, наносимый им ущерб – с их трудом, а окружающая действительность в нашем восприятии остается неизменной. Это означает конец XIX века, конец классического индустриального общества с его представлениями о национально-государственном суверенитете, автоматизме прогресса, делении на классы, принципе успеха, о природе, реальной действительности, научном познании и т. д.
В значительной мере именно поэтому разговоры об (индустриальном) обществе риска, еще год назад сталкивавшиеся с упорным внутренним и внешним сопротивлением, получили горький привкус истины. Многое из того, что мне приходилось доказывать в своих работах с помощью аргументов, – невозможность воспринимать опасность органами чувств, ее зависимость от науки, ее наднациональность, «экологическое отчуждение», превращение нормы в абсурд и т. д. – после Чернобыля читается как банальное описание реальных событий.
Ах, если бы все это так и осталось заклинанием будущего, приходу которого следует помешать!
Бамберг, май 1986
Ульрих Бек
Предисловие
Тема этой книги – невзрачная приставка «пост». Она – ключевое слово нашего времени. Все теперь – «пост». К «посотиндустриализму» мы уже успели привыкнуть. С ним мы связываем определенное содержание. С «постмодернизмом» все уже начинает расплываться. В понятийных сумерках постпросвещения все кошки кажутся серыми. «Пост» – кодовое слово для выражения растерянности, запутавшейся в модных веяниях. Оно указывает на нечто такое сверх привычного, чего оно не может назвать, и пребывает в содержании, которое оно называет и отрицает, оставаясь в плену знакомых явлений. Прошлое плюс «пост» – вот основной рецепт, который мы в своей многословной и озадаченной непонятливости противопоставляем действительности, распадающейся на наших глазах.
Эта книга представляет собой попытку выяснить, что означает словечко «пост» (синонимы «после», «поздний», «потусторонний»). Она движима желанием осмыслить то содержание, которое историческое развитие модерна – особенно в Федеративной Республике Германии – вкладывало в это словечко в прошедшие два-три десятилетия. Этого можно достичь только в упорной борьбе со старыми, благодаря приставке «пост» выходящими за свои пределы теориями и привычным образом мыслей. Поскольку эти теории и привычки гнездятся не только в других, но и во мне самом, в книге слышится иногда шум борьбы, громкость которого зависит еще и от того, что я вынужден опровергать свои собственные возражения. Поэтому кое-что может показаться излишне резким, чересчур ироничным или опрометчивым. Однако тяжеловесность старого мышления не одолеть оружием привычной академической взвешенности.
Мои рассуждения не являются репрезентативными, как того требуют правила академического исследования социальных проблем. Они преследуют другую цель: вопреки еще господствующему прошлому показать уже наметившееся будущее. Изложены они с точки зрения наблюдателя общественно-исторической сцены начала XIX столетия, который за фасадом уходящей аграрно-феодальной эпохи высматривает уже повсюду выступающие контуры незнакомого пока индустриального века. В эпохи структурных перемен репрезентативность заключает союз с прошлым и мешает увидеть вершины будущего, которые со всех сторон вдаются в горизонт настоящего. В этом отношении книга содержит элементы эмпирически ориентированной, устремленной в будущее общественной теории – без какого бы то ни было методологического обеспечения.
В основе книги лежит предположение, что мы являемся свидетелями – субъектом и объектом – разлома внутри модерна, отделяющегося от контуров классического индустриального общества и обретающего новые очертания – очертания (индустриального) «общества риска». При этом необходимо сбалансировать противоречия между непрерывностью развития модерна и разрывами в этом развитии – противоречия, в которых отражается антагонизм между модерном и индустриальным обществом, между индустриальным обществом и обществом риска. В своей книге я намерен показать, что эти эпохальные различия порождаются сегодня самой действительностью. Чтобы знать, как дифференцировать их в каждом отдельном случае, необходимо рассмотреть разные варианты общественного развития. Ясность в этом вопросе будет достигнута только тогда, когда четче обозначатся контуры будущего.
Теоретическому сидению меж двух стульев соответствует такая же практика. Решительный отпор получат как те, кто в борьбе с напором «иррационального духа времени» придерживается предпосылок просветительского XIX века, так и те, кто сегодня готов вместе с накопившимися аномалиями спустить в реку истории и весь проект модерна.
К панораме страха, развернувшейся во всех уголках рынка мнений, страха перед угрожающей самой себе цивилизацией добавить нечего; как и к проявлениям Новой беспомощности, которая утратила дихотомию «цельного» даже в своих противоречиях мира индустриализма. В книге, предлагаемой вниманию читателя, речь идет о втором, следующем за этим шаге. Это состояние она и делает предметом рассмотрения. В ней ставится вопрос о том, каким образом в рамках социологически информированного и инспирированного мышления можно понять и осмыслить эту неуверенность духа времени, отрицать которую в плане критики идеологии было бы цинично, а поддаваться ей без сопротивления – опасно. Центральную теоретическую идею, выработанную с этой целью, легче всего объяснить с помощью исторической аналогии: как в XIX веке модернизация привела к распаду закосневшее в сословных устоях аграрное общество, так и теперь она размывает контуры индустриального общества, и последовательное развитие модерна порождает новые общественные конфигурации.
Границы этой аналогии указывают и на особенности перспективы. В XIX веке модернизация проходила на фоне ее противоположности: традиционного унаследованного мира и природы, которую нужно было познать и покорить. Сегодня, на рубеже XX–XXI веков, модернизация свою противоположность поглотила, уничтожила и принялась в своих индустриально-общественных предпосылках и функциональных принципах уничтожать самое себя. Модернизация в соответствии с опытом (современного мира вытесняется проблемными ситуациями модернизации относительно самой себя. Если в XIX веке утрачивали привлекательность сословные привилегии и религиозные представления о мире, то теперь теряют свое значение научно-техническое понимание классического индустриального общества, образ жизни и формы труда в семье и профессии, образцы поведения мужчин и женщин и т. д. Модернизация в рамках индустриального общества заменяется модернизацией предпосылок индустриального общества, которая не была предусмотрена ни одним используемым и доныне теоретическим пособием XIX века о правилах политического поведения. Именно этот наметившийся антагонизм между модерном и индустриальным обществом (во всех его вариантах) размывает сегодня ту систему координат, в которой мы привыкли осмыслять модерн в категориях индустриального общества.
Нас еще долго будет занимать это различие между традиционной модернизацией и модернизацией индустриального общества, или, говоря по-другому, между простой и рефлексивной модернизацией. Оно будет намечено в ходе изучения конкретных сфер деятельности. Даже если еще абсолютно неясно, какие «неподвижные звезды» индустриально-общественной мысли закатятся в процессе только-только начавшейся рационализации второй ступени, уже сегодня можно обоснованно предположить, что это коснется самых прочных «законов», таких, как функциональная дифференциация или массовое производство.
Двумя последствиями примечательна необычность этой перспективы. Она утверждает то, что до сегодняшнего дня казалось немыслимым, а именно: что индустриальное общество в своем победном шествии, т. е. незаметными путями нормы, через черный ход побочных последствий покидает сцену мировой истории – и совсем не так, как предусмотрено в иллюстрированных учебниках по теории общественного развития, а без политического треска (революций, демократических выборов). Она утверждает далее, что «антимодернистский» сценарий, волнующий сейчас мировую общественность, – критика науки, техники, прогресса, новые социальные движения – отнюдь не вступает в противоречие с модерном, а является выражением его последовательного развития за пределы индустриального общества.
Общее содержание модерна вступает в противоречие с омертвелостями и половинчатостями в самой концепции индустриального общества. Подходы к этому воззрению блокируются нерушимым, до сих пор не осознанным мифом, в котором в значительной степени застряла общественная мысль XIX века и который отбрасывает свою тень еще и на последнюю треть XX века, а именно мифом о том, что развитое индустриальное общество с его схематизмом работы и жизни, с его секторами производства, пониманием роли науки и техники, с его формами демократии является обществом насквозь современным, вершиной модерна, возвышаться над которой ему даже не приходит в голову. Этот миф находит выражение во многих формах. Одной из самых действенных считается нелепая шутка о конце исторического общественного развития. Эта шутка в своих оптимистических и пессимистических вариантах ослепляет мышление нашей эпохи, в которой установившаяся система обновления благодаря освободившейся в ней динамике начинает ревизовать самое себя. Мы пока даже не способны представить себе возможностей изменения общественного облика современного мира, так как теоретики индустриально-общественного капитализма повернули в сторону априорности исторический образ модерна, который во многих отношениях еще находится в зависимости от своей противоположности в XIX веке. В характерном для Канта вопросе о возможностях современных обществ исторически обусловленные контуры, конфликтные линии и функциональные принципы индустриального капитализма вообще подстраивались к потребностям модерна. Еще одно доказательство этого – курьезность, с которой общественные науки ничтоже сумняшеся утверждают, что в индустриальном обществе изменяется все: семья, профессиональная подготовка, социальные классы, наемный труд, наука, – и в то же время изменения эти не затрагивают ничего существенного: семью, профессиональную подготовку, социальные классы, наемный труд, науку.
Настоятельнее, чем когда-либо прежде, мы нуждаемся в понятийном аппарате, который – без ложно понятого обращения к вечно старому новому, исполненный печали прощания и не утративший хорошего отношения к нетленным сокровищницам традиции – позволит заново осмыслить надвигающиеся на нас новые явления и научиться жить и работать с ними. Идти по следу новых понятий, которые уже сегодня возникают в процессе распада старых, – нелегкое занятие. Для одних это пахнет «изменением системы» и подлежит компетенции органов по охране конституции. Другие замкнулись в своих убеждениях и во имя выработанной вопреки внутреннему чувству «верности линии» (а это может означать многое – марксизм, феминизм, квантитативное мышление, специализацию) начинают нападать на все, что источает запах уклонизма.
Однако или именно поэтому мир не гибнет, во всяком случае, он не погибнет из-за того, что сегодня рушится мир XIX века. К тому же это еще и преувеличение. Особенно стабильным общественное устройство XIX века не было, как известно, никогда. Оно уже не раз погибало – в мыслях людей. Там его погребли еще до того, как оно появилось на свет. Мы видим, что видения Ницше или поставленные на сцене драмы ставшего ныне «классическим» (т. е. старым) литературного модерна находят свое (более или менее) репрезентативное выражение на кухне или в спальне. Происходит, стало быть, то, о чем давно уже помышляли. И происходит – если прикинуть на глазок – с опозданием от полстолетия до целого столетия. Происходит уже давно. И будет происходить впредь. И пока еще не происходит ничего.
Мы понимаем также, если отвлечься от литературных вариантов распада и гибели, что и после всего этого нужно продолжать жить. Мы, так сказать, переживаем то, что происходит, когда в драме Ибсена опускается занавес. Мы переживаем не отображенную на сцене действительность послебуржуазной эпохи. Или, применительно к цивилизационньм угрозам, мы являемся наследниками обретшей реальные очертания критики культуры, которая уже не может удовлетвориться критическим диагнозом культурного развития, так как он во все времена был, скорее, предостерегающим пессимистическим прогнозом на будущее. Не может целая эпоха провалиться в пространство по ту сторону существовавших до сих пор категорий, не заметив, что это пространство – всего лишь протянувшиеся за собственные пределы притязания прошлого, которое утратило власть над настоящим и будущим.
В последующих главах предпринимается попытка в полемике с тенденциями развития основных сфер общественной практики подхватить ход мысли и распространить ее на понятийность индустриального общества (во всех его вариантах). Центральная идея рефлексивной модернизации индустриального общества развивается в двух направлениях. Сначала на примере производства богатств и производства рисков рассматривается противоречивое единство непрерывности и прерывности. Вывод: в то время как в индустриальном обществе «логика» производства богатства доминирует над «логикой» производства риска, в обществе риска это соотношение меняется на противоположное (часть первая). В рефлексивности модернизационных процессов производительные силы утратили свою невинность. Выгода от технико-экономического «прогресса» все больше оттесняется на задний план производством рисков. Узаконить их можно только на ранней стадии – в качестве «скрытых побочных действий». Вместе с их универсализацией, публичной критикой и (антинаучным исследованием они сбрасывают покров латентности и получают новое и центральное значение при обсуждении социальных и политических конфликтов.
Эта «логика» производства и распределения рисков рассматривается в сравнении с «логикой» распределения богатства (до сих пор определявшей развитие общественно-политической мысли). В центре стоят модернизационные риски и их последствия, которые проявляются в непоправимом ущербе для жизни растений, животных и людей. Их нельзя уже, как это было с производственными и профессиональными рисками в XIX веке и в первой половине XX века, локализовать, свести к специфическим группам населения; в них присутствует тенденция к глобализации, которая охватывает производство и воспроизводство, пересекает национально-государственные границы и в этом смысле порождает наднациональные и неклассовые глобальные угрозы с их своеобычной социальной и политической динамикой (главы I и II).
Однако эти социальные угрозы и их культурный и политический потенциал – только одна сторона общественного риска. Другая сторона попадает в поле зрения, если в центр рассмотрения поставить имманентно присущие индустриальному обществу противоречия между модерном и его противоположностью. С одной стороны, вчера, сегодня и на все времена контуры индустриального общества набрасывались и набрасываются как контуры общества больших групп населения – классов или социальных слоев. С другой, классы по-прежнему зависят от значимости социальных классовых культур и традиций, которые в ходе модернизации послевоенной ФРГ, общества всеобщего благоденствия, были как раз поколеблены в своих унаследованных ценностях (глава III).
С одной стороны, с развитием индустриального общества совместная жизнь людей согласовывалась с нормами и стандартами небольшой семьи. С другой, небольшая семья строится на «сословном» положении мужчины и женщины, которое в непрерывном процессе модернизации (приобщение женщин к получению образования и к рынку труда, растущее количество разводов и т. д.) становится неустойчивым. Но тем самым приводится в движение соотношение между производством и воспроизводством, как и все, что связано между собой в индустриальной «традиции небольшой семьи»: брак, материнство и отцовство, сексуальность, любовь и т. д. (глава IV).
С одной стороны, индустриальное общество мыслится в категориях общества, ориентированного на труд (ради заработка). С другой, актуальные мероприятия по рационализации подрывают сами основы такого порядка: скользящие графики рабочего времени и смена рабочих мест стирают границы между работой и не-работой. Микроэлектроника позволяет заново, поверх производственных секторов, связать в единую сеть предприятия, филиалы и потребителей. Тем самым модернизация как бы устраняет прежние правовые и социальные предпосылки системы занятости: массовая безработица интегрируется через новые формы «многообразной неполной занятости» в систему занятости – со всеми вытекающими отсюда рисками и шансами (глава VI).
С одной стороны, в индустриальном обществе обретает официальный характер наука, а вместе с ней и методологические сомнения. С другой, эти сомнения (вначале) ограничиваются чисто внешней стороной дела, объектами исследования, в то время как основы и следствия научной работы отгораживаются от бушующего внутри скептицизма. Это деление сомнения так же необходимо для целей профессионализации, как оно неустойчиво ввиду неделимости подозрения в ошибочности прогноза; в своей непрерывности научно-техническое развитие претерпевает разрыв между соотношением внешнего и внутреннего. Сомнение распространяется на основы и риски научной работы, а в результате обращение к науке одновременно обобщается и демистифицируется (глава VII).
С одной стороны, вместе с развитием индустриального общества утверждаются притязания и формы парламентской демократии. С другой, радиус значимости этих принципов раздваивается. Субполитический процесс обновления «прогресса» остается в компетенции экономики, науки и технологии, для которых самоочевидные в демократической системе вещи аннулированы. В непрерывности модернизационных процессов это становится проблематичным там, где – перед лицом накопивших опасный потенциал производительных сил – субполитика перехватывает у политики ведущую роль в формировании общества (глава VIII).
Иными словами: в проект индустриального общества на разных уровнях – например, в схему «классов», «небольшой семьи», «профессиональной работы», в понятия «науки», «прогресса», «демократии» – встроены элементы индустриально-имманентного традиционализма, основы которых становятся хрупкими и аннулируются в рефлективности модернизаций. Как ни странно это звучит, но обусловленные этим эпохальные волнения суть результаты успеха модернизаций, которые теперь протекают не в русле и категориях индустриального общества, а вопреки им. Мы переживаем изменение основ изменения. Осмыслить это можно при условии, что образ индустриального общества будет подвергнут пересмотру. Оно по своему замыслу есть лонесовременное общество, при этом встроенный в него контрсовременный мир не есть нечто старое, он – конструкт и продукт индустриального общества. Структура индустриального общества основана на противоречии между универсальным содержанием модерна и функциональным устройством его институтов, в которые это содержание может быть транспонировано только партикулярно-селективным способом. Но это означает, что индустриальное общество в процессе развития само делается неустойчивым. Непрерывность становится «причиной» разрыва. Люди освобождаются от форм жизни и привычек индустриально-общественной эпохи модерна – точно так же как в эпоху Реформации они «вырывались» из объятий церкви в общество. Вызванные этим потрясения образуют другую сторону общества риска. Система координат, в которой закрепляется жизнь и мышление индустриального модерна – оси «семья и профессия», вера в науку и прогресс, – расшатывается, возникает новая двусмысленная связь между шансами и рисками, т. е. вырисовываются контуры общества риска. Шансы? Принципы модерна в обществе риска предъявляют иск индустриально-общественному развитию.
Эта книга в разных вариациях отражает процесс самопознания и самообучения ее автора. В конце каждой главы я умнее, чем в начале. Велико было искушение переосмыслить и переписать эту книгу заново, начав с конца. Этому помешала не только нехватка времени. Задуманное вновь продемонстрировало бы лишь промежуточную стадию. Это еще раз подчеркивает подвижный характер аргументации и ни в коем случае не должно быть понято как бланковый чек для встречных претензий. Для читателя выгода в том, что он может обдумывать главы в другой последовательности или каждую в отдельности и воспринимать – их как сознательный призыв к сотрудничеству, полемике и дальнейшей работе над темой.
Практически все близкие мне люди в то или иное время были активными разработчиками и комментаторами этого текста. Кое-кто делал это без особой радости, но всегда предлагал множество новых вариантов. Все вошло в книгу. Ни в тексте, ни в этом предисловии я не могу в полной мере воздать должное сотрудничеству по большей части молодых ученых из моего научного окружения. Для меня оно стало огромным ободряющим переживанием. Некоторые части этой книги представляют собой почти дословное изложение частных бесед и разговоров в течение совместной жизни. Не претендуя на полноту, выражаю благодарность Элизабет Бек-Гернсхайм за нашу неповседневность в повседневной жизни, за вместе пережитые идеи и за несокрушимую непочтительность; Марии Реррих за многие стимулирующие идеи, беседы, обработку сложных материалов; Ренате Шютц за необыкновенно заразительную философскую любознательность и за воодушевляющие видения; Вольфгангу Бонсуза полезные обсуждения почти всех частей книги; Петеру Бергеру за предоставленное в мое распоряжение письменное выражение его полезного для меня недовольства книгой; Кристофу Лауза помощь в осмыслении и уточнении не очень удачных аргументов; Герману Штумпфу и Петеру Зоппу за ценные советы и активную помощь в нахождении необходимой литературы и материалов; Ангелике Шахт и Герлинде Мюллер на надежность и усердие при перепечатке текста.








