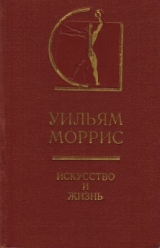
Текст книги "Искусство и жизнь"
Автор книги: Уильям Моррис
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 37 страниц)
Эта перемена завершилась или почти завершилась к середине XVIII века, и мне не кажется необходимым прослеживать постепенный упадок искусств, начиная с XV века вплоть до этого времени. Достаточно сказать, что очевидный упадок искусств шел неуклонно. Лишь там, где люди остались вне могучего потока цивилизации, где жизнь сохраняла первозданность, а производство продолжало оставаться домашним, в произведениях искусства сохранялись еще кое-какие следы пережитого человеком наслаждения. Повсюду же безраздельно царило доктринерство. Лишь немногие из живописцев, которые обычно словно бы сквозь раскрытые ими окна показывали жизнь и подвиги святых и героев, даже более – самые небеса и град божий, пребывающий над любезным их сердцу земным градом, сумели не превратиться в претенциозных пачкунов, в светских льстецов высокородных некрасивых дам и глупых высокомерных аристократов. И чего же можно было ожидать для архитектурных искусств от какой-нибудь группы машиноподобных людей, которые, правда, объединялись, но лишь ради более быстрых темпов и точности процессов производства? Чего же можно было ожидать для декоративного искусства от его создателей, в лучшем случае педантов, презиравших человеческую жизнь, а в худшем – механически работающих поденщиков, не многим отличавшихся от несчастных тружеников? Вопреки всяким расчетам, в конце концов была создана всего лишь масса нелепых побрякушек, дорогостоящей роскоши и показной пышности, получивших с той поры в высшей степени заслуженное унизительное наименование «декора».
Завершается ли этим повесть об упадке искусств? Нет, предстоит еще и другой акт той же драмы, которому суждено стать либо хорошим, либо дурным в зависимости от того, готовы ли вы воспринять его как финал или же вам хочется возмутиться, то есть обрести надежду на что-нибудь лучшее. Я рассказывал о том, каким образом рабочий превратился в машину. Мне остается рассказать, как он был сброшен даже с этого шаткого возвышения, на котором он все же сохранял чувство собственного достоинства.
В конце XVIII века Англия была страной, занятой промышленным производством наравне с другими странами. Промышленность все еще занимала второстепенное место в сравнении с обыкновенной сельской жизнью и была неотделима от неё. В течение полувека всё это изменилось. Англия стала подлинно промышленной страной – мастерской мира, с гордостью называемой так ее патриотически настроенными сыновьями. Это удивительная и в высшей степени важная революция была порождена машинами{13}. Производство, обусловленное успехами и переменами в мире, о которых было бы слишком долго говорить, даже если б я ограничился сжатым рассказом, было навязано населению нашей страны. Вы вправе воспринять эту огромную машинную промышленность, с одной стороны просто как продукт полного развития производства ради прибыли, а не ради пропитания, что началось еще во времена Томаса Мора, а с другой стороны – просто как революционное последствие простого разделения труда. В ходе личных моих занятий я по необходимости достаточно углубился в изучение системы мастерских XVIII века, чтобы отчетливо увидеть, сколь серьезно отличается она от фабричной системы нашего времени, с которой, однако, обычно смешивают систему мастерских. Поэтому я с неприкрытым сочувствием вникал в объяснение смысла и тенденций этой перемены, содержащееся в произведениях великого человека{14}, которого, думается, я не должен называть в этом собрании, но который помог мне понять достаточно сложные проблемы (их тоже не следует здесь упоминать), касающиеся сущности труда и его продукции. Но одно по крайней мере я должен сказать. Если в условиях разделения труда XVIII века люди вынуждены были неизменно трудиться над какой-нибудь пустяковой деталью примитивным механическим способом, который они столь же примитивно понимали, то при фабричной системе и при почти автоматическом машинном оборудовании, характерных для нашей теперешней жизни, рабочий довольно часто может менять свою работу, может переводиться с одной машины на другую, едва ли даже зная, что он вообще производит. Другими словами, в условиях XVIII века рабочий был низведен до положения машины, при нынешней же системе он превратился в раба машины. Именно машина под страхом голодной смерти приказывает ему делать то или иное. Да, и это отнюдь не метафора: если машине угодно, если ей по нутру спешка, то она может заставить рабочего пройти тридцать миль в день вместо двадцати или же, если он откажется, послать его в работный дом.
Если вы спросите меня, что хуже, быть ли машиноподобным рабочим XVIII века или же рабом машины XIX, то я вынужден ответить, что второе хуже. Если бы я привел свои доводы, то немногие из вас согласились бы со мною, и я не уверен, что вы разрешили бы мне закончить мое рассуждение. Во всяком случае, эти доводы довольно сложны. Но на вопрос, у какой из этих двух групп рабочих продукция будет лучше, ответить не так уж сложно. Машиноподобный рабочий, даже выполняя свое примитивное задание, должен быть весьма искусен, – рабу же машины нужно лишь очень мало мастерства, практически его легко замещают женщины и дети, и если при такой работе требуется какая-нибудь квалификация, то лишь для надзора за трудом последних. Короче говоря, нынешняя система фабрик и властвующих машин обнаруживает тенденцию к уничтожению квалифицированного труда вообще.
В этом потрясающее различие между ремесленником средних веков и нынешним рабочим, и его-то я совершенно серьезно приглашаю вас обдумать. Средневековый ремесленник приступает к работе, когда находит нужным. Работает он у себя дома, возможно, он сам делает свои инструменты, орудия или простой механизм еще до того, как принимается за пряжу, ком глины и т. д. Он сам решает, какой орнамент подходит для законченной им работы. Своим умом, своей рукой он набрасывает эскиз и воплощает его в жизнь. Руководит и помогает ему традиция, иными словами – ум и мысли всех ремесленников предшествующих поколений, воплотившиеся в навыках и обычаях его ремесла. Мы не должны забывать также, что если ремесленник живет даже в городе, то дом его находится невдалеке от полей, от прекрасной природы. Время от времени он работает в поле. Не раз и не дважды в жизни приходится ему брать свой лук или снимать со стены свою потемневшую алебарду и на полях сражений лицом к лицу встречать неведомую судьбу, а еще чаще участвует он в ссорах, затеваемых другими, а иногда и сам затевает ссору, не всегда, впрочем, оканчивающуюся для него благополучно.
А что же труженик, пришедший ему на смену, – как он работает и как живет? Кое-что мы все знаем об этом. Он должен быть у фабричных ворот ко времени, когда прозвучит гудок. В противном случае его оштрафуют или отошлют вон, «на подножный корм». Мало того, не всегда будут открыты для него и фабричные ворота. Если только хозяин, подчиняющийся рынку (о котором сам он знает мало, а его рабочий вообще ничего не знает), не выделит ему места, где он мог бы трудиться, и станок, за которым он мог бы работать, то он должен вернуться на улицу и, подобно тысячам людей в нынешней Англии, слоняться без дела. Но представьте его, счастливо стоящего у машины, при которой он должен изо дня в день находиться неотлучно, – много ли мыслей может он посвящать чему-либо помимо работы? Мысли его не пойдут дальше того, чтобы узнать, что же, собственно, производит его машина (а вовсе не сам он). Какое ему дело до эскиза и орнамента? Он может обслуживать машину, выпускающую более или менее красивые предметы или же оказаться соучастником (весьма, впрочем, незаметным) выпуска кричащих изделий обмана и мошенничества. За то и другое он получит одинаковую плату, но ни то, ни другое ни в малейшей степени не подчиняется его контролю. Религия, мораль, филантропия и свобода XIX века, взятые вместе, неспособны избавить его от этого позора. Нужно ли говорить, где и в каких условиях он живет? Он помещается в собачьей конуре со спертым воздухом, отделенной такими же протянувшимися на целые мили конурами от прекрасных полей той страны, которую он точно в насмешку называет «своей». Иногда в праздники этот бедняк погружается в поезд, чтобы взглянуть на эти поля и вечером снова вернуться в тот же мрачный ад. Бедняга!
Скажите, можно ли вырвать такого человека из привычной для него жизни и предложить ему подражать работе свободных цеховых ремесленников XIV века? Можно ли надеяться, что его работа окажется близкой по качеству к той работе?
Чтобы не ослаблять своих доводов преувеличения, я допущу, что хотя громадное количество так называемых художественных изделий выпускается рабом машины под давлением того или иного безрассудного рынка, – ремесла, связанные со строительством, не претерпели в промышленной революции столь значительных изменений. Это ремёсла как бы иллюстрируют моё утверждение, что характерная для XVIII века система разделения труда еще существует и действует бок о бок с фабричной системой и машинным производством. Все же и в этих ремеслах упадок теперь очевиден, тогда как в XVIII веке среди строителей удерживались остатки традиций, унаследованных от времен ныне утраченного мастерства. Теперь в строительстве, начиная от архитектора до подносчика, глубоко укоренилось разделение труда, и качество мастерства, такое, далекое от обычного для цехового рабочего стандарта, в наше время упало значительно ниже того, который требовался от угнетенного разделением труда рабочего XVIII века, и нисколько не выше того, которого можно ждать от неквалифицированного рабочего крупной индустрии. Короче говоря, этот рабочий крупной машинной промышленности – типичный представитель труда наших дней.
Готовые смеяться над странной мыслью, что строитель греческих зданий мог бы возвести здание готическое или же строитель готических сооружений – здание греческого стиля, мы не видим ничего несообразного в том, что строитель викторианской эпохи{15} сооружает готическое здание.
У нас есть немало образцов архитектуры эпохи Возрождения, когда существовала теория, что рабочие, послушные педантичным и ретроспективным устремлениям времени, способны подражать классическим античным сооружениям. В действительности же, подражая, они упрямо воспроизводили характерные черты собственной эпохи и усваивали все их достоинства и, возможно (что любопытно отметить), тогда же в их сооружениях запечатлелся и один из самых печальных признаков слабости современного искусства. Достичь воскрешения мертвых столетий нам помогло то самое знание истории, о котором я говорил и которого недоставало ученым педантам Ренессанса и XVIII столетия. Но, с моей точки зрения, весьма странно использовать знание истории и возможность проникнуть в ее глубины для рискованных путешествий в прошлое с целью вернуться к нему, вместо того чтобы воспринимать это знание как слабый свет, помогающий прозреть будущее. Да, поистине странен такой взгляд на непрерывность исторического развития, который игнорирует перемены, составляющие самую сущность этого развития. И действительно, искусство прошлого, искусство Ренессанса, которое едва мерцало среди тусклой пачкотни дилетантизма времен последних Георгов{16}, в своей высокомерной самоуверенности, о которой я упоминал раньше, абсолютно запрещало подражание какому-либо стилю, кроме одного, а этот один оно считало своей принадлежностью. Но оно могло избирать не больше, чем греческое или готическое искусство. Оно полностью, хотя и молчаливо, приняло перемены, которые нес с собой исторический процесс, признало рожденного разделением труда рабочего и таким образом постаралось создать и создало жизнь очень серую, но в какой-то мере отражающую хоть и неразумное, но бесстрашное возвышение среднего класса, которое составляло самую сущность того времени.
А мы, говорю я, мы отказываемся признавать движение истории! Мы приставляем нашего раба к машине, чтобы он без всякой охоты выполнял труд то ли средневекового ремесленника, то ли рабочего переходного периода. Лучше, чем в какое-либо другое время, мы выучились наряжаться в одежды, сброшенные другими, и продолжаем участвовать в странном и лицемерном театральном представлении скорее с какой-то вялой застенчивостью, чем с высокомерной самоуверенностью, решившись закрывать глаза на все особенно неприятное и не обращать внимания на безмолвное движение подлинной истории, происходящее за кулисами нашего театра марионеток.
Несомненно, такое положение – показатель перемены, по-видимому, быстрой и безусловно завершающей один цикл и начинающей другой. Ибо, как ни странно, перед нами общество, культурный слой которого лишен четких собственных черт. Оно дрейфует то туда, то сюда: часть его умов к красоте прошлого, часть – к логичности будущего. И каждая сторона по крайней мере молчаливо верит, что нужно всего лишь пересчитать по головам число своих сторонников и создать союз, который будет править миром наперекор истории и логике, пренебрегая необходимостью, приведшей их к теперешнему состоянию слабости и слепоты. И в то же время под поверхностью этого культурного слоя действует громадная коммерческая система, на которую образованные люди смотрят как на свою служанку и связующую силу общества хотя на самом деле она – их повелительница и разрушительница общества. Потому что по самой своей сущности эта система сулит войны и способна изменить свою природу лишь путем собственной гибели. Человек против человека, класс – против класса, и их девиз: «Я получил – ты потерял». Эта война должна длиться до тех пор, пока не наступит великое преобразование, цель которого – мир, а не война.
А кто же мы, собравшиеся здесь после семи лет достаточно смиренного стремления существовать и хоть что-то делать? Просто ли мы соломинки в океане полусознательного лицемерия, которое зовется цивилизованным обществом? – Нет, надеюсь, не так. Во всяком случае, мы не отрекаемся от уроков истории и не говорим, что вот это плохо, а то хорошо, это нам нравится, а то – нет. Мы говорим – да, то была жизнь, и материальное свидетельство ее – творения наших отцов. Эта жизнь продолжается в вас, хотя вы о ней забыли. На материальные свидетельства о ней теперь мы не обращаем внимания, в будущем же будем разыскивать их. И та необходимость, которая даже сейчас формирует общество будущего и в один прекрасный день провозгласит его, заставляет нас, кроме всего прочего, приложить все усилия, чтобы сберечь их – эти свидетельства жизни прошлого и настоящего. Общество наших дней при всей его анархичности рождает новый социальный строй, частью которого мы должны быть и будем – вместе со всеми теми, у кого хватит мужества принять подлинное и отвергнуть поддельное. И в конце концов наш труд, каким бы безнадежным он иногда нам ни казался, не будет совершенно напрасен. Ибо на что направлены все наши усилия? – На утверждение подлинности искусства, иными словами, на утверждение человеческого счастья. Тенденция коммерческого или конкурентного общества, развивающегося на протяжении более трех столетий, направлена на уничтожение радостей жизни. Но это конкурентное общество развилось наконец так, что все больше и больше приближаются и его изменение и смерть, и предвестием этого можно считать то, что уничтожение радостей жизни начинает представляться многим из нас уже не необходимостью, а явлением, против которого следует бороться. От искренности и неподдельности этой надежды зависит существование нашего Общества. Поверьте, небольшая кучка образованных людей не сможет в нынешних условиях, когда многие ведут жалкую и безотрадную борьбу за существование, а немногие вяло прогуливаются по жизни, поддерживать интерес к искусству и памятникам прошлого. Но когда вся жизнь будет перестроена так, что все люди обретут возможность жить, разумно работая и достаточно отдыхая, тогда все, а не только наше Общество, решатся защищать древние здания от всякого – намеренного или случайного – разрушения, ибо тогда наконец все начнут понимать, что эти старинные здания – неотъемлемая часть их жизни и часть их самих. Это произойдет тогда, когда время созреет, теперь же, даже если б люди осознали свои потери, они не могли бы их предотвратить, ибо живут они в состоянии войны, иначе говоря, бессмысленного расточительства.
Несомненно, до сознания членов этого Общества довольно часто доходило, что все сказанное – правда. Мы часто должны были признавать, что если разрушение или грубое обращение с древними памятниками искусства и истории касалось «вопроса денег», то было бесполезно бороться с этими явлениями. Не будем же столь слабы и малодушны, чтобы уклоняться от встречи с действительностью, ибо, хотя наша роль в деле создания будущего общества и скромна, мы не можем пойти ни на какие уступки. Признаем же, что мы живем в эпоху варварства между двумя периодами социального устройства – обществом прошлого и обществом будущего. Некоторые думают (как и я), что конец варварства близится, другие считают, что до конца еще весьма далеко, и все же мы все, и оптимисты и пессимисты, можем трудиться совместно, чтобы во имя просвещения, радости и надежды общества будущего сберечь старинные реликвии, которые еще сохранились от прежних времен. И пусть время нынешнего раздора будет менее разрушительным, а эпоха грядущего мира более плодотворной!
Речь на собрании Общества борьбы за красоту в Кенсингтоне
Полагаю, есть известная трудность в том, чтобы отстаивать требования Общества борьбы за красоту, ищущего общественной поддержки. Его дело исключительно благородно, и это, собственно, не нужно доказывать. Только так, по-моему, и следует оценить его, и эту оценку невозможно оспаривать. У общества, ставящего такие цели, нет врагов. У него их нет, и я бы сказал, и не может быть, а потому нет и надобности обращаться к самому эффективному способу привлечения общественного внимания, а именно к хорошей потасовке с собственными собратьями, со своими же соотечественниками. И если вообще нелегко говорить пространно на эту мирную тему, то это особенно трудно для меня, так как я принадлежу и к другим Обществам, которые считаются особенно агрессивными – враги их насчитываются тысячами, а друзей у них единицы. Поэтому теперь, когда приходится выступать в вашем в высшей степени миролюбивом и в высшей степени полезном Обществе, я чувствую себя словно рыба, вынутая из воды, и могу сказать только одно – это Общество полезно. Но все же вы должны понять, что слово «враги» я употребляю здесь в весьма узком смысле, имея в виду просто раздраженных людей. Но наше Общество встречает врагов и в ином смысле этого слова. Они – действительно враги всего рода человеческого, а в наше время и, возможно, в нашей собственной стране имена им – неряшливость, убожество и безобразие.
Общество борьбы за красоту было основано, чтобы бороться с этими врагами, и оно боролось против них робко и терпеливо, а теперь оно пытается и вас поднять на борьбу против этих врагов и призывает вас оказать посильную помощь в его своеобразной борьбе против этих удручающих пороков, пороков, которые современная цивилизация изменила по форме, но не по существу, – пороков, которые порождены системой огромных городов, и прежде всего этим громадным городом, или, вернее сказать, целым миром кирпича и строительного раствора, называемым Лондоном. Каким омерзительным местом казался мне этот город, когда еще мальчиком я иногда приезжал сюда! Мы уже привыкли к нему и не можем видеть его таким, каков он есть, но если бы мы могли хоть несколько часов воспринимать его в истинном свете, каким кошмаром предстал бы он перед нами! Поневоле думаешь, что следовало бы махнуть рукой на многое представляющееся нам теперь важным, и приложить все усилия к тому, чтобы уничтожить это зло.
Ведь у нас имеется множество различных способов исправить эти пороки и избавиться от убожества и уродства, которые явились как следствие беспечности или чувства безнадежности. Наиболее простой путь – закрыть на все глаза и сказать, а то и подумать, будто эти пороки вообще не существуют. И людей, избирающих этот путь, я называю счастливыми, даже слишком счастливыми, чтобы оказаться многочисленными. Правда, сам я лично не знаком ни с одним из таких счастливцев.
Кроме этих людей есть и другие – те, которые наперед допускают существование зла. Они говорят: было бы хорошо избавиться от этих пороков, но коль скоро они – неотъемлемая характеристика жизни XIX века и всех грядущих столетий и мы не можем от них избавиться, нам остается лишь через силу терпеть зло или же по возможности про него забыть. И на самом деле множество таких беззаботных людей ухитряются довольно-таки легко относиться к неприятностям, постигающим их соседей. Видимо, про них тоже можно сказать, что они счастливцы. И все же разве не странно положение, когда никто не дает себе труда подумать, что и пороки – тоже нечто живое, что, как все живое, они подчиняются законам жизни и тоже растут? А эти люди ни разу не подумали, во что в конце концов могут вырасти эти пороки и с какими рожденными от них ужасными чудовищами может столкнуться в один прекрасный день общество, стряхнувшее с себя наконец апатию.
Есть еще один путь избавиться от этих пороков, и он мне более понятен, чем всякий иной. Некоторые из нас знают, как эти пороки реальны и тягостны, как они угнетают нас, какие огорчения причиняют, даже когда мы счастливы, а наша жизнь обеспечена. И вместе с тем ни на миг невозможно себе представить, что они непременная часть вечного порядка вещей, что они неотделимы от поступательного движения человечества на его пути от варварства к цивилизации. Легче подумать, что они возникли из-за слепоты и суетливости недальновидных людей, которые, настраиваясь искать что-либо одно, волей-неволей забывают о другом. Все это мы знаем, чувствуем, а потому и жаждем перемены к лучшему, надеемся на нее, вспоминая движение истории.
И все же сама острота, с которой мы переживаем преступления цивилизации и убожество, которым она окружает жизнь большинства людей, способна обречь нас на бездействие. Различие между тем, что необходимо сделать и что возможно сделать сейчас же, настолько громадно, что нас покидает решимость.
Ибо вообразите себе только возвышенный идеал общества, изменившегося к лучшему. Вспомните, как надеемся мы на будущее, когда нищета станет просто названием ужасного призрака прошлого, когда грубость бедняков и высокомерие богачей уступят место надежде и доступной всем радости, когда представители самых утонченных профессий – ученый, художник, врач – будут разговаривать на общепонятном языке с человеком, выполняющим самую тяжелую работу, и при этом они смогут объяснить ему самую запутанную проблему. Подумайте о времени, когда сам Лондон, давно уже с отвращением названный Коббеттом{1} сущим жировиком, станет символом и итогом всех этих перемен, превратится в восхитительную обитель, исполненную красоты и чуждую убожества.
Обо всем этом мы могли бы думать как о вполне возможном, если бы широкие круги людей раз навсегда настроились на стремление к этой цели, считая ее достижимой, независимо от того, какая пропасть лежит между нами и этим будущим. Но неизвестно, с чего начать работу, чтобы перебросить мост через эту бездну возможных насилий, мятежей и горьких разочарований. Да, нам предстоит громадная работа, но мы даже не знаем, что для начала бросить туда, чтобы заложить основание для моста, который когда-нибудь будет построен. И мы, может быть, более других жаждущие наступления времени, когда осуществится наш идеал, не знаем, даже отвлекаясь от обычных наших повседневных забот, в какую сторону направить свои усилия, чтобы хоть на один шаг приблизить то желанное время.
Итак, как бы ни были счастливы неспособные видеть и беспечные, мы-то не можем быть счастливы. Я бы сказал, что мы по крайней мере обладаем счастьем быть недовольными. И если только нам суждено жить и умереть в этом состоянии недовольства, нам не остается ничего другого, как делать все, что у нас под рукой, предпринимать любые возможные шаги, отдавая этому все наши силы, не боясь, что идеал ускользнет из поля нашего видения, и не удручаясь, что доступные нам дела незначительны по сравнению с глыбой, которую нужно сдвинуть. Ибо нас укрепит вера, что, когда мы выполним свою долю работы, другие подхватят и продолжат то, что сделано нами: дело нуждается в нас, оно питается нашими силами, и не застынет на одном месте после нашей смерти, и, начатое нами, будет завершено другими.
Мне кажется, что именно этим путем желает идти Общество борьбы за красоту. Именно в таком духе оно ведет свою работу, о подробностях которой другие смогут рассказать лучше меня. Но я призываю и вас думать об этой работе и, чтобы вдохновить осужденных на пожизненную каторгу среди убогих улиц Лондона, попробовать сделать все, что только возможно, и постараться разбудить дремлющую в душах большинства людей жажду красоты. Нашему Обществу уже удалось кое-что сделать в этом направлении, и это явствует и из постоянной потребности в его услугах и из того, что оно уже привлекло к себе внимание широкой публики.
И я должен, с вашего позволения, сказать, что если кто-нибудь думает, будто это очень незначительный вклад в дело усовершенствования нашей цивилизации, то такой человек не имеет понятия, откуда берет начало искусство и какова его цель. Цель искусства – сделать жизнь достойной и счастливой для всех. А чтобы искусство достигло этой цели, разве не требуется, чтобы оно рождалось и свободно развивалось в среде народа? Поверьте, если сейчас с этим обстоит иначе, если искусство находит себе убежище только среди людей высокого интеллекта и большой культуры, то это потому, что оно стало консервативным и покоится лишь на воспоминаниях о былой творческой энергии народа. И если положение не изменится, если народ не будет настаивать на своем праве способствовать его развитию, то, без сомнения, искусство в мире цивилизации погибнет. И хотелось бы только знать, сможет ли цивилизация продолжать свое существование, когда искусство умрет.
Хотя поддерживаемая мною резолюция ничего не говорит об одной большой инициативе, с которой выступает Общество, я отнюдь не уклоняюсь от ее обсуждения. Речь идет о смелой попытке спасти лоно природы от кирпича и извести, сделать его неприкосновенным для всякой грязи и свалок, ибо мне представляется очевидным – как, надеюсь, и вам, коль скоро вы задумаетесь над этим, – что бессмысленно говорить о популяризации искусства, пока нет готовности популяризовать как в среде богатых, так и бедняков и уважение к природе. Можете ли вы ждать, что люди серьезно воспримут ваши призывы любить искусство и развивать его, если они видят вашу алчность, видят, как вы дрожите за свои торговые интересы и ни малейшего внимания не уделяете величайшему из всех благ мира, самому источнику красоты, естественной красоте земли? Что касается меня – и, уверен, вы разделите мои чувства, – мне не хватило бы слов, чтобы выразить свою благодарность каждому, кто спас для нас в Лондоне хотя бы одно дерево, хоть одну зеленую лужайку.
Я убежден, что деятельность Общества борьбы за красоту во многих отношениях заслуживает признания, но если какой-нибудь слишком оптимистически настроенный или нетерпеливый человек посчитает его достижения незначительными, то я бы просил подумать о том, как важна деятельность Общества по привлечению внимания широкой публики к этим вопросам: зло, о котором я говорил, рождено не дурным умыслом и не недоброй волей, а всего лишь беспечностью. Нужно помнить, что люди совершали удивительные дела, когда у них было к тому желание. Какую почти невероятную энергию и изобретательность проявили наши соотечественники, осуществляя некоторые начинания, на которые они твердо решились, – хотя иногда, к сожалению, с небольшой пользой для себя и мира! Подумайте обо всем этом и скажите, прав ли я, когда утверждаю, что, если уж невозможно превратить нынешний Лондон, этот позор цивилизации, в живописную обитель для людей, если невозможно превратить его в «прекрасный Лондон», о котором поется в старинной балладе, то лишь потому, что нельзя убедить наших соотечественников в благотворности и долгожданности этих перемен.
Я знаю, сколь нелегок, сколь тяжек труд уничтожения наших врагов – Неряшливости, Убожества и Уродства. Но именно потому, что я далек от мысли считать это невозможным, что я никогда не соглашусь поддаться голосу отчаяния и верю в реальность благого будущего, я выступаю здесь перед вами и от всего сердца призываю утвердить эту резолюцию.








