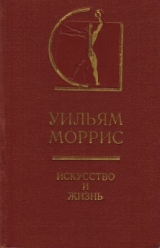
Текст книги "Искусство и жизнь"
Автор книги: Уильям Моррис
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 37 страниц)
Между тем в любом случае за утонченность, за способность думать, за освобождение от рабского труда нужно будет действительно платить, но не принудительным и долгим трудом. Наша эпоха изобрела машины, которые показались бы каким-то кошмарным сном людям прошлых столетий, но из этих машин мы еще до сих пор не извлекли всей пользы.
Они называются машинами, «экономящими труд», этим обычно употребляемым выражением подразумевается, чего мы от них ждем; однако мы не получаем от них того, что ждем. Что машины действительно делают, так это низводят квалифицированного рабочего до уровня неквалифицированного и увеличивают численность «резервной армии труда», – иными словами, увеличивают риск для жизни рабочих и интенсифицируют труд тех, кто обслуживает машины (как рабы своих хозяев). Все это машины делают как бы мимоходом, в то же время накапливая прибыль для предпринимателей или побуждая их тратить эту прибыль в жестокой торговой войне друг с другом. В справедливом обществе эти чудеса изобретательности впервые стали бы использоваться для сокращения времени, затрачиваемого на неприятный труд, который благодаря им был бы облегчен настолько, что почти никого не тяготил бы. Больше того – так как эти машины со временем были бы намного улучшены, то уже никто не спрашивал бы, будут ли такие улучшения выгодны отдельному лицу или же полезны всему обществу.
Этого будет достаточно для обычного пользования машинами, которое, вероятно, спустя некоторое время будет как-то ограничено, когда люди поймут, что нет нужды беспокоиться о средствах существования, и научатся находить интерес и радость в ручном труде, который при сознательном и вдумчивом отношении к нему мог бы сделаться более привлекательным, чем труд машинный.
И опять-таки, когда люди, освободившись от непрерывного страха перед голодной смертью, поймет, чего они действительно хотят, то тогда, ничем болей не понуждаемые, кроме собственных потребностей, они откажутся производить всякую ерунду, которая ныне называется роскошью, и ту отраву и хлам, которые называют дешевым товаром. Никто не станет шить плисовых штанов, когда не будет лакеев, которые их носят, и никто не будет тратить попусту времени на производство маргарина, если никого не будут заставлять отказываться от настоящего масла. Законы о подделке ценностей нужны только в обществе воров, а в этом новом обществе такие законы станут лишь мертвой буквой.
Социалистам часто задают вопрос{1}, как будет выполняться в новых условиях физический труд и работа более неприятная. Попытка ответить полно и убедительно на подобные вопросы означала бы бесполезную попытку сконструировать схему нового общества из материалов старого еще до того, как мы узнаем, какие из этих материалов перестанут существовать, а какие переживут эволюцию, подводящую нас к великой перемене. И все-таки нетрудно представить себе некоторые черты его устройства, которые позволят тем, кто делает самую тяжелую работу, трудиться в течение самого короткого промежутка времени. И опять же то, что я говорил раньше о разнообразии работы, вполне применимо здесь. Я готов повторить снова, что необходимость безнадежно заниматься всю жизнь одним и тем же отталкивающим и нескончаемым трудом скорее годится для ада, как его описывают богословы, но не для какой-либо формы человеческого общества. Наконец, если эта более тяжелая работа окажется какого-либо особого рода, то можно предположить, что для ее выполнения будут призваны особые добровольцы, которые непременно появятся, если только люди, став свободными, не утратят той искры мужественности, которая тлела в их душе, когда они были рабами.
И тем не менее, если какая-нибудь работа не может не быть неприятной из-за своей небольшой продолжительности, либо из-за постоянных перерывов в ней, либо из-за ощущения ее специальной важности, а потому и почетности – ощущения, не оставляющего человека, который добровольно взялся ее выполнять, – если все-таки будет какая-либо работа, которая не сможет доставлять рабочему ничего, кроме мучений, – что тогда? Что же, тогда посмотрим, не обрушатся ли на нас небеса, если мы так и не сделаем ее, и уж лучше тогда, чтобы они обрушились. Продукция такой работы не может стоить заплаченной за нее цены.
Теперь для нас очевидны лицемерие и ложь полубогословской догмы, утверждающей, что любой труд при любых обстоятельствах это благословение для труженика; с другой же стороны, труд – благо, если он сопровождается надеждой на отдых и наслаждение. Мы взвесили на весах труд цивилизации и обнаружили в нем недостачу, ибо в нем в большинстве случаев отсутствует надежда, и потому мы видим, что цивилизация обрекла людей на страшное проклятие. Но мы также поняли, что труд мира может быть исполнен надежд и наслаждения, если он не растрачивается попусту вследствие глупости и жестокости, вследствие вечного раздора враждующих классов.
Мир – вот в чем мы нуждаемся, чтобы жить и работать, надеясь и радуясь. Мир – такой желанный людям, если верить их словам, но так часто и настойчиво отвергаемый их делами. Что же касается нас, то давайте всем сердцем устремимся к нему и завоюем его любой ценой.
Кто в состоянии сказать, какова будет цена? Будет ли возможно завоевать мир мирным путем? Увы, как это может быть? Мы столь плотно окружены злом и глупостью, что так или иначе должны всегда воевать против них. На протяжении нашей жизни нам не увидеть конца этой войны, и, вероятно, нам нельзя даже надеяться на ее конец. Возможно, самое лучшее, что мы можем видеть, так это то, что борьба становится день ото дня все более острой и жестокой, пока она в конце концов не выльется в открытую резню людей в настоящей войне, которая придет на смену более медленным и более жестоким средствам «мирной» коммерции. Если мы доживем, чтобы увидеть это, то мы доживем, чтобы стать свидетелями очень многого; ибо тогда богатые классы, осознав творимые ими зло и грабеж, будут защищаться открытым насилием, и тогда развязка неотвратимо приблизится.
Но в любом случае и какую бы форму ни приняла наша борьба за мир, если только мы упорно и всем сердцем будем стремиться к нему, непрестанно помнить о нем, – то отблеск грядущего будет озарять и нашу беспокойную и трудную жизнь, озарять и тогда, когда наши тревоги окажутся незначительными, тогда, когда они действительно трагичны. И мы будем хотя бы в наших надеждах жить жизнью настоящих людей, и большей награды наше время дать нам не сможет.
Малые искусства
В будущем, в следующей лекции, я надеюсь иметь удовольствие развернуть перед вами исторический обзор малых или, как их называют, декоративных, искусств. И должен признаться, мне было бы приятнее сегодня же посвятить свою беседу с вами истории этого великого производства. Но так как я должен и в третьей лекции коснуться разных вопросов, связанных с нашими теперешними занятиями декоративным искусством, то сейчас я могу оказаться в затруднительном положении, если вызову у вас смущение, которое потребует от меня дополнительных объяснений; поэтому я сразу же скажу, что думаю о природе и объеме этих искусств, об их нынешнем положении и видах на будущее. Высказывая свои взгляды, я, возможно, вызову ваши возражения, и потому, что бы я ни порицал, что бы ни хвалил, я с самого начала прошу поверить, что, размышляя о путях истории, я отнюдь не склонен оплакивать прошлое, презирать настоящее или впадать в отчаяние при мысли о будущем. Я верю, что все перемены вокруг нас свидетельствуют о жизни нашего мира и что они приведут – неведомыми для нас путями – к совершенствованию всего человечества.
Углубляясь в подробности моей темы, говоря об объеме и природе декоративных искусств, я не буду уделять много внимания великому искусству архитектуры и еще меньше – скульптуре и живописи, но тем не менее мысленно я не смогу совершенно отделить их от малых или декоративных искусств, о которых поведу сейчас речь; ведь только недавно и при самых сложных жизненных обстоятельствах эти искусства отпали одно от другого, и я утверждаю, что это было пагубно для всех искусств в целом: малые искусства становятся тривиальными, механическими, неспособными сопротивляться переменам, вызываемым модой или недобросовестностью; в то же время великие интеллектуальные искусства, несмотря на то, что ими в течение некоторого времени могут заниматься люди великого ума и чудесных рук, лишившись помощи малых искусств и взаимного содействия, несомненно, потеряют почетный титул народных искусств и станут лишь скучными придатками бессмысленной помпезности или забавными безделушками для немногих богатых и праздных людей.
Однако я не собираюсь говорить с вами об архитектуре, скульптуре и живописи в собственном смысле этих слов, поскольку эти искусства, искусства главным образом интеллектуальные, в настоящее время, к несчастью, по-моему, отделились от декоративного в его узком понимании. Наша тема – то великое содружество искусств, с помощью которого люди во все времена стремились больше или меньше украшать обычные предметы повседневной жизни. Это обширная тема, касающаяся большой области деятельности, и одновременно и значительная часть мировой истории, и в высшей степени полезное средство изучения этой истории.
Да, это очень большая область деятельности, охватывающая домостроительство, малярное дело, столярное и плотничное ремесло, кузнечное дело, керамику, стекольное производство, ткацкое ремесло и многое другое – содружество искусств, весьма важных для множества людей, но еще более важных для нас, мастеров ручного ремесла. Ибо едва ли считался законченным хоть какой-нибудь сделанный нами предмет домашнего обихода, если его так или иначе не коснулось декоративное искусство. Правда, часто и даже в большинстве случаев эти орнаменты настолько привычны, что кажутся словно бы возникшими сами собой, и мы обращаем на них не больше внимания, чем на мох на сухих лучинках, которыми мы разжигаем печи. Тем хуже! Ибо декоративность или хотя бы претензия на нее существует, в ней есть или по крайней мере должны быть и польза и смысл. Ибо – и это лежит в основе всего дела – все, что делается человеческими руками, имеет форму либо прекрасную, либо уродливую; прекрасную, если она гармонирует с природой и соответствует ей; уродливую, если она не соответствует природе и извращает ее. Форма не может быть безразличной, – но мы слишком заняты или слишком инертны, слишком страстны или слишком несчастны, и наши глаза часто утомляются богатством форм тех предметов, на которые мы постоянно смотрим. В том-то и заключается прелесть декоративности и главная особенность ее близости к природе; именно для этой цели сплетаются изумительные затейливые рисунки, выдумываются странные формы, которые издавна доставляли наслаждение людям, – формы и рисунки, которые не обязательно копируют природу, но при создании которых рука мастера действует как сама природа, пока ткань, чашка или нож не станут выглядеть столь же естественно и столь же привлекательно, как зеленое поле, берег реки или черный камень.
Радовать людей предметами, которыми они волей-неволей должны пользоваться, – одно из главных назначений декоративного искусства; радовать людей предметами, которые они должны создавать, – другое его назначение.
Разве наша тема не представляется теперь достаточно важной? Я утверждаю, что без этих искусств наш досуг окажется пустым и неинтересным, наш труд – просто испытанием терпения, изнурением тела и ума.
Что же касается назначения этих искусств – доставлять нам радость в работе, – то едва ли я смогу: сказать об этом достаточно выразительно. Я знаю, насколько важно вновь и вновь возвращаться к этой истине, и потому отваживаюсь развить далее эту мысль в связи с тем, что мне приходят на ум слова, сказанные одним из живущих ныне великих людей; я имею в виду моего друга профессора Джона Рёскина. Во втором томе его «Камней Венеции», в главе под названием «О природе готики», вы найдете самые правдивые и самые красноречивые слова, когда-либо сказанные по этому поводу. То, что предстоит сказать в связи с этим мне, – лишь эхо его слов. И все же, повторяю, стоит напоминать истину, чтобы она не была забыта. Кроме того – все мы знаем, что говорили люди о проклятии труда и какой досадной и несуразной чепухой оказывается болтовня по этому поводу; ведь на самом-то деле настоящим проклятием для ремесленников была глупость и несправедливость как в самой системе производства, так и за ее пределами. Не могу предположить, чтобы кто-нибудь из присутствующих посчитал бы славным или приятным занятием праздно сидеть в кругу бездельников, – жить джентльменом, как такую жизнь называют дураки.
И все же действительно существует скучная работа, которую необходимо выполнять, и весьма утомительное дело – усаживать людей за такую работу и надзирать за ними; я бы согласился скорее сделать вдвое больше своими руками, чем заниматься этим делом. Но стоило бы только искусствам, о которых идет речь, украсить наш труд, получить широкое распространение, обрести осмысленный характер, встретить понимание со стороны их творцов и потребителей, стоит им, одним словом, стать народными искусствами, вот тогда, вполне вероятно, наступил бы конец скучной работе и ее изнурительному рабству, и уже ни у кого не было бы повода для разговоров о проклятии труда, и ни у кого не было бы предлога избегать благословения труда. Нет ничего, я убежден, что может содействовать прогрессу больше, чем развитие искусств. Уверяю вас, нет ничего другого в мире, чего бы я желал столь страстно, наряду с политическими и общественными переменами, которых мы все так или иначе желаем.
Если бы мне возразили, что декоративные искусства стали слугами роскоши, жестокости и предрассудков, то пришлось бы признать, что в известном смысле это верно: эти искусства использовались точно так же, как и многие другие превосходные вещи. Но верно так же и то, что в истории некоторых народов периоды наиболее бурного развития и наибольшей свободы совпадали со временем расцвета искусства. В то же время декоративные искусства процветали и среди угнетенных народов, у которых, казалось бы, не было даже надежды на свободу; и все же, думаю, мы не ошибемся, предположив, что у таких народов искусство по крайней мере было свободным; когда же оно не было свободным и когда оно действительно оказывалось во власти предрассудков или роскоши, то оно немедленно начинало чахнуть. Вы должны помнить – когда говорят, что папы, цари и императоры выстроили такие-то и такие-то здания, – это просто способ выражения. Раскройте книги по истории, чтобы узнать, кто выстроил Вестминстерское аббатство{1} или собор св. Софии{2} в Константинополе, и книги ответят вам: Генрих III, император Юстиниан{3}. Они ли? Или, скорее, такие же люди, как я и вы, ремесленники, не оставившие после себя никаких имен, ничего, кроме своего труда?
Теперь, когда эти искусства привлекают внимание и интерес к явлениям современной повседневной жизни, они также – и это, по-моему, немаловажно – на каждом шагу привлекают наше внимание к той истории, значительную часть которой, как я уже сказал, они составляют; ибо ни один народ и ни одно общество, даже самое первобытное, не могли совсем обойтись без этих искусств; было немало народов, о которых мы знаем лишь, что они считали красивыми такие-то и такие формы. Существует столь тесная связь между историей и декоративным искусством, что, занимаясь последним, мы не можем, даже если и пожелаем, целиком сбросить со счетов влияние прошлых времен, оказываемое на то, что мы делаем теперь. Я не преувеличу, если скажу, что ни один человек, каким бы самобытным он ни был, не может в наши дни сделать рисунок для ткани, вычертить форму обыкновенного сосуда или какой-нибудь мебели, чтобы эти рисунки оказались вне русла развития и упадка форм, которые бытовали столетия назад. Некогда, правда, и очень часто, такие формы имели серьезный смысл, – теперь же они значат немногим больше, чем привычный жест руки. Эти формы, возможно, некогда служили мистическими символами религиозного культа и верований, теперь почти совсем забытых. Люди, прилежно и с удовольствием занимающиеся изучением этих искусств, обретают способность смотреть словно бы сквозь окна на прошлую жизнь, на первые проблески мысли у народов, даже имени которых мы не знаем. Грозные империи древнего Востока, свободная энергия и слава Греции; тяжеловесность и цепкая хватка Рима; падение его недолговечной империи, так широко распространившей по миру все то добро и зло, которые люди никогда не смогут забыть и никогда не перестанут ощущать; столкновение Востока и Запада, Юга и Севера из-за его богатой и влиятельной дочери – Византии; возвышение, распри и ослабление ислама; странствия скандинавов; крестовые походы, основание государств современной Европы; борьба свободной мысли с древней умирающей системой, – со всеми этими событиями и их смыслом переплетена история народного искусства. Со всем этим, на мой взгляд, должен быть знаком каждый, кто намерен внимательно изучать декоративное искусство как область исторической деятельности. Когда я думаю об этом и о том еще, сколь полезны все эти знания сейчас, когда мы так жаждем постичь сущность событий прошлого и больше уже не можем удовлетворяться скучными перечнями сражений и интриг королей и авантюристов, – стоит мне, повторяю, задуматься обо всем этом, я навряд ли уж соглашусь, будто переплетение декоративных искусств с историей прошлого имеет меньшее значение, чем взаимоотношения этих искусств с современностью: разве память о прошлом не становится частью нашей повседневной жизни?
Прежде чем пойти дальше и рассмотреть современное положение этих искусств, позвольте мне подытожить сказанное. Эти искусства, сказал я, составляют часть великой системы, предназначенной выражать восторг человека перед красотой: ими наслаждались все народы во все времена; они были источникам радости для свободных народов и утешения – для наций угнетенных. Религия то их использовала и возвышала, то осуждала и бесчестила. Эти искусства связаны со всей историей и, несомненно, учат нас ей. Они делают человеческий труд радостным и для ремесленников, всю свою жизнь занятых им, и вообще для всех людей, которые в своей повседневной работе постоянно испытывают воздействие искусств. Они делают наш труд счастливым, а отдых плодотворным.
И если все это покажется вам всего лишь наивной похвалой этим искусствам, то я должен еще прибавить, что отнюдь не случайно то, что я сказал вам, приняло такую форму. Именно поэтому я должен теперь поставить перед вами вопрос: дорожите ли вы искусствами или готовы от них отказаться?
Но не странен ля мой вопрос? – Ведь большинство из вас, так же как и я, посвящают себя практическим занятиям теми искусствами, которые народны или должны быть народными.
Чтобы пояснить мой вопрос, придется повторить кое-что из сказанного. Было время, когда тайны и чудеса ремесел находили в мире полное признание, когда воображение и фантазия сливались со всеми вещами, сделанными человеком. И в те времена все ремесленники были художниками – так мы и теперь должны были бы их называть. Но мысль человека становилась более сложной, выражать ее становилось труднее. Заниматься искусством становилось все тяжелее, и труд над ним все больше делился между великими людьми, людьми менее знаменитыми и совсем незаметными. Некогда душа и тело отдыхали, когда рука бросала челнок или поднимала молоток, но потом ремесло для некоторых сделалось настолько серьезным делом, что их трудовая жизнь превратилась в долгую трагедию надежды и страха, радости и горя. Так шло развитие ремесла: подобно всякому развитию, оно было плодотворно в течение какого-то времени; как и любое плодотворное развитие, оно сменилось упадком; и подобно всякому упадку того, что некогда было плодотворным, оно тоже перерастет в нечто новое – в упадок – ибо по мере того, как искусства делились на большие и на малые, в первых появилось высокомерие, а во вторых – небрежность; то и другое рождалось от незнания той философии декоративных искусств, отдельные положения которой я пытался вам изложить. Художник покинул среду ремесленников, оставил их без надежды возвыситься, но сам он остался без разумной и энергичной поддержки. Пострадали оба, и художник не меньше ремесленника. С искусством происходит то же, что с ротой солдат, когда капитан, преисполненный надежды и в пылу воинственности, рвется вперед к бастиону, но не оглядывается назад и не видит, следуют ли за ним его люди. А они и не думают двигаться с места, и им невдомек, зачем их тащат на смерть. Капитан понапрасну гибнет, а солдаты становятся узниками крепости, имя которой – жестокость и несчастье.
Должен откровенно сказать: дело вовсе не в том, что в декоративных искусствах и вообще во всех искусствах мы в чем-то уступаем нашим предшественникам, а, скорее, в том, что все эти искусства находятся сейчас в состоянии анархии и разброда. И это явно диктует необходимость коренных перемен.
И вот я снова задаю вопрос: хотите ли вы обладать прекрасными плодами искусств или вы готовы от них отказаться? Принесут ли грядущие коренные перемены благо или одни потери?
Мы, верящие, что жизнь на земле будет долгой, вправе надеяться, что эти перемены принесут нам благо, а не потери, и должны стремиться способствовать рождению этого блага.
И все же что ответит мир на мой вопрос, кто знает? За свою короткую жизнь человек способен увидеть лишь очень немногое, но даже в подземелье сталкиваешься порою с удивительными неожиданностями. Приходится признать, что скорее на этом покоится моя надежда, нежели на всем том, что я вижу вокруг себя. Поэтому, не оспаривая мнение, что если изобразительные искусства погибнут, то в качестве их замены в жизни людей появится нечто новое и непредугаданное, я должен сказать, что не испытываю никакой радости от такой перспективы и не могу поверить, что человечество способно навсегда примириться с такой утратой. А между тем, по-моему, нынешнее состояние искусств, их взаимоотношения с современной жизнью и прогрессом указывают, по-видимому, на такую недалекую перспективу – во всяком случае, внешнее впечатление именно таково. Ибо мир, который долгое время был занят чем угодно, но только не искусствами, беспечно позволял им приходить во все больший и больший упадок, и многие не лишенные образования люди, не знающие, чем искусства когда-то были, и не надеющиеся на то, чем они могут еще стать, сейчас просто презирают их. И этот мир, суетный и погрязший в заботах, в один прекрасный день сотрет с лица земли даже следы искусства и, раздраженный всеми связанными с ним сложностями и волнениями, совершенно от них избавится.
И тогда – что тогда?
Даже теперь, среди убожества Лондона, трудно вообразить, что тогда произойдет. Архитектура, скульптура, живопись вместе с примыкающими к ним малыми искусствами, вместе с музыкой и поэзией – погибнут, окажутся забытыми, больше совсем не будут ни волновать людей, ни развлекать их. Ибо, повторяю, мы не должны обманываться: гибель одного искусства означает гибель всех. Единственное различие в их судьбе может состоять в том, что самое удачливое искусство погибнет последним, но еще вопрос, удача ли это. Во всем, что относится к прекрасному, изобретательность и ум человека зайдут в тупик. А все это время природа будет жить, и в ней вечно будут происходить восхитительные перемены, чередование весны и лета, осени и зимы, солнечного сияния, дождей, и снега, и ясной погоды, рассвета и заката, дня и ночи, – и все это будет непрерывно обвинять человека, сознательно выбравшего уродство вместо красоты и решившего жить среди убожества и пустоты, где он чувствует себя победителем.
Вы видите, господа, что нам вообразить это, возможно, не легче, чем нашим предкам из древнего Лондона представить целое графство или еще более обширную территорию, застроенную отвратительными большими, средними и маленькими домами, которая сейчас называется Лондоном. Ведь наши предки жили на древней земле этого города в прелестных и тщательно побеленных домах, на фоне прославленной церкви и ее громадного шпиля. Они гуляли в прекрасных садах, сбегавших к широкой реке.
Повторяю, господа, теперь трудно даже вообразить, какую пугающую и мертвую пустоту оставят исчезнувшие искусства. И все же, увы, я должен сказать, что если этого не произойдет, то только благодаря какому-то повороту событий, который мы теперь не можем предвидеть. Но, надеюсь, если это все-таки произойдет, то будет длиться недолго. Так поле, на котором сжигают сорняки, приносит более обильный урожай. Я утверждаю, что люди вскоре очнутся, глянут вокруг, их охватит нестерпимая тоска, и тогда они снова начнут изобретать, подражать, фантазировать, как и в былые времена.
Эта вера – мое утешение, и я могу спокойно сказать: пусть разверзнется эта зияющая пропасть, если уж так суждено, и пусть из самой мглы ее пробьются ростки новых семян. Так было и в прошлом: сначала рождается едва сознающая себя надежда, затем появляется цветок и плод мастерства, причем надежда становится все более самоуверенной, и, подобно тому как за зрелостью следует увядание, она перерастает в высокомерие, а затем – опять рождение нового.
Между тем несомненный долг всех, чье отношение к искусству серьезно, – сделать все возможное, чтобы уберечь мир от утраты, которая явится следствием невежества и недомыслия. Они должны предотвратить самую ужасную из всех перемен – замену одной формы исчезнувшей жестокости новой. Однако если люди, даже искренне предрасположенные к искусству, столь слабы и немногочисленны, что неспособны совершить ничего иного, то они могли бы взять на себя обязанность сохранить живыми какие-то традиции, какую-то память о прошлом, чтобы тогда, когда наступит новая жизнь, ей не пришлось тратить усилия на лепку совершенно новых форм, в которые воплотился бы ее дух.
В чем же найдут опору люди, которые сознают и блага великого искусства и всю тяжесть того, что вместе с художествами исчезают гармония и добропорядочность жизни? Думается, они должны начать с признания, что древнее искусство, искусство неосознанной духовности, как можно его назвать, отнюдь не умерло, что немногие его остатки все еще влачат жалкое существование у полуцивилизованных народов, что с каждым годом оно становится все грубее и немощней, все менее одухотворенным. Оно возникло в незапамятные времена, и, насколько это было давно, свидетельствует превосходная причудливая резьба на костях мамонта и другие произведения, извлеченные знанием из потока истории. Судьба искусства решалась часто какой-нибудь случайностью торговли – скажем, прибытием нескольких кораблей, груженных европейскими красителями или доставивших несколько десятков заказов от европейских торговцев. Узнав все это, люди, любящие искусство, будут надеяться, что в свое время на смену древнему художеству придет новое искусство осознанной духовности и они увидят, что человечество будет жить более вольной, простой и мудрой жизнью, чем прежде.
Я сказал, что они увидят все это в свое время, но не могу утверждать, что увидим мы: это может оказаться таким далеким – как кое-кому и представляется, – что многие сочтут едва ли стоящим даже мечтать о том. Но и среди нас есть люди, которые не смогут отвернуться к стене и сидеть сложа руки в бездействии потому, что надежда кажется довольно смутной. И в самом деле, в то время как, с одной стороны, для нас слишком очевидны признаки теперешнего упадка древних искусств со всеми его пагубными последствиями, с другой стороны, наблюдаются отнюдь не малозаметные признаки новой зари после той ночи искусств, о которой я говорил раньше. Эти признаки – свидетельство того, что есть хотя бы немногие люди, которые искренне возмущены существующим положением вещей и жаждут чего-то лучшего или же по крайней мере надеются на лучшее. Ибо, полагаю, если с полдесятка людей серьезно посвящает себя тому, что сейчас появляется, что согласуется с природой, они рано или поздно своего добьются, ибо не случайно новые идеи возникают одновременно в головах нескольких людей, и это объединяет их, побуждает говорить и действовать, направлять мир к активности, высказывать то, что иначе осталось бы невысказанным.
К каким же средствам должны прибегнуть те, кто жаждет перемен в искусствах, в ком должны они пробудить страстное стремление к красоте или, что еще лучше, – желание развивать способность творить красоту?
Мне довольно часто говорят: если вы хотите, чтобы ваше искусство достигло успеха и процветания, сделайте его модным. Такие фразы, признаться, меня раздражают, ибо этим хотят сказать, что я должен тратить один день на свою работу, а два – на попытку убедить богатых и, вероятно, влиятельных людей, что они чрезвычайно интересуются тем, до чего им в действительности нет никакого дела. Как будто все может произойти по поговорке: куда вожак, за ним и вое стадо. Ну что же, такие советчики правы, если они довольствуются тем, что длится какое-то время – скажем, пока вы в состоянии добыть немного денег, если вас не прищемит слишком быстро захлопнувшаяся дверь. Во всем прочем они ошибаются. У людей, на которых они полагаются, в запасе много всякой всячины, и они с такой легкостью могут отвернуться от того, что не имеет успеха, что совершенно бесполезно пытаться потакать их капризам; это не вина наших советчиков, они ничего тут поделать не могут – у них нет возможности тратить свое время на то, чтобы узнать что-либо толковое об искусстве, и они поневоле попадают под влияние тех, кто ради собственной выгоды поворачивает моду то в ту, то в другую сторону.
От таких людей, господа, нельзя ожидать поддержки, так же как и от тех, кто доверяет им. Единственная реальная помощь для декоративных искусств может исходить от людей, которые занимаются этими искусствами, а они не нуждаются в том, чтобы ими руководили, – руководить должны они сами. Вы, чьи руки должны создавать вещи, которые станут художественными произведениями, вы должны стать художниками, и хорошими художниками, еще до того, как общество в целом проявит к этим вещам подлинный интерес. И когда вы станете такими художниками, вы – обещаю вам – поведете за собой моду. Она довольно послушно подчинится вашим рукам.
И это единственный способ, которым мы можем вызвать пополнение сознательного народного искусства. Что могут сделать несколько художников, что они могут сделать, работая вопреки трудностям, воздвигаемым на их пути пресловутой коммерцией, которую правильнее попросту назвать погоней за деньгами? Что могут сделать они, работая без всякой поддержки среди массы людей, которых словно бы в насмешку называют фабрикантами, то есть мастерами ручного труда, хотя большая их часть за всю свою жизнь ничего не смастерили своими руками и являются не кем иным, как капиталистами и торговцами. Что могут изменить немногие произведения художников – эти песчинки в громадной массе выпускаемых ежегодно изделий, которые выдаются за декоративное искусство и привлекают внимание только продавцов, пускающих эти изделия в оборот, чтобы утолить томление публики по чему-то если не прекрасному, то хотя бы новому. В лекарстве есть смысл, если оно помогает. Ремесленник, оказавшийся после разъединения искусств позади художника, должен его догнать и работать с ним бок о бок. Помимо различий между выдающимся мастером и учеником, помимо врожденных различий между склонностями человеческого ума, которые одних делают копировщиками, а других – архитекторами или мастерами декоративного искусства, не должно быть никакого различия между теми, кто посвятил себя чисто декоративной работе. И всем художникам декоративного искусства следует с помощью самого искусства ускорить превращение в художников тех рабочих, которые мастерят предметы согласно требованиям необходимости и полезности.








