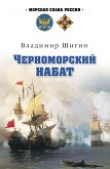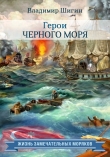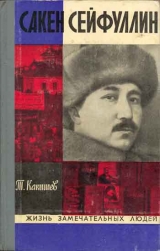
Текст книги "Сакен Сейфуллин"
Автор книги: Турсунбек Какишев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
У Сакена был деятельный характер сангвиника. Занимая ответственный пост предсовнаркома, он считал, что ни один вопрос в жизни республики не должен его миновать. И не случайно его имя называют одним из первых среди организаторов многих дел. Воздушного флота Казахстана, в частности. Только вчера пришел к нему на прием представитель общества по организации краевого воздушного флота. По мнению представителя, если иметь 30 тысяч рублей, то аэроплан можно приобрести. Даже выбрали место для аэроплана – на пустыре, что на окраине Оренбурга. А уже сегодня Сакен сел писать статью «Нам необходимо летать». «В Казахстане нет железной дороги, пустыня, Голодная степь, нет парохода, нет хороших дорог для автомобилей. И по этой причине самым выгодным и дешевым видом транспорта является аэроплан. Нетрудно приобрести аэроплан. Только требуется помощь народа. Если народ будет собирать и сдавать деньги в соответствующие государственные учреждения, то можно будет купить аэропланы. Гражданский долг каждого – не только прочесть эти слова, а подумать и немедленно включиться в претворение в жизнь такого общенародного дела. Стремление осуществить это дело явится стремлением к культуре».
«Аэроплан – это крылья нашего трудолюбивого молодого поколения», – увлеченно писал Сакен.
Он сам еще принадлежал к этому поколению. Ему не было еще и тридцати лет. Но он находил общий язык и с теми, кто был моложе.
Сколько моральных неприятностей принесла ему статья Назира Тюрекулова. И вот теперь группа студентов Коммунистического университета трудящихся Востока в Москве по собственной инициативе выступила против Назира Тюрекулова со статьей, в которой резко осуждала его метод ведения литературной полемики.
«В чем суть утверждения, что книга «Неукротимый скакун» не должна быть предложена подрастающему поколению? – с полным правом спрашивали представители этого поколения… – Нельзя мириться с превращением критики в оружие осмеяния, издевательства. Литературные произведения надлежит рассматривать с революционной точки зрения, с позиции интересов трудящегося народа. Только так должны высказывать свои мнения писатели». По заслугам получил рецензент из «Полярной звезды» и в статье Сабита Муканова – «Критика на критику», опубликованной на страницах журнала «Кызыл Казахстан».
Сакен уже привык, что творчество его вызывает столь горячие споры. К тому же он чувствовал: теперь у него есть свой читатель, и на душе становилось спокойнее. Сакен верил в его вкус и его дружелюбие. Пожалуй, настало время поделиться с ним своими мыслями об этом нашумевшем сборнике «Неукротимый скакун»…
Ушли в прошлое грозовые события казахского национально-освободительного движения 1916 года. Стали историей Октябрьская социалистическая революция и гражданская война. Теперь многие взялись за перо, чтобы поведать об этих славных страницах истории казахского народа. Но нашлись и такие, кто извращал подлинные факты. Некоторые делали это неумышленно, не проверив источников, другие – намеренно. Последние вообще смазывали значение Октябрьской революции для казахов, утверждая, что «казахи к Октябрьской революции примкнули на полпути, эта революция не была для нас необходимостью». Они оплакивали прошлое.
Сакен считал своим долгом положить конец всем этим превратным толкованиям.
Нельзя медлить, некогда дожидаться, когда время отсортирует факты, нужно сейчас же садиться за историю казахов – прежде всего за период, что непосредственно предшествовал Октябрю и бурным его дням.
Его несколько затруднял выбор жанра. Поразмыслив, он в конце концов остановился на мемуарах. Но как только начал писать, понял, что у него не хватает материала. Одних только личных воспоминаний и собственных переживаний недостаточно.
И Сакен отложил работу. Прежде всего нужно было собрать факты. Ему удалось добыть почти все номера газет и журналов, выходивших в эти годы. Он жадно выспрашивал таких людей, как Сейткали Мендешев, Алиби Джангильдин и других. В командировках по аулам незаметно для других записывал все события, сохранившиеся в памяти народа.
Материала набралось горы. Но как трудно было установить достоверность собранных фактов. Ведь многое он знал со слов. И Сакен ведет подлинно источниковедческую работу. С семи вечера до двенадцати-часа ночи не гаснет лампа на его письменном столе.
Начиная с 19-го номера в журнале «Кызыл Казахстан» за 1923 год печатаются мемуары Сакена «Тернистый путь». Теперь среди некоторых литераторов Оренбурга, Ташкента начались толки о том, что «Сакен ведь хороший поэт, ему не к лицу заниматься прозой». Вскоре выяснилась и цель этого слуха. Иногда и похвала служит черному делу. Ведь Сакен разоблачал в своих мемуарах некоторых крикунов, доказывая, что они к революции не имеют никакого отношения.
И конечно, не обошлось без нападок. Недруги Сакена придрались к его стихотворному поздравлению, адресованному журналу «Жас казах».
Сакен писал:
Твоим кораном станет Маркс и Ленин,
Растущее младое поколенье.
Некий Ж. С. в газете «Лениншил жас» («Ленинская молодежь») юродствовал: «Если коран вам дорог, то нам он не дорог. Вы сравниваете слова Маркса и Ленина с кораном» Но Ж. С. просчитался. Достойный отпор дали ему учащиеся рабфака во главе с Габитом Мусреповым.
«Если сам блуждаешь, то не заблуждай других! Если хочешь критиковать слова Сакена, то критикуй по законам литературы, с точки зрения коммунизма. Газета тебе не игрушка. Газета – зеркало трудового люда. Если не нашлись у тебя хорошие слова, то не оскверняй зеленой мутью страницы «Лениншил жас».
Молодежь поддержала газета «Енбекши казах» и, в свою очередь, сказала свое весомое слово.
Приближались выборы в Советы Казахстана. И Сакен готовился к длительной поездке в Уральскую губернию.
Остановка была за транспортом. На лошади – уйдет уйма времени. А автомобиля председатель Совнаркома не имел. Сакен решил, что Совнаркому нужно приобрести хоть одну машину. Едва-едва наскребли денег и купили.
И вот Сакен мчится по степи. Автомобиль обгоняет мысли, только задумаешься об увиденном, уже набегают иные картины. Время от времени встречаются на пути проезжие – казахи на скрипучих старых деревянных арбах. Автомобиль гудит. Бедные проезжие в растерянности отводят в сторону своих волов и долго глядят вслед автомобилю.
Заночевал в казахском ауле. Казахи сбежались посмотреть на диво, они никогда не видели автомобиля. Щупают, гладят. И так на каждой ночевке, в каждом ауле, встретившемся на пути.
14 октября приехал в Уральск. Едва расположился в гостинице, сразу же сел за стол. Стихи-размышления «Автомобиль» родились еще в пути.
В Уральске ждали председателя Совнаркома. Тут же появились журналисты, и назавтра в газетах «Кызыл ту» («Красное знамя») и «Красный Урал» появилось интервью. Заголовок – «Мысли С. Сейфуллина о развитии казахского народа», и ниже его слова: «Для того чтобы отсталый киргизский трудовой народ действительно пользовался благами свободы в настоящем и нога в ногу шел с русским пролетариатом и трудовым крестьянством по пути к общему счастью человечества в будущем, нужно скорее подняться киргизскому трудовому народу до культурного уровня русских трудящихся. А для этого необходимо сделать кочевников оседлыми, укрепить и усовершенствовать ведение скотоводческо-земледельческого хозяйства, развивать просвещение и кооперацию».
Эти мысли он уже не раз высказывал на страницах газет и журналов. Но чтобы они претворились в жизнь, видимо, необходимо было повторять их снова и снова.
Сакен выехал в Жымпиты – самый отдаленный и сплошь заселенный казахами уезд Уральской губернии. Там предстояло провести уездный съезд, а заодно и самому поглядеть, насколько укрепилась Советская власть в этом далеком крае.
Жымпиты были некогда столицей западных алашординцев, и, несмотря на их удаленность от культурных центров, здесь было много образованных людей. Втайне Сакен надеялся, что именно здесь он раздобудет уникальные материалы для своей книги «Тернистый путь».
Нерадостное впечатление оставило посещение Жымпитынского уезда.
Жымпиты – очень маленький городок, бедный. Нет в нем ни школ, нет и театров. И всего-навсего единственный клуб. Зато есть мечеть и церковь. А вот грамотных людей в уезде Жымпиты больше, чем во всей Уральской губернии. Но эти грамотеи, оказывается, казахских газет и журналов не читают. А простой люд здесь забитый, темный и более отсталый, чем на других окраинах Казахстана.
Оставалось возлагать надежды на будущее. А оно уже давало о себе знать.
Именно об этом и говорил Сакен на Жымпитынском уездном съезде Советов.
– Хотя тяжелое прошлое навлекает на грустные мысли, вот уже несколько дней я наблюдаю, как трудовой люд Жымпиты повернулся лицом к Советской власти и с доверием стал относиться к новому. Я вижу все это и радуюсь. В том, что собрание уездного Совета прошло по-деловому, безо всяких распрей, выбрано новое руководство, я вижу стремление молодежи к культуре, к знаниям. Я слышал их прекрасные песни и кюи, я знаю, что увеличилось число людей, выписывающих газету «Енбекши казах», а в учреждениях делопроизводство теперь ведется на казахском языке. Все это первые ласточки великих преобразований, дорогие мои братья. И я от всей души желаю вам новых больших успехов! Вчера, взобравшись на развалины дома около базара, я осмотрел окрестности города и подумал, что Жымпиты в недалеком будущем станут одним из прекраснейших городов Казахстана, а Жымпитынский уезд превратится в один из цветущих уголков нашей необъятной Родины!
Постепенно рассеялись невеселые мысли, и в Уральск Сакен вернулся полный уверенности, что будущее его народа прекрасно. Наверное, эта уверенность и подсказала ему тему нового стихотворения, первого на казахском языке стихотворения о великом вожде.
Ленин!
Он поднял лежавших в пыли.
Имя его – святыня нашего времени.
Ленин – величайший провидец земли.
Опора всех угнетенных – в Ленине.
Ленин – свобода, если ты батрак,
Ленин – бой: за равенство бой священен.
Ленин – знамя великих атак.
Твердая политика и мудрость – Ленин.
В январе 1924 года открылся IV съезд Советов Казахской АССР. Самым памятным событием первого дня было вручение съезду Красного знамени рабочими делегатами, прибывшими с Уральско-Эмбинского нефтепромысла.
С ответным словом выступил Сакен Сейфуллин:
– Товарищи, по поручению президиума съезда я выражаю благодарность представителям рабочего класса нашей Уральской губернии. Это скромный и в то же время очень дорогой дар четвертому Всекиргизскому съезду Советов, он дорог тем, что такой дар – Красное знамя – Киргизский краевой съезд от своего малочисленного пролетариата получает впервые. Главная цель создания автономной республики в России заключалась в том, чтобы все угнетенные трудовые народы во главе со своим малочисленным пролетариатом разрешали свои основные задачи. Это у нас осуществляется постепенно. Четвертый Всекиргизский съезд Советов – первый съезд, на котором так ярко ощущается голос пролетариата.
Сидящие в зале бурно аплодировали и дружно скандировали: «Да здравствует пролетариат!», «Да здравствует казахский пролетариат!»
После съезда руководители республики выехали на II Всесоюзный съезд Советов.
Троцкисты навязали дискуссию, стремясь создать фракции внутри партии, подорвать ее единство.
Итоги дискуссии подвела XIII партийная конференция, состоявшаяся 16–18 января 1924 года. Конференция наголову разбила троцкистов. Прибывший на II съезд Советов Сакен Сейфуллин участвовал в работе XIII конференции.
Считанные дни остались до открытия съезда Советов. В Москве трещал жуткий мороз, такой и в казахских степях в редкость. И все же Сакен бродил по столице, не уставая восхищаться ее уютом, ее дворцами, музеями, театрами.
Тревожила болезнь Ленина. Но все надеялись, что он выздоровеет, вернется к работе.
И вдруг известие – в состоянии Ильича произошли резкие перемены к худшему.
А вечером 21 января Сакен узнал, что Ленин умер…
Сакен не находит себе места в просторном номере гостиницы, ходит, покачиваясь взад-вперед. Казалось, небо упало на Землю! Как нам быть теперь? Хотя и есть решение конференции, разве успокоятся эти оголтелые троцкисты?! Разве не попытаются они воспользоваться этой неожиданной трагедией народа?! Ух, беспощадный мир, беспощадная смерть, ведь умеешь же выбирать себе жертву, проклятье тебе, смерть! И когда ты только насытишься!
Уже перевалило за полночь. Сакен устало опустился на стул. Невысказанное, невыплаканное горе давит, душит, путает мысли. И он уже не может сидеть, не может молчать.
Хочется кричать. Стихи родились из крика.
Сегодня скорби пробил час,
Сегодня скорбь пронзила нас,
Сегодня алые знамена
Склонил, скорбя, рабочий класс.
Сегодня, хмурым зимним днем,
Об Ильиче мы слезы льем,
Его заветы вспоминая,
Народ прощается с вождем.
Ильич к борьбе призвал народ,
На сто веков глядел вперед,
И путь, который указал он,
К счастливой жизни нас ведет.
Отметим горечь этих дней,
Сплотив ряды еще тесней
Вокруг знамен непобедимых
Великой партии своей!
В далеком от Москвы Оренбурге утром 22 января собрался КирЦИК.
Траурное заседание было коротким.
«Президиум КирЦИК с глубоким прискорбием извещает о смерти любимого вождя мирового пролетариата В.И. Ленина, который всю свою жизнь посвятил борьбе за освобождение и раскрепощение угнетенных и неполноправных национальностей от вековых цепей капиталистического рабства и эксплуатации человека человеком и заложившего фундамент Союза ССР на основе товарищеского сотрудничества всех трудящихся.
Президиум КирЦИК постановил:
1. Для участия в похоронах В. И. Ленина командировать в г. Москву 5 человек представителей КАССР – 2 киргизов, 1 от военного ведомства, 1 от рабочих и 1 от крестьян.
2. Объявить дни 23, 24, 25, 26 и 27 января с. г. траурными. Все увеселительные учреждения: театры, кинематографы, цирки, рестораны и пивные должны быть закрыты.
3. Аналогичный порядок траурных дней сообщить всем губисполкомам».
Это постановление было опубликовано в газетах.
Мороз. Костры на площадях. И нескончаемые вереницы молчаливых, плачущих людей на улицах.
От Павелецкого вокзала вслед за гробом Ленина идут и делегаты съезда Советов.
Идет Сакен. Идет и повторяет, повторяет без конца:
В рабочем классе скорбь и стон,
Но, до зубов вооружен,
Шагает с траурной повязкой
Он впереди людских колонн.
В своей печали он суров
И до конца разбить готов,
Борясь за дело ленинизма,
Любые происки врагов.
То ли это конец того, вчерашнего, стихотворения или это новые стихи, рожденные скорбью?
Колонный зал Дома союзов в трауре. Печальная, хватающая за душу музыка. Шаркают тысячи подошв.
В тиши то здесь, то там прорываются рыдания.
Сакен стоит в почетном карауле у гроба вождя. И ничего не видит. Слезы, беззвучные слезы застилают свет, людей.
Сегодня никто не стесняется слез…
Сакен отошел от гроба с таким чувством, словно и постарел на десять лет, и возмужал в горе. Еще раз прочитал обращение ЦК РКП (б). Оно теперь у него в сердце.
«Умер человек, который основал нашу стальную партию… Умер основатель Коммунистического Интернационала, вождь мирового коммунизма, любовь и гордость международного пролетарита, знамя угнетенного Востока, глава рабочей диктатуры в России. Но его физическая смерть не есть смерть его дела. Ленин живет в душе каждого члена нашей партии.
Ленин живет в сердце каждого честного рабочего.
Ленин живет в сердце каждого крестьянина-бедняка.
Ленин живет среди миллионов колониальных рабов…»
Эти строки побудили Сакена написать статью «Ленин и пробуждающийся Восток».
«Ленин – дорог для всех народов Востока. В их глазах Ленин – гений из гениев, дальновидный провидец, исключительный герой.
Товарищ Ленин, рожденный на голову выше всех провидцев, всех гениев в истории человечества, Ленин – предводитель трудящегося класса, всего мира. Весь мир знает о том, что Ленин был и есть Красное знамя борьбы за свободу, за счастье всего трудящегося класса, все наши победы на любых фронтах сражений связаны с его именем. Нет во всем Востоке, в бескрайней Сахаре ни одного дома, ни одной лачуги, в которой не знали бы имя Ленина. Глубоко скорбят эти дома и лачуги, услышав страшную весть: «Любимый предводитель ушел из жизни…»
Сердце мое разрывается от бесконечной боли, от скорби, великий учитель, преклоняюсь перед твоим безжизненным телом, поклон мой тебе!» – так закончил Сакен свою статью, предназначенную для «Известий».
Сакен вернулся в Оренбург. Долго не мог он прийти в себя после великого горя. Чтобы рассеять тяжелые думы, написал стихотворение «Красная звезда», посвященное вступлению в ряды партии в дни ленинского призыва своего товарища по Омской семинарии Таутана Арыстанбекова.
Связав свою судьбу с просвещением, Сакен никогда не переставал думать об улучшении культурно-просветительной работы. Даже в обыденных статьях, связанных с хозяйственными вопросами, он находил повод высказать свои мысли относительно роли просвещения в жизни народа.
«Учись, открой глаза, избавляйся от безграмотности». «Если делом, силой, языком – всеми доступными средствами не будешь способствовать улучшению просвещения, то подрастающее поколение будет проклинать тебя».
Сакену было чуждо мнение, что вот эти знания хороши, а вот эти плохи. Все радовало Сакена: и учитель, без устали воспитывающий детей; и ветеринар, борющийся с болезнями животных; и милиционер, блюдущий порядок; и наборщик, набирающий рукопись; и солдат, обучающийся защищать свою Родину; и счетовод, осваивающий тонкости учета государственного и народного добра; и ребенок, который пытается, но еще никак не может научиться правильно держать карандаш.
Сакен всегда готов был как поэт – воспевать прекрасную жизнь, как руководитель – приказывать для пользы дела, как журналист – поднимать жизненно важные проблемы.
На заседании президиума КирЦИК от 6 марта 1924 года обсуждалась работа комиссии по введению в учреждениях делопроизводства на казахском языке. А. Джангельдин, Н. Нурмаков, Ж. Садуакасов, С. Сейфуллин отметили, что декрет, принятый еще в 1923 году, выполняется неудовлетворительно. Сейткали Мендешев. Коростелев. Авдеев высказались на этот счет уклончиво, а Мухтар Саматов стал утверждать, что казахский язык нужно и возможно применять только на местах.
КирЦИК вынужден был принять повторное решение. Сакен направил всем председателям губернских и уездных исполкомов «Открытое письмо». Резкое письмо со справедливыми упреками в адрес местных работников, опасающихся, что, ратуя за казахский язык, они могут прослыть «националистами». Сакен, разоблачая эту демагогию, еще раз напоминал о необходимости вводить казахский язык в делопроизводство и не только сверху вниз, а прежде всего – снизу вверх.
Для того чтобы скорее обучить казахский народ грамоте, нужно было упростить арабский алфавит, сделать его доступным для масс.
Естественно, возникла мысль о том, что реформа алфавита – дело неотложное. Именно об этом и говорили казахские ученые на своем первом съезде.
Сакен выступил с конкретными предложениями, которые потом легли в основу постановления КирЦИК.
К лету 1924 года между руководителями Казахской республики возникли разногласия, которые, конечно же, мешали их плодотворной работе. Мендешев и Коростелев уже меньше прислушивались к мнению Сакена. Уехал в Москву Абдулла Асылбеков, Шарипов ушел в «Эмбанефть», Жанайдара на посту секретаря сменил Ураз Исаев.
30 сентября КирЦИК рассматривал вопрос о включении в Казахстан Сырдарьинской и Семиреченской областей.
В тот же вечер корреспондент газеты «Степная правда» взял у Сакена интервью в связи с четырехлетием Казахской республики.
«Четыре года тому назад, – отметил Сакен, – перед нами во весь рост стоял вопрос о киргизских работниках. Чувствовалась неподготовленность к управлению тех молодых работников, которые были призваны к созданию молодой республики. За это время научились работать как в масштабе уездов, так и губерний.
В киргизские степи политическое сознание до сих пор еще глубоко не проникло. Тот промышленный киргизский пролетариат, который был в Восточной Киргизии, разошелся по степям. Отсутствие классового сознания объясняется еще и родственными связями. Они еще очень сильны.
При кочевом образе жизни привить культуру трудно, и наша первая задача – это землеустроение, научить ведению хозяйства и улучшить его. Пока в этой области за отсутствием средств успехи невелики, хотя стремление к оседлости можно считать поголовным.
В деле введения в работу советских органов киргизского языка сделано очень много. Можно сказать, что почти во всех волостях уже пишут на киргизском языке…»
К своему пятилетию Киргизская социалистическая республика подошла окрепшей как экономически, так и политически.
Но новые задачи индустриализации, повышения эффективности сельского хозяйства решали уже новые руководители республики.
Вместо Коростелева секретарем обкома стал Ненайшвили, вместо Мендешева председателем президиума КирЦИК был избран Мынбай Жалауов. Пост председателя СНК занял Ныгымет Нурмаков. Смагула Садвакасова назначили народным комиссаром просвещения и редактором газеты «Енбекши казах». Таким образом, основной и решающий руководящий состав целиком был переизбран.
Перед Сакеном открывались новые возможности для усиленной творческой работы. Уезжая на XI съезд Советов, Сейфуллин предупредил новое руководство республики, что хочет поступить в Социалистическую академию, дабы пополнить свое образование и потом всецело сосредоточиться на чисто литературной работе.
В Москве Сакен сразу же вошел в круг ведущих советских писателей и попытался разобраться в тех направлениях и организационных принципах, которые бытовали среди них.
Чем отличается, например, организация «Кузница» от РАПП, какие организационные формы наиболее приемлемы для молодой, только что встающей на ноги казахской литературы?
Сакен встречается с Владимиром Кирилловым, высоко ценившим дарование Сейфуллина. Кириллов был ответственным секретарем «Кузницы» и, естественно, стремился обратить Сакена в свою «веру».
Но Сакен был осмотрителен. Разговор между ними походил на обмен взаимными колкостями.
– Владимир Тимофеевич, как говорится в этих строчках:
Во имя нашего Завтра – сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы, —
все еще продолжаете рушить или уже начал глодать вас червь сомнения?
– Сакен Сейфуллинович, не стоит придираться. Чего не наговорит поэт, когда трясет лихоманка вдохновения! Что там я, даже твой друг Владимир Маяковский подарил мне «Мистерию-буфф» с таким автографом: «Товарищу по борьбе с Рафаэлями». Всему свое время. А время было интересным, Сакен.
– Владимир Тимофеевич, я ведь пошутил. А если серьезно, то у меня куча вопросов к вам. У нас в Казахстане, как вам известно, еще не создана организация писателей. Вот и хотел бы ознакомиться с вашим уставом и программой.
Кириллов великодушно подарил Сакену экземпляры устава и программы «Кузницы», выразив при этом надежду, что и в национальной республике теперь будет еще одно отделение этой ассоциации.
От Кириллова Сакен зашел к Селивановскому, одному из руководителей РАПП. И объяснил суть дела. Тот, в свою очередь, протянул Сакену отпечатанный типографским способом устав и платформу РАПП.
– Это мы утвердили в январе, на совещании при участии Анатолия Васильевича Луначарского. Могут быть изменения, но пока пользуйтесь. Хорошее начинание, и в других республиках создаются организации писателей. Удачи вам, – пожелал Селивановский.
А в доме старого друга Феоктиста Березовского Сакен узнал, что Центральный Комитет РКП (б) создал комиссию во главе с Фрунзе.
Основная ее цель – определить конкретную политику партии в области художественной литературы. Оказывается, все литературные группы и организации Москвы, которых было слишком много, высказались за то, чтобы как-то привести в систему писательские организации.
– Система системой, а представители различных групп напропалую расхваливают свои творческие платформы и поносят соседей. – Завидев Сакена, Федор Гладков неожиданно спросил: – А как у вас в республике?
– Наши поэты и писатели все еще не могут выбраться из пеленок, – ответил Сакен. – В этом году и мы, наверное, создадим свою организацию. Наше положение яснее, чем ваше: у нас есть еще такие литераторы, которые открыто выступают против революции. И здесь предстоит идейная борьба, она сплотит истинно революционных писателей.
– А какие-нибудь организации есть?
– Пока нет. По приезде, видимо, возьмемся.
– От разрозненных групп толку не будет. Лучше бороться организованно, – заключил свою мысль Гладков.
Перед выездом Сакен сходил в РОСТА, чтобы увидеться с Маяковским. Но тот оказался в командировке.
По дороге домой, в новую столицу Кзыл-Орду, Сакен вспомнил, что он давным-давно не писал стихов. И что ему уже не терпится вот тут, сейчас же, в поезде, сесть за поэму. И название есть – «Мать сыра земля».
О, если бы мир весь с нами
Под Красное встал знамя
И власть Советскую признал своей,
О, если б все народы
Под знаменем свободы
Трудились бы для счастия людей.
Поезд добирался до Кзыл-Орды долго, и все же поэму кончил уже дома.
Я землю обнимаю —
Теперь я понимаю,
Как мне она, родная, дорога!
Земля – моя отрада,
Мне ничего не надо —
Была б она цветущею всегда.
О вы, цветы и травы,
В одном всегда вы правы, —
Что надо вас лелеять и любить.
Средь вас любое сердце
Сумеет загореться
И песню вдохновенную сложить.