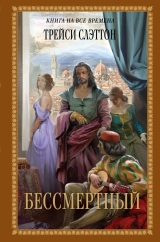
Текст книги "Бессмертный"
Автор книги: Трейси Слэттон
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 35 страниц)
– Ты был молод, когда твой отец передал тебе управление Флоренцией, – заметил я и снова присел на край кровати, где когда-то давно разговаривал с больным Козимо.
– Слишком молод! – вздохнул Лоренцо. – Достаточно силен, чтобы делать то, что должен был. Но я наделал много ошибок.
– Я никогда не думал, что ты способен признаться в этом!
Лоренцо поднял глаза на украшенный лепниной потолок.
– Я вернул во Флоренцию людей, которых здесь быть не должно.
– Семейство Сильвано.
Он криво усмехнулся и от боли зажмурил глаза.
– Других, не имеющих к тебе отношения. Но я сожалею, что вернул эту семью, Лука Бастардо! Правда сожалею. Я был рад за вас с Маддаленой, когда вы поженились. Я понял, что ты любишь ее, когда вы сидели рядом за ужином, вскоре после покушения на мою жизнь и убийства моего брата Джулиано. А ты получил мой свадебный подарок?
– Несколько бочек отборного вина, – ответил я, подняв брови. – Конечно. И все проверил, не отравлено ли оно.
Лоренцо снова засмеялся, и на этот раз смеялся, пока не закашлялся. Его пронзительный гнусавый голос зазвучал почти бодро, когда он заговорил снова.
– Значит, я все-таки правильно тебя оценивал, Лука Бастардо! Это утешает. У тебя нет чувства юмора. Убив тебя, я бы испортил игру, Бастардо. Закончил бы ее слишком рано. Ты еще не понял?
– Гораздо забавнее смотреть, как я корчусь.
Лоренцо медленно кивнул.
– На твоем месте я бы опасался не семьи Сильвано. Ты успешно избегал их долгое время… Сто лет? Больше? – Он помолчал, пристально глядя на меня, но я не ответил, и он глубоко вздохнул. – Два года назад я вернул во Флоренцию человека, которого нельзя было возвращать. И он может стать причиной беды. У меня плохое предчувствие на его счет. Это доминиканский проповедник, родившийся в Ферраре.
– Моей жене нравится красноречивый августинианский монах Фра Мариано.
– Как и всему высшему классу. Но у popolo minuto [131]131
Мелкий люд (ит.). (Дословно: «тощий народ».)
[Закрыть]другие пристрастия, – возразил Лоренцо. – Им нравится слушать о греховности. Им нравится слушать, как обличают тщеславие высших классов. Они-то не могут себе его позволить, того самого тщеславия, которое привело Флоренцию к величию, поэтому хотят слышать, как его осуждают.
Я прищурился, соображая.
– Ты говоришь о том дураке, который проповедует против хорошего искусства и платоновской философии и пугает людей неминуемым концом света, если мы немедленно не одумаемся и не исправимся?
– Он не дурак, хотя даже уродливее меня. Он утверждает, что его устами глаголет сам Бог, и его проповеди стали так популярны, что Сан Марко уже не вмещает его последователей. Он перебрался в Санта Мария дель Фьоре. Юный гений Пико делла Мирандола утверждает, что этот монах святой человек, хотя тот беспрестанно критикует нас, Медичи. Он хочет, чтобы Флоренция приняла новую конституцию, основанную на венецианской, но без должности дожа!
– Его проповеди собирают огромные массы людей, – согласился я и пожал плечами. – Меня это не волнует. Флорентийцы останутся флорентийцами, мы – народ, который любит удовольствия, деньги и вкусно поесть, он рождает великих художников, мыслителей и банкиров. Ни один монах, как ни гори он ревностным пылом, не способен изменить природную основу Флоренции и ее народа.
– Окончательно не изменит, – прошептал Лоренцо, – но он зажег воображение людей, и через несколько лет это приведет к беспорядкам, вот увидишь! Я знаю наш народ. Я знаю, чего он хочет. Этот монах воспользуется вторжением франков, чтобы переделать Флоренцию на свой лад. Он выгонит Медичи. Его проповеди затронут церковь и потрясут ее основы. Он уже назвал церковь продажной девкой. Он навлечет на Флоренцию гнев Рима. Он хочет реформ, в церкви и во всем городе. Между двух огней – между ним и франками – Флоренция потеряет силу. Она больше никогда не будет пятым элементом и величайшим городом на земле. Если бы я остался жив, то изгнал бы этого монаха. А скорее всего, умертвил бы его во сне. Следи за ним и остерегайся, Лука! У тебя необычный дар, и если Сильвано привлечет к нему внимание этого монаха, тот обвинит тебя в связи с дьяволом. На твоем месте я бы боялся за себя и свою семью. Бойся Савонаролы! [132]132
Джироламо Савонарола – знаменитый итальянский проповедник и общественный реформатор. Светская жизнь и религиозно-нравственное падение Италии сильно возмущали Савонаролу. Некоторые из его ранних стансов посвящены печальному состоянию церкви, порче нравов и разрушению добрых отношений между людьми. Он утверждал, что, подобно ветхозаветным пророкам, передает лишь веления Божии, угрожал проклятием тому, кто не верит в его пророческое призвание, обличал испорченность нравов флорентийцев, не стесняясь в выборе выражений. В своих вдохновенных проповедях Савонарола часто смешивал свои мысли с текстами Св. Писания, говоря в свое оправдание, что «слова эти недавно сошли с небес». Влияние его, ставшее огромным, усилилось благодаря исполнению некоторых его предсказаний – смерти Папы Иннокентия, нашествию французского короля и др.
[Закрыть]
Лоренцо умер несколько недель спустя, и слова, сказанные им на смертном одре, исполнились. После смерти Лоренцо проповеди Савонаролы стали еще более яростными, предрекая Апокалипсис. Этот монах твердо решил искоренить во Флоренции разврат и пороки и утверждал, что все это взрастили Медичи. Он предсказывал бедствия и опустошительные войны. В1492 году Савонарола предсказал, что умрут Лоренцо и Папа Иннокентий, а когда они действительно умерли, он еще больше осмелел. Он обрушивал тирады с кафедры главного собора: Флоренция очистится силою франкской армии. Как он и предсказывал и как предупреждал меня Лоренцо, в 1494 году на полуостров вторглась многотысячная франкская армия короля Карла. Армия пересекла Альпы под белыми шелковыми знаменами с надписью: «Voluntas Dei». [133]133
Воля Божья (лат.).
[Закрыть]Лодовико Сфорца, правитель Милана, решил воспользоваться этим для осуществления собственных амбиций и приветствовал вторжение, несмотря на союз Милана с Флоренцией.
Армия двинулась на юг, и Пьеро де Медичи, сын Лоренцо, попытался мирно договориться с Карлом, уступив ему Пизу и несколько других крепостей на тирренском побережье. Флоренция, которая гордилась господством над Пизой, пришла в негодование от такого малодушия. Синьория закрыла свои двери для Медичи и изгнала их из Флоренции. Взбунтовавшаяся толпа ворвалась в легендарный дворец на Виа-Ларга и разграбила его. Савонарола использовал свое влияние на народ, чтобы провозгласить новую республику. Он объявил вне закона азартные игры, скачки, непристойные песни, сквернословие и богохульство, чрезмерную пышность и все проявления безнравственности. Он назначил суровое наказание для нарушителей: за богохульство прокалывали язык, а за мужеложство кастрировали. Безобразный монашек приветствовал армию франков как освободителей. От имени Флоренции он договорился с королем Карлом, что его армия станет лагерем за пределами городских стен. Но 17 ноября 1494 года переговоры Савонаролы обнаружили свою несостоятельность: король Карл ввел во Флоренцию двенадцатитысячное войско.
Для Флоренции это было нелегкое время: сначала Савонарола присвоил себе власть, затем франкская армия оккупировала город на одиннадцать дней. Даже после отступления франков во Флоренции не восстановилось спокойствие. Закрылись таверны и публичные дома, юноши пели псалмы вместо похабных песенок, и в городе хозяйничали неуправляемые банды детей, которые называли себя «плакальщиками» и приводили в исполнение жестокие законы Савонаролы. Торговля приходила в упадок, Пиза заключила союз с Венецией и Миланом, франкская армия отступила, к этому добавился неурожай, и Флоренция, город банкиров и купцов, разорилась.
Каким-то чудом напряжение тех дней никак не коснулось нас с Маддаленой. Мы жили просто и тихо, стараясь не привлекать к себе внимания. Мы были поглощены друг другом и нашей любимой Симонеттой. Мы довольствовались нашей любовью и гордостью за нашу дочь, и они защищали нас, как щитом, поэтому перипетии политической жизни нас мало затрагивали. Мы отгородились ото всех блаженством нашей любви. Оглядываясь сейчас назад, я считаю это настоящим даром судьбы. Рядом происходили трагические события, но мы их не замечали, мы жили и любили. Если бы я знал, как скоро все потеряю, я бы не смог насладиться тем временем сполна. Наше неведение и общие радости позволяли нам плыть по течению времени, как река, свернув в новое русло, впадает в океан. Маддалена легко подчинилась ограничениям в одежде, которые ввел Савонарола, хотя никогда не посещала его проповедей. А потом, в феврале 1497 года, она пришла домой и убедила нас с Симонеттой пойти на карнавал трезвости и самопожертвования, устроенный Савонаролой.
Когда она пришла, мы с Симонеттой занимались латынью. Я отказался нанимать учителя и предпочел сам проводить время с дочерью. К тому же я был неплохим учителем. Я ведь учил мать этого умного дитяти и даже был учителем такого выдающегося человека, как Леонардо, о чьих работах в Милане трубила вся Италия. Он прислал мне письмо и набросок с изображением фрески «Тайная вечеря», которую завершал на стене трапезной в доминиканском монастыре Санта Мария делле Грацие. Я собирался съездить в Милан, чтобы посмотреть на нее. Сандро Боттичелли видел ее, он плакал, когда описывал мне эту картину. Боттичелли клялся, что это чудо, поразительное и мастерски исполненное изображение драматического момента – момента, когда Христос сказал: «Один из вас предаст меня». Характер каждого апостола раскрыт в выражении лиц персонажей фрески: потрясенный Андрей с разинутым ртом; готовый хвататься за нож, дабы доказать свою невиновность, вспыльчивый Петр; черноволосый, застывший в одиночестве Иуда, который виновато отстраняется от Христа. Сам Леонардо написал мне: «У художника две цели: изобразить человека и замысел его души. Первое легко, второе сложно, потому что душу нужно передать через движения тела».
Но Леонардо превосходно показал на своей фреске каждую душу, в том числе глубоко трогающее сердце безмятежное душевное спокойствие и красоту Христа. К виртуозному портретному изображению Леонардо добавил безукоризненную композицию из скрытых треугольников и восхитительную сопряженность обычных, но преображенных его кистью предметов последней трапезы Христа и первого святого причастия: винных кубков, вилок, караваев хлеба и оловянной посуды. Символ жизни хлеб предвещал смерть. Но неотъемлемой частью последней трапезы перед распятием была святость причастия, вечное благословение для верующих. Поэтому смерть неотделима от жизни, а самый обычный момент заключает в себе искупление и трагедию.
Один из таких обычных моментов застал нас с Симонеттой наверху, в мастерской, которую я превратил для нее в детскую. Мы работали над переводом Цицерона. Для десятилетней девочки это было трудное занятие, но умница Симонетта справлялась. Послышался звук хлопнувшей двери, и мы сбежали вниз посмотреть, кто пришел.
– Мама! Как я рада тебя видеть! – засмеялась Симонетта и запрыгнула в объятия матери.
– Милая Симонетта! – Маддалена обняла девочку. – Как ты? Все мучаешься с латынью?
– Да, час, который мы провели без тебя над латынью, был для малышки настоящей пыткой, – сказал я и через маленькую белокурую головку потянулся, чтобы поцеловать Маддалену, вдохнуть аромат сирени и лимона и провести рукой по нежной щеке.
Я никогда не упускал возможность прикоснуться к жене, и позже меня это утешало. Она весело произнесла:
– Лука, Фра Савонарола устраивает очередной карнавал.
– Карнавал? Вот как он называет эти унылые сборища? Карнавал – это когда прекрасная женщина в маске целует мужчину на мосту так, словно он единственный на всем белом свете!
Маддалена засмеялась.
– На этот тоже стоит посмотреть. Весь город сегодня гуляет, слушает его проповеди и участвует в шествии. Почему бы тебе не пойти, и малышку тоже возьмем, повеселимся на славу?
Я старался не попадаться монаху на глаза из опаски привлечь внимание после того, как меня предостерег проницательный Лоренцо. Но когда-то давно я пообещал говорить Маддалене только «да». Даже после пятнадцати счастливых лет, проведенных вместе с ней, для меня было делом чести сдержать эту клятву. Я согласился, надел самую скучную и строгую тунику, плащ, и мы втроем вышли из дома.
Ярость выжигала улицы Флоренции: ярость очищения, совершенствования, слепого подчинения безумцу, самопровозглашенному голосу Бога. Мне надо было догадаться, что подобное стремление к очищению в конечном итоге приведет к трагедии, смертям и горю. Толпы людей в серой тусклой одежде хлынули на площадь Синьории. Стоило нам свернуть на Виа-Ларга, как к нам подлетели малолетние разбойники, исполнители воли Савонаролы.
– Отдайте нам одну из ваших суетных вещей! – потребовал коренастый черноволосый мальчуган лет двенадцати. – Какое-нибудь имущество, к которому вы чрезмерно привязаны, которое мешает вам подчиниться добродетели!
Остальные восемь детей, все одетые в белое, с криками обступили нас, и Симонетта, которой было всего десять лет, с любопытством уставилась на них.
А мальчик пригрозил:
– Мы не уйдем, пока вы не отдадите суетность, мы собираем ее для самого святого Савонаролы!
– Вот, вот, – засмеялась Маддалена и, стряхнув с плеч накидку, отстегнула рукава из чистейшего изумрудного шелка.
Дети радостно закричали и схватили рукава. Я улыбнулся при виде тонких белых рук Маддалены. Они вызывали у меня безнравственные мысли, которых праведный Савонарола никогда бы не одобрил.
– Вы будете вознаграждены на небесах! – воскликнул мальчик, и дети убежали приставать к очередному флорентийцу.
– Ты слишком щедра, Маддалена, – сухо сказал я и помог Маддалене надеть серую накидку.
– Мама всегда замечательная, но вряд ли сейчас у нее был выбор, – практично заметила Симонетта. – От них так легко не отделаешься! Интересно, если бы они читали Цицерона, то были бы более воспитанными?
От таких слов мы, естественно, прыснули со смеху и бросились обнимать дочку. Вот так, прижавшись друг к другу, мы трое шли к площади.
Даже на подходах к площади было так тесно, что яблоку негде упасть. Ропот толпы казался зловещим, и грудь моя сжалась от тревожного предчувствия. Я по опыту знал, что большие скопления людей можно легко подбить на жестокости. Я помнил, как в первую эпидемию чумы толпы хотели сжечь меня якобы за колдовство, забрасывали камнями Моисея Сфорно и маленькую Ребекку. Я вспомнил армию, которая громила родной город Маддалены Вольтерру. Есть что-то в человеческой природе, отчего люди, собравшись в достаточном количестве, принимаются беспричинно разрушать что попало. Я подумал было повернуть обратно домой, но сквозь толпу было не пробиться. Маддалену, Симонетту и меня толкали вперед напиравшие сзади ряды. Я крепко держал Симонетту за одну руку, а Маддалена вцепилась в нее с другой стороны.
Наконец в центре площади перед нами предстало ужасающее зрелище: высокая пирамида из обломков тянулась в небо на десять этажей. Подталкиваемые сзади, мы медленно приближались к подножию пирамиды, и тут предметы приобрели четкие очертания прекрасных вещей, которыми полнилась и была богата Флоренция. Там были книги, картины, карнавальные маски времен Лоренцо, зеркала, пуховки для пудры, кости и карты, баночки с румянами, флакончики духов, бархатные шапочки, шахматные доски, лиры и бесчисленное множество других вещей. Здесь были дешевые безделушки и драгоценности. В куче я разглядел несколько картин Боттичелли, Филиппино Липпи, Гирландайо и одну картину, в которой я безошибочно узнал раннюю работу Леонардо. Сердце мое стеснилось в груди. Я увидел дорогие платья и отороченные мехом накидки, расписные сундуки, золотые браслеты, серебряные потиры и даже усыпанные драгоценными камнями распятия. И толпа, кольцом окружившая пирамиду, продолжала бросать в кучу новые предметы, расставаясь с драгоценной искусной суетой, обладание которой превратило Флоренцию в ослепительную королеву городов итальянского полуострова.
– Швыряйте, швыряйте все золото и украшения, швыряйте туда, где бренная плоть становится добычей червей! – кричал голос, и я понял, что это сам Савонарола.
Я никогда его не видел, меня не интересовали его проповеди, я не хотел иметь с ним ничего общего, но теперь вытянул шею, дабы разглядеть его лицо. Все-таки этот монах вывернул Флоренцию наизнанку. Его слова вызвали дружный рев, который почти поглотил его следующую фразу:
– Кайся, о Флоренция! Облачайся в белые одежды очищения! Не медли, ибо времени на покаяние больше не будет! Господь прислал меня сказать вам: «Кайтесь!»
Наконец я сумел протиснуться и разглядеть его лицо. И тут же узнал его. Это был худой монах с горящими глазами, которого мы повстречали много лет назад, сразу после рождения Симонетты. Это был монах, который видел, как мы с Маддаленой занимались любовью на мосту. Все мои давние инстинкты проснулись и кричали мне об опасности, что находиться здесь нам нельзя и добром это не кончится. У меня мурашки забегали по рукам и шее, в животе бурлило, как будто я до сих пор был в борделе, а Савонарола на самом деле не кто иной, как Бернард о Сильвано.
– Маддалена, нам нужно уйти! – настойчиво проговорил я. – Немедленно!
Но она меня не слышала. Слева от нас поднимался какой-то гвалт: кто-то с венецианским акцентом предложил двадцать тысяч скудо за все предметы искусства, которые были свалены в эту кучу. Разумный человек среди диких животных, подумал я, но обезумевшая толпа изрыгнула вопль возмущения. И голос венецианца внезапно умолк. Я снова закричал Маддалене – бесполезно! Трубили трубы, звонили колокола, и Симонетта выпустила мою руку. Она ткнула во что-то пальцем и побежала, Маддалена едва успела ее поймать. Я пытался бежать следом, но путь мне преградила группа бесноватых, схвативших венецианца и начавших избивать его. Я проталкивал себе путь кулаками и ногами, но не мог высвободиться из этой группы, пока безжизненное тело венецианца не бросили в кучу. К тому времени Симонетты и Маддалены и след простыл.
Я в панике вертелся по сторонам, выкрикивал их имена, но на площадь уже хлынули стражники, чтобы окружить кострище, и я даже не слышал собственного голоса за гулом толпы и звоном всех городских колоколов. Казалось, на площади и окружавших ее улицах сейчас собрались все сто тысяч жителей Флоренции. Я расталкивал людей, лихорадочно вглядываясь в лица. Я звал жену и дочь, пока не осип. Стражники подожгли пирамиду сует, и за этим зрелищем с балкона наблюдала Синьория. Я взбирался на стены и ворота, заглядывал в толпу сверху, но тщетно. Спустя несколько часов я отправился домой, зная, что Маддалена и Симонетта вернутся туда.
Я прокладывал себе путь сквозь встречный поток людей, которые направлялись к кострищу Савонаролы. Желто-красное зарево погребального костра Флоренции озаряло небеса. Когда я наконец добрался до дворца, у дверей меня ждал Сандро Филипепи. Лишь бросив взгляд на него, я понял: что-то случилось. Сандро, этот веселый и неунывающий человек, рыдал.
– Не заходи, – отрывисто выдавил Сандро и обнял меня, прижавшись к моей щеке залитым слезами лицом.
– Что случилось? – воскликнул я. – Где Маддалена и Симонетта?
– Возьми себя в руки, Лука, – всхлипнул Сандро и схватил меня за руки. – Я думал, что Савонарола спаситель, что он предложил нам хоть какое-то решение… Но это!
Он отступил в сторону.
Я вбежал через открытую дверь в вестибюль, где маленьким безмолвным кружком стояли люди: мои слуги, толстая служанка Маддалены, две подруги жены и несколько незнакомцев. Все они рыдали. Поняв, что произошло, я в ужасе вскрикнул. И они расступились. На полу лежали Маддалена и Симонетта. Обе насквозь мокрые, их темные платья раскинулись веером вокруг бледных светящихся тел, как чернильные кляксы. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять: они мертвы, но я все равно пощупал пульс. Сначала склонился над Симонеттой, потому что знал: так захотела бы Маддалена. Светло-рыжие, как у меня, волосы нашей дочурки пропитались водой, как и простенькое коричневое платьице, какие требовалось носить по распоряжению Савонаролы. Накидки не было, и я убрал с лица дочки густую прядь волос, прежде чем мои дрожащие пальцы осмелились опуститься на шею. Ничего! На запястье тоже ничего. То же самое с Маддаленой. Я вернулся к Симонетте, поднял ее маленькую, милую головку, запрокинул назад и вдохнул ей в рот воздух. Не знаю, сколько раз я дышал за нее, чтобы она очнулась, но потом Сандро сумел оттащить меня.
– Хватит, достаточно! Им уже не поможешь, Лука, – всхлипнул он.
– Как это произошло? – в оцепенении спросил я.
На стене горели яркие факелы, но я почти ничего не видел. Перед глазами все расплывалось – люди и стены смешались в моих глазах, буйный калейдоскоп красок придавил меня сверху каменной стеной. Я едва мог сосредоточить взгляд. В груди моей не осталось воздуха, я не дышал, замкнутый в своем теле.
– Я увидела, совершенно случайно, – в слезах прошептала служанка Маддалены. – Сам Савонарола заметил ее в толпе и ткнул в нее пальцем, как будто он ее знал. Он начал кричать: «Шлюха! Шлюха!» Люди подняли ее на плечи, чтобы монаху было виднее, и он начал обличать книгу, которую она держала в руках. Она хотела спасти эту книгу из костра. Кажется, это была книга по астрологии, потому что он орал: «Шлюха! Звездочетка!» А потом ее уронили с плеч, и целая свора народу погнала Маддалену к Арно. Они обзывали ее шлюхой, кричали, что астрология – это богохульство, что ее нужно очистить. Симонетта помчалась следом и бросилась в реку, чтобы помочь матери. Тут накатил огромный вал, и они утонули! Немного спустя они всплыли.
– Я слышал то же самое, – скорбно произнес Сандро. – Савонарола как-то увидел книгу по астрологии и магии, которую держала твоя жена, и заорал: «Шлюха! Колдунья!» И потом все закричали, и бешеная толпа погналась за ней. Девочка бросилась следом, хотя Маддалена старалась ее оттолкнуть и уговаривала бежать от нее. Но решительная Симонетта не стала ее слушать.
– Решительная… – прохрипел я. – Она была предана мне и матери.
Я помотал головой, чтобы прояснить зрение. Меня окружали потрясенные лица, и я махнул им, чтобы уходили. Я выгнал всех, даже служанку, которая выла от горя, и другим слугам пришлось увести ее силой.
Оставшись один, я лег на пол между Маддаленой и Симонеттой. Я взял обеих за руки. Речная вода с одежды собралась в лужу на полу, впитываясь в мою одежду, в мою кожу и кости, словно пытаясь растворить то, что осталось от меня после этой утраты, – пустую, бесполезную телесную оболочку. Я пролежал так молча долгое время, дожидаясь смерти, молясь о ней. Я молился прежде только дважды: когда стоял перед фресками Джотто в Санта Кроче и после похорон толстого рыжего Джинори в фьезольских холмах. Я завидовал Джинори, который умер вскоре после своей семьи, и молился о том же. Я молился о смерти. Я молил Бога о том, чтобы он соединил меня с женой и дочерью, где бы они ни были. Я умолял его и обещал отдать все, лишь бы он закончил эту шутку и дал мне умереть.
Но мои молитвы не сразу были услышаны. Стало ясно, что этой ночью я не умру, и тогда я начал говорить с Маддаленой и Симонеттой. Я говорил о том, как сильно их люблю. Я говорил, как много они для меня значат, как они важны для меня, как бесконечно я благодарен за возможность любить их. Я не раз говорил им об этом и раньше, и хотя бы в этом было какое-то утешение. А потом я начал рассказывать им свои тайны. Тайны, которые должен был раскрыть любимой Маддалене, пока было не поздно, но не сделал этого, потому что во мне засел страх.
– Мое имя Лука, и, наверное, я бессмертен, – заговорил я. – Мне больше ста семидесяти восьми лет. Я не старею, как другие люди. Я знал Джотто, а мой лучший друг по имени Массимо продал меня в бордель. Я убил многих людей.
Когда от звуков моего голоса по закопченным от факелов стенам побежали дрожащие тени, мне показалось, что мои жена и дочь сидят рядом и слушают.
Когда на другое утро пришел Сандро, я уже потерял рассудок.
К похоронам Маддалены и Симонетты рассудок мой еще не вернулся. Сандро одел меня и продержал всю панихиду, поэтому я не порвал на себе одежду и не носился с воем по церкви. А потом я бросил дворец и стал жить на улице. Богатства, сытость и прекрасный дом больше не имели для меня значения. Как в далеком детстве, я спал на площадях и под стенами близлежащих церквей, под четырьмя мостами через Арно и у высоких каменных городских стен. Я ел то, что находил или что мне подавали. Мне уже было все равно. Я снова стал оборванным нищим, с длинными грязными космами и запущенной, свалявшейся бородой. На один короткий миг в моей голове настало просветление, когда погребальный костер раздвинул пелену, которая застилала мой разум, и что-то в нем ненадолго прояснилось. Костер горел на площади Синьории. На том же самом месте, где Савонарола устраивал сожжение сует, был воздвигнут дощатый эшафот. На костре сожгли тела Савонаролы и еще двух монахов, после того как их повесили инквизиторы. Пока языки пламени лизали небо, я на короткий миг почти снова стал собой. Находясь на грани безумия и рассудка, я отчетливо понял, в чем ошибся этот монах. Савонарола не понимал одного существенного факта. Если правда, что потусторонний мир наполняет смыслом эту жизнь, то правда и то, что этот мир наполняет смыслом мир иной. Аксиома человеческого сердца заключается в том, что мы, как верил Фичино, боги, но в то же время мы прах и пыль, плодоносная бурая земля, что лежит на холмах, под зеленой порослью лесов и на черных полях, вспаханных перед севом. Мы – создания небес и земли. И спасение наше не в чистоте, а в богатстве, которое дает нам земля.
Через несколько часов тела трех монахов сгорели, и обуглившиеся конечности постепенно отвалились. Остовы еще свисали с цепей, которыми они были привязаны к эшафоту, и толпа забрасывала их камнями. А потом палач с помощниками подрубил подмостки и сжег их на земле, добавляя горы хвороста и вороша огонь над трупами, чтобы он поглотил каждый кусочек этих тел. Прибыли повозки и увезли прах, чтобы сбросить в Арно у Понте Веккьо, дабы останки не собрали для поклонения флорентийские глупцы, которые привели своего губителя к власти.
Время свернулось для меня в бессмысленный узел, так что я не знаю, сколько прошло времени, прежде чем ко мне пришел священник. Я целыми днями сидел у Арно, вглядываясь в его глубину. На поверхности воды пеленой растворенных красок и переливчатых радуг расплывались прекрасные лица моей жены и дочери. Иногда, прищурив глаза, я даже видел Марко. Моего старого друга Марко, который давал мне сласти и добрые советы. Я помнил его длинные густые ресницы и грациозную походку. В волнах мне виделись и другие люди: Массимо, его уродливое тело и острый ум; белокурая Ингрид с измученными глазами; Джотто, лучащийся добротой и живым умом; врач Моше Сфорно и его дочери, особенно Рахиль, которая учила меня, дразнилась и однажды попыталась поцеловать меня; Кьяра Иуди, которая ввела меня в мир любовных наслаждений; Козимо и Лоренцо де Медичи; Гебер, Странник и Леонардо. И никогда не оставляла меня Маддалена, запавшие мне в память переливчатые глаза и густая волна разноцветных волос, которые я никогда не уставал целовать. Иногда, видя, как она смотрит на меня из воды, я даже чувствовал аромат сирени с лимонным оттенком. Я просыпался в грязи с ее запахом в ноздрях и на языке, как будто любил ее во сне. И я не хотел просыпаться. И не мог позабыть о милой крошке Симонетте, на которую возлагал столько надежд. Она должна была стать ученым и философом, как Фичино, художником, как Леонардо или Боттичелли, и выйти замуж за короля. С такой красотой и очарованием, огромным приданым перед ней были открыты все пути. И она оставалась бы вечно молодой, как и я.
Однажды весной за мной пришел священник.
– Пора, Лука Бастардо! – сказал он и довольно улыбнулся.
Ему было лет тридцать, и в чертах его было что-то знакомое, но я пока не мог припомнить, где я его видел. Узнавал я только лица своей жены Маддалены и дочери Симонетты, которые пели мне из реки.
Священник улыбнулся еще шире.
– Пора!
Я ничего не понял. Для меня он едва ли отличался от дрожащего воздуха над раскаленной мостовой в знойный полдень, но я пошел за ним по собственной воле. Я откуда-то знал, что он ведет меня в трапезную. Там слуга меня вымыл, побрил, одел в чистую одежду. Затем он вывел меня к священнику, который сидел за большим столом, и я начал смутно догадываться, что это очень важный человек. Я огляделся по сторонам и понял, что нахожусь в монастыре Сан Марко, которому Медичи жертвовали столько денег. Там была изысканная алтарная картина работы Фра Анджелико, благочестивого художника, который молился и плакал перед тем, как прикоснуться кистью к священной фигуре Христа. На алтаре была изображена Мадонна с младенцем на золотом троне, в четко продуманной композиции, а на заднем плане зеленели тосканские кипарисы и кедры.
Туман в голове прояснился и впустил чуточку света. Я повернулся к священнику и внимательно вгляделся в его лицо: черные волосы, узкое лицо, выступающий подбородок и похожий на лезвие нос. И вдруг я понял, кто это. Сильвано! Путаница сумбурных образов и воспоминаний, в которых я жил, вдруг треснула, точно пораженное молнией дерево, и все стало для меня ясно. Вернувшийся разум осветил мое внутреннее я и вместе с ним весь ужас моей утраты. Я вскрикнул и упал на колени.
– Правильно, так и надо! – довольно проговорил священник. – Ты ведь узнал меня?
– Сильвано… – почти беззвучно промолвил я, потому что смерть жены и ребенка ударили меня, точно ножом в живот. Я не мог дышать и, тужась от рвоты, согнулся пополам.
– Джерардо Сильвано, – кивнул монах. – Я дальний потомок Бернардо Сильвано и Никколо Сильвано. Я видел твое лицо на картине Джотто, и с малых лет мне твердили, как важно тебя уничтожить. Моя семья долго ждала возможности обрушить на тебя свою месть, Лука Бастардо. Ты урод, богомерзкое создание, колдун, проживший безбожно долгую жизнь, ты убийца! Смерть жены и ребенка ослабила твои дьявольские силы и подготовила тебя. А теперь я предам тебя суду и осуществлю то, что завещал мне проклявший тебя мой пращур. Для этого я использую тебя самого. Ты сам, по собственной воле, навлечешь на себя возмездие. Мимо тебя пройдет кардинал, которому сулят папский престол, и ты объявишь, кто ты такой.
– Я готов, – ответил я.
Какая ирония судьбы, какая чудная шутка, достойная божественного Провидения: Сильвано станет средством моего освобождения!
Я стоял на Соборной площади в тени несравненного купола Брунеллески. К тунике моей было привязано красное перо. Джерардо подробно объяснил мне, что нужно делать, и я понял. Я с нетерпением стремился исполнить задуманное. Сын Лоренцо, Джованни, который стал важным кардиналом, прибыл во Флоренцию с посланниками инквизиции. Они должны были выйти из собора Санта Мария дель Фьоре после мессы. А когда они выйдут, я обращусь к ним.
День был теплый и чуть ветреный, один из тех тосканских дней, когда небо парит бескрайней лазурно-белой сетью, а деревни вокруг Флоренции вспыхивают яркими красками весенних цветов. Я стоял на маленьком деревянном ящике и дрожал от нетерпения. Я был чист и сыт, на мне была добротная шелковая туника. Сердце свободно билось в открытой груди, и я был весь в лихорадке от радостного нетерпения. Скоро я воссоединюсь с Маддаленой! Из величественного собора стали выходить прихожане: женщины в шелковых и бархатных платьях, с дочерьми, повисшими на их юбках, лавочники и чесальщики шерсти, горстка наемных солдат, нотариусы и банкиры, ювелиры и кузнецы, оружейники и купцы, парочка уличных бродяг, которые сидели на задних скамьях, а после службы просили милостыню в надежде на то, что месса вдохновила христиан на пожертвования.








