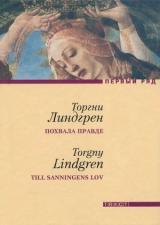
Текст книги "Похвала правде. Собственный отчет багетчика Теодора Марклунда"
Автор книги: Торгни Линдгрен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
~~~
Утром Паула уехала на репетиции. А я сложил «Мадонну», засунул ее в сумку и запер на ключ оба замка. Потом надел на запястье наручник, защелкнул его, а ключи положил на ночной столик. Только сейчас мне вдруг пришло в голову, что они, наверно, до сих пор там.
На фрейевском такси я поехал в Музей современного искусства. Поставил сумку на колени, оперся на нее подбородком. Против света церковь на острове Шеппсхольм сияла словно золотое яблоко, и я внезапно заметил, что улыбаюсь от благодарности Пауле и телохранителю.
Сперва меня в музей не пускали, твердили, что сумку нужно сдать. Но в конце концов пустили, когда я продемонстрировал, что сдать сумку невозможно, что она не открывается и неотделима от меня.
Все утро я просидел перед «Загадкой Вильгельма Телля» Дали.
Жаль, со мной не было растрепанной блондинки, начальницы из налогового ведомства, той, что написала «Грезы под небом Арктики». Я бы с удовольствием потолковал с ней о параноидальном критицизме Дали, об этой таинственной силе, что привела его к сюрреализму. Мышление изначально основано на болезненной подозрительности. Если б мы доверяли миру, нам бы не требовалось размышлять. А начав думать, мы обнаруживаем, что наши подозрения были резонны, что мы были правы еще до того, как задумались. И что мысли способны породить что угодно. Дали – философ того же толка, что и Шопенгауэр. Человеку не нужно ничего, кроме дворца, и парка с дикими животными, и частного аэродрома. И я бы упомянул, что теперь порой вспоминаю ее, глядя на картины с обнаженной натурой.
Паула снабдила меня карманными деньгами. И я пообедал в музейном кафе, съел пирог с сыром и ветчиной. Непростое дело, ведь правая моя рука была прикована к сумке, и все пришлось делать левой – и еду брать, и расплачиваться, и нести поднос, и есть. Возле кассы я опрокинул кружку пива. Левая-то рука у меня всегда отличалась неловкостью. Это теперь я привык.
За целый день никто ни разу не спросил, что у меня в сумке. Цепочка на запястье и необычный размер сумки намекали, что я ношу большой секрет, никто даже пихнуть сумку не смел.
За мой столик подсела какая-то женщина с длинными рыжими волосами, в тонированных очках с черными дужками и в большой пестрой шали на плечах; ела она такой же пирог, как и я. Запивая его красным вином. Она глаз не сводила с моей сумки, но не говорила ни слова. Хотя в конце концов, обращаясь не ко мне, а именно к ней, сказала:
– Я каждый день тут обедаю и беру всегда одно и то же: пирог и вино. Так спокойно, когда заранее все знаешь.
– Да, – согласился я, – мне бы тоже этого хотелось.
– И тем не менее случиться может что угодно, – сказала она, кивнув на сумку. – На каждом шагу замечаешь.
– Лично я твердо верю в случай, – сказал я.
Затем она открыла мне один секрет.
По профессии она киновед и узнала про этот секрет от некоего американского продюсера. Старые фильмы сейчас переводят в компьютерные программы. После чего компьютеры получают задачу выделить отдельных, давно умерших актеров, их лица, жесты, голоса, в общем их целостные личности. Такое программное обеспечение позволяет «привлечь» этих актеров, умерших и похороненных десятки лет назад, к участию в новых фильмах и даже в телевизионных ток-шоу. Другим участникам нужно научиться играть на фоне абсолютной пустоты, компьютеры заполнят эту пустоту покойником, так что в готовом фильме все будет, как в реальности. Вот как раз сейчас Дрю Бэрримор снимается в лирическом фильме вместе с Хамфри Богартом. «Навеки твой».
Рассказывая, она все время с надеждой смотрела на меня. Но я никаких секретов ей не открыл.
Всю вторую половину дня я бродил по залам Музея современного искусства. Время от времени присаживался отдохнуть, рука устала таскать сумку, но на выставках и в музеях я спешить не люблю.
Матисс всегда повергал меня в смятение, мне ни разу не удавалось проникнуть под его поверхность. Хотя, может статься, там и нет ничего, кроме поверхности. И все-таки я невольно снова и снова пытаюсь заглянуть внутрь, вот и здесь долго сидел перед его «Аполлоном». Но, как обычно, через час-другой внимание стало слабеть, взгляд начал отвлекаться.
Тут-то я и заметил двух парней, они стояли у меня за спиной, чуть в стороне. И я вспомнил, что видел их, еще когда сидел перед «Загадкой Вильгельма Телля». И не мог не улыбнуться: Паула и охранное предприятие поистине приняли меры против всех случайностей.
В шесть я опять пошел в кафе, взял чашку чая и бутерброд. А оба телохранителя, ясное дело, последовали за мной и сели за столик совсем близко, но опять же у меня за спиной. Я не оборачивался, не смотрел на них, понимая, что они не хотят себя раскрывать.
Последние часы я провел перед Эдвардом Мунком. Без четверти девять взял в гардеробе пальто и вышел на улицу, слегка утомленный, как обычно, когда за короткое время вижу много картин. Около музея я остановился, поджидая телохранителей, – теперь-то вряд ли кому повредит, если я им намекну, что знаю, кто они такие. И когда они вышли, я их окликнул:
– Сюда! Я вас жду.
Они явно слегка растерялись, но все-таки подошли.
– Я думаю пройтись пешком, – сказал я. – Вечерний воздух уж больно хорош. Нравится мне.
– Вон как, – сказали они.
– А в охранном предприятии вам небось велели сопровождать меня всю дорогу?
– Да, – сказали они.
– Сперва, пожалуй, пойду по Страндвеген, а дальше по Стюрмансгатан до площади Карлаплан.
– Мы знаем дорогу получше. Можем показать, – сказали они.
В результате мы втроем перешли мост Шеппсхольмсбру и зашагали по набережной Нюбрукайен. Вода в заливе Нюбрувикен была черная, как тушь, со стороны Юргордена задувал резкий, холодный ветер. Добравшись до Сибиллегатан, мы повернули к площади Эстермальмсторг. Чудесный был день. Каждый год я дарил себе несколько поездок в Стокгольм и такие вот прекрасные дни в музеях и галереях.
– В Эстермальме дор о г – выбирай не хочу. Как ходов в муравейнике, – сказали они.
– Я только самые большие улицы знаю, – сказал я. – Все дело в моей памяти. Точно так же у меня обстоит с искусством, с книгами, с музыкой. Мелкое и незначительное я не запоминаю.
– Сюда, – сказали они, показывая на подворотню. – Нам сюда.
~~~
Белый – это не цвет. В искусстве белые поверхности лишь несут или направляют собственно краски. Сами же по себе они не имеют ни стабильных свойств, ни содержания. Ведь белый может означать что угодно. Долго, вероятно не один час, я лежал, полуоткрыв глаза, смотрел в белый потолок, жмурился от белого света, отраженного стенами, и только потом спросил:
– Где я?
В самом деле, я мог быть где угодно.
Трижды я повторил вопрос, только тогда откликнулся женский голос:
– Минуточку, я схожу за доктором.
Впрочем, я все понял еще до его прихода, разобрался, так сказать, своими силами.
– С тобой случилась небольшая беда, – сказал доктор, представившись.
– Да, – сказал я. – Знаю.
– Ты потерял руку. Кисть руки.
– Да. И это я знаю.
– Сделано все на редкость аккуратно. Превосходная ампутация, ничего не скажешь. И давящую повязку наложили. Без нее тебя бы тут не было.
– Да. Я и сам удивлен. И благодарен.
– Сильно болит? – спросил он.
– Нет, – ответил я. – Боли я не чувствую.
Это была правда. Вообще я надеюсь, что во всем моем отчете не будет места боли. Если я что-то и ощущал в руке, так это печаль.
– Мы дали тебе снотворное. И перелили кровь.
– Очень мило с вашей стороны, – сказал я. – Это больше, чем я заслуживаю.
– Сейчас есть фантастические протезы, – сказал он. – Ты удивишься. Совсем как настоящие руки.
– Да. Я видел. По телевизору.
Один из крупнейших американских неоэкспрессионистов несколько лет назад потерял на иракской войне кисти обеих рук, я видел репортаж про его искусственные руки и тонкую, эмоциональную живопись. «В сущности, – сказал он, – я просто вроде как в перчатках».
Теперь и у меня такой же протез. Впрямь чудесная штука, словно чуть ли не из плоти и крови, можно шевелить пальцами и даже пользоваться ею, когда занимаешься любовью. Только вот с письмом не выходит, хочешь не хочешь, пишу левой рукой. Писать может лишь живая материя.
Потом доктор сказал, что в коридоре сидит полицейский, ждет, когда я проснусь.
– Весьма деликатно с его стороны, – сказал я.
Полицейский оказался совсем юный, длинноволосый, с челкой, с серебряным колечком в одном ухе и с диктофоном в руках.
– Ты как, сможешь? – спросил он.
– Конечно, – ответил я.
Когда он уселся, я сказал в диктофон:
– Это была моя ошибка. Я сам во всем виноват.
Однако этим дело не кончилось, пришлось рассказывать все, что я знаю о себе и о случившемся со мною. К примеру, назвать самых близких людей.
И единственный человек, который пришел мне на ум, была Паула.
Полицейский немедля выключил диктофон.
– Мы расследуем преступление, – сказал он. – Ты что, мифоман? Они, черт побери, вечно болтают о знаменитостях. А нам нужна правда.
Я потратил не меньше получаса, пока втолковал ему, что моя Паула – самая настоящая, реальная, а вовсе не та, какую знает он. И явно обожает.
– Она на голову выше Анни Леннокс, – сказал он. – И Мадонны. И Саргонии. И Шинед ОʼКоннор.
Рассказывая про Паулу и про то, как вышло, что она вроде бы стала для меня единственным близким человеком, я в общем-то рассказал почти все. Умолчал только, что потерял первую «Мадонну», не хотел запутывать ему расследование. Вдобавок после всего случившегося мне казалось, что вторая «Мадонна» по меньшей мере так же подлинна, как и первая.
– Я, кажется, слыхал разговоры про эту картину, – сказал он.
– Наверняка. Ведь это самое замечательное произведение в истории шведского искусства.
– Господи Иисусе! – воскликнул он. – И ты владелец этой картины?
Кажется, на это я ничего не сказал. Зато сказал, что не держу зла на охранников, ну, то есть на тех двух парней, которых принял за охранников. Вероятно, произошло просто-напросто дурацкое недоразумение, и разыскивать их незачем. Они получили задание и сделали всего лишь то, что велено. Никто не виноват, что у сумки такая конструкция и что цепочку перекусить невозможно.
– Нынче сумки каждый день сотнями крадут, – сказал он. – Мы даже и не пытаемся сортировать заявления. Правда, на сей раз вместе с сумкой умыкнули руку. Так что, по-моему, зря ты их выгораживаешь.
Уже на пути к выходу он обернулся и сказал:
– Обещаю, мы сделаем все, что в наших силах.
Но я не спросил, что он имел в виду.
Потом пришла Паула. В слезах, без макияжа, с букетом роз. Я старался утешить ее, но безрезультатно. Она твердила, что все случилось по ее вине, что в беду я попал из-за нее и она никогда себе этого не простит. Разумного разговора у нас не вышло, в конце концов я тоже заплакал, потому что ничего другого придумать не смог. Паула единственная вспомнила о самой руке: может, ее надо похоронить? А я попытался объяснить, что зрелище будет нелепое: маленький гробик, а в нем одна только рука, церковь не хоронит разрозненные части тела, она хоронит людей целиком. И с минуту мы оба смеялись, сквозь слезы.
После ее ухода я попробовал заснуть. Но тут явился репортер из вечерней газеты и разбудил меня. Кто-то подкинул ему наводку. И он пошел в архив. Вернее, заглянул в компьютер.
– Бесподобная история! – сказал он.
– Как ты сюда прошел? – спросил я. – Ко мне не пускают посетителей. Я в два счета могу умереть.
– Всего несколько кадров, – сказал он. – Подними искалеченную руку повыше. И несколько коротких вопросов. Никакого труда, никаких волнений. – И добавил, что в коридоре ждет фотограф.
– Катись ты к черту! – сказал я.
Но он меня не понял. И раскритиковал мою манеру выражения:
– Не вяжется это с твоей ролью. Я не могу написать, что ты меня обругал. Ты бы предстал в искаженном, ложном виде.
– С моей ролью?
– Разве ты сам не видишь, что неумолимо катишься вниз по лестнице судьбы. Теряешь все, одно за другим. Бесценные картины, состояние, все, что имеешь. А теперь вот руку. Мы, журналисты, – эстеты. Именно эстетика событий и людских ролей движет нами и обеспечивает сбыт газеты. Твоей жизни присуща скромная трагическая красота. О ней я и хочу написать.
– Вот как, – сказал я.
– И о твоей борьбе против властей, – продолжал он. – И о похитителях сумки. И о твоей дружбе с Паулой.
Нажимая кнопку звонка, я сказал:
– Борьбы я ни с кем не веду, тем более с властями. Никаких похитителей сумок в глаза не видал. И с Паулой этой незнаком.
Две медсестры вывели его вон из палаты. Написал ли он что-нибудь обо мне, я не знаю.
Наверняка в эти дни произошло гораздо больше событий. Но я их позабыл. В моем рассказе неизменно только одно – забвение. На самом деле мне известно намного больше, чем я пишу. Но я забываю записать. И чем больше пишу, тем больше забываю. События вокруг меня постоянно усложнялись и набирали нелепости. Хотя надеюсь, в моем отчете это незаметно. Провалы в памяти и упущения неуклонно множатся. Того гляди, и ближайшие двадцать страниц забуду. Конец может наступить когда угодно. Паула как-то говорила, что все забытое остается между строк. Не знаю.
Она принесла мне книги. Вернее, не она, а телохранитель. Она сидела в машине, смотреть на меня за пару часов перед выходом на сцену было выше ее сил. Ей предстоял последний концерт в Стокгольме, накануне большого турне.
Забыл сказать: тем временем уже настал май.
Приходил еще один полицейский, постарше и погрузнее, назвался инспектором.
– Что, собственно, было у тебя в сумке? – спросил он.
– «Мадонна с кинжалом», – ответил я. – Самое уникальное из всех творений Нильса Дарделя. Триптих. Сложенный.
– Мы проверили, – сказал он. – Неувязочка выходит.
– Да, она висит и у судебного исполнителя. Дома у нас.
– Неужели? Чертовщина какая-то.
– Она существует в двух экземплярах, – пояснил я. – И в этом смысле тоже уникальна. Едина в двух ипостасях. Вроде как Троица.
– Вон оно что, – сказал он. – А мы было засомневались.
Он смотрел на меня с усмешкой. Наверно, хотел намекнуть, что видит меня насквозь, привык ведь иметь дело с мошенниками. И в том, что руку я потерял, ничего удивительного нет, обычный трюк, составная часть аферы.
– Ты рассчитываешь впутать сюда страховую компанию? – спросил он.
– Застрахована та, что висит у судебного исполнителя, а не та, что украдена, – сказал я.
– А как ты их различаешь?
– На сто процентов я, понятно, не уверен. Но мне кажется, я ее нутром чую, как никто другой.
– Ты что-то замышлял, – сказал он. – Какую-то крутую аферу.
– Я просто хотел, чтобы она была у меня. Чтобы никто ее у меня не отнял. Без нее моя жизнь банальна и бесполезна.
Он долго глядел на меня, словно пытался припомнить что-то слышанное давно-давно, и усмешка погасла.
Но потом он сказал:
– У меня такое ощущение, что нам это дело не раскрыть. Некоторые преступления раскрываются сами собой, перед всеми прочими мы бессильны. И за это ты должен сказать спасибо. Но мы глаз с тебя не спустим.
На больничной койке я провел пять дней. Ведь мне повредили ребра и несколько раз ударили по голове, поэтому медики решили понаблюдать за мной. Так это называется. Мне было хорошо, и я не рвался из больницы – от добра добра не ищут.
Когда меня выписали, вернуться к Пауле я не мог, она уже уехала из Стокгольма, в тот вечер начиналось ее летнее турне.
На Центральном вокзале я купил «Свенска дагбладет», про Паулу мне читать не хотелось, а «Свенска дагбладет» – единственная в Швеции серьезная газета.
Держать газету одной рукой очень непросто, пришлось помогать ртом, поезд кренился на поворотах, страницы отделялись одна за другой. В культурном разделе все-таки нашлась статья о Пауле, написанная религиозным социологом из Лунда. Читал я медленно – пока добрался до конца, поезд уже прибыл в Халльсберг. Я очень надеялся, что эта статья не попадется Пауле на глаза. Там бы она прочла почти все, что, вероятно, и так знала. Последний кусок я вырвал, сложил и спрятал в бумажник:
«Меж тем как религиозные идеи и иллюзии, утрачивая всякое содержание, развеивались словно тонкий дымок или туман, меж тем как Церковь и ее храмы превращались в окаменелые оболочки, скрывающие внутри гулкую пустоту, культовое сообщество – странным и, пожалуй, зловещим образом – продолжало существовать. В центре нового культа находится звезда, идол, кумир, созданный СМИ; она – волею случая сейчас это действительно она, Паула, в следующий раз имя и пол будут другими – выполняет жреческую задачу, но одновременно представляет собой тотемное животное и вотивный образ, она входит в заместительный экстаз, и она священнодействует. Однако эта культовая драма более не соединяет человека с божественным, здесь просто ритуальный шаблон без цели и задач (впрочем, быть может, за непристойной жестикуляцией различимо усмирение Тиамат, зверя хаоса), все это чисто субъективно и не указывает пути ни к искуплению, ни к совершенству. Нет здесь освобождающей трансцендентности, духовного опыта, который в сублимированной форме способен жить в нас как воспоминание или сокрытая реликвия. В конце концов нам остается единственный способ отыскать спасение и катарсис – жертва. И тогда идола, или звезду, отдают на заклание, это последняя служба, какую она нам служит, – в отвратительном, смердящем кровью обряде оргиастической жертвы она вершит и завершает дионисийскую игру. Бедные звезды и идолы! Бедная Паула!»
Где-то по пути, может в Мьёльбю или в Катринехольме, мой поезд разминулся со встречным, в котором ехала мать Паулы. Но я этого не знал, я даже представить себе не мог, что она снова рискнет отправиться дальше, чем до автобусной станции или до почты. Она ехала навстречу приключению, о котором впоследствии будут много говорить и писать, была возбуждена и, вероятно, чуточку навеселе, скорей всего, и на месте усидеть не могла, беспокойно сновала по вагонам; слово «приключение» не мое, я позаимствовал его из одной вечерней газеты.
~~~
В то утро она как раз получила «Шведский женский журнал». И репортаж про Паулу и ее отца прочла в ванной комнате, потому что теперь складывала журналы в ванну. От изумления она даже заплакать не решилась.
Некоторое время она таращилась на текст и на снимки, потом сходила за ножницами и вырезала ту фотографию, где Паула что-то сбивала в миске, а ее отец стоял у плиты, помешивая что-то на сковороде. Затем взяла кнопку и приколола снимок к кухонной стене.
Чем еще она занималась в тот день, подробно написано в газетах и у всех на памяти. Мне известно ничуть не больше, скорей даже меньше, ведь журналистские представления всегда богаче и полнее, чем у остальных людей.
Занималась она якобы очень многим. А вот чем незанималась, я, думается, знаю точно.
В полицию она не ходила, не просила помочь ей вернуть мужа, которого обнаружила в газете. Не вешала на дверь табличку с объявлением, что музыкальный магазин ликвидируется или выставлен на продажу. Это же совершенно излишне, народ давным-давно позабыл, что в доме находится музыкальный магазин. И Снайперу она не звонила, не просила контрамарку на премьерный концерт Паулы в Вестеросе. И драматического письма Пауле не писала. И ключей мне не оставляла. Ведь когда она отправилась в путь, я только-только сел в Стокгольме на поезд.
Она положила отмачивать селедку, на завтра. Потом надела заплатанные джинсы и застиранную джинсовую куртку, повязала на шею огненно-красный шарф, подпоясалась широким черным кушаком, а к нему приколола медную брошь, изображавшую Бетховена. Нарумянила щеки, накрасила губы малиновой помадой, а веки – голубовато-фиолетовыми тенями. Под конец нахлобучила на голову пышный черный парик, он лежал у нее в комоде вместе с носками, блузками и колготками, которые она собиралась выстирать и зачинить, да все откладывала. Парик она натерла гелем для укладки, взлохматила пальцами и сбрызнула лаком, так что в итоге ее пухлое, экзальтированное лицо окружали этакие торчащие, склеенные перья.
Ключи она сунула в вазон, подвешенный к потолку веранды, под горшок с засохшей фуксией.
С собой она взяла книгу, хотела почитать в поезде. «Мечта о дивном счастье» Барбары Картленд. Но когда у железнодорожного вокзала вышла из автобуса, забыла ее на багажной полке.
В сумке у нее была бутылка сладкого вермута. И темные очки. И маленький магнитофон, она собиралась записать Паулин концерт.
В Вестеросе она никогда раньше не бывала. И как добралась до Народного парка, я не знаю. Наверно, спросила у кого-то из водителей местных автобусов.
У входа она оказалась одной из первых, предположительно уже часа в четыре. Надела темные очки. Если б она следила за своим местом в очереди, то попала бы в число счастливчиков, расположившихся у самой сцены, и даже смогла бы поймать шитую золотом блузку или юбку, которую Паула в конце первого номера бросала в публику. Однако мать Паулы время от времени уступала свое место другим, отодвигалась в очереди назад, нарочито и методично, словно именно к этому и стремилась – быть одним из несчетных середнячков, не первой и не последней, а частичкой массы, кем угодно среди толпы покорных обожателей.
Когда калитка наконец распахнулась, свершилось то, чего она, вероятно, жаждала всем своим существом: ее подхватили и понесли вперед силы, которых она не могла контролировать, которые были, так сказать, сгустком восторга и обожания, восхищением и преклонением в чистейшем виде, она же была всего-навсего ничтожно малой, безымянной крупинкой потрясающего зрительского рекорда.
Но немного погодя, несомая людской волной, она невольно и слегка озадаченно начала размышлять об этих пришедших в движение силах, об этом кипящем экстракте воодушевления и по-новому глубоко осознала, что подлинным источником этой невероятной энергии была Паула; она, конечно, и раньше понимала, в чем тут дело, потому ведь и приехала, однако теперь, за считанные мгновения, поверхностное понимание обернулось глубоким духовным постижением. Сама она сказала бы так: «Я чувствовала это своим материнским сердцем».
И ее захлестнула пьянящая, необоримая гордость.
Руками и коленями она оперлась о ближайших соседей, отчаянно стараясь отвоевать чуток пространства, чтобы повернуться лицом к людскому морю, бурлящему позади, стала на цыпочки, даже сделала попытку влезть на плечи невысокого, но крепкого юнца, который случайно оказался прямо перед нею, а в конце концов сорвала с себя очки и дурацкий парик, вскинула вверх, порывисто, прямо-таки безрассудно замахала ими над головой и закричала:
– Смотрите, это я! Мать Паулы! Да-да, я ее мамочка!
Но никто ее не слышал, никто не обращал на нее внимания, а поскольку она повернулась на сто восемьдесят градусов и толпа неумолимо накатывалась на нее, она не устояла на ногах, упала и была мгновенно затоптана, никто словно бы и не заметил случившегося, ни одного свидетеля впоследствии не нашлось.
Думаю, примерно так все и произошло.
Но тогда я знать ничего не знал. И Паула тоже.
В ее жизни это был один из самых замечательных и ярких вечеров.
Лишь через три часа после представления телохранители сумели вывести ее через заднюю дверь, она переоделась уборщицей: черный платок на голове и долгополое серое пальто – вылитая иммигрантка.
Останки Паулиной матери обнаружили только следующим утром. Едва разглядели среди пивных банок, окурков и грязных клочьев одежды. А личность ее полиция установила уже ближе к вечеру. Под сценой нашлась ее сумка, бутылка с вермутом была разбита, магнитофон украден; по маленькой фотографии, где она была вместе с Паулой, и по членской карточке Общества потребителей выяснилось, кто она такая.
Вообще-то фотография была фальшивкой, я сам помогал ее изготовить. Разрезал и склеил два снимка, сделал так, чтобы она обнимала Паулу за плечи, подретушировал зрачки и заставил обеих улыбаться друг другу. А потом она пересняла мой монтаж.
Я в тот вечер бездельничал. Кажется, вернувшись домой, почти сразу же лег в постель, не заходил ни в мастерскую, ни в магазин, немножко почитал «Путь шамана» Майкла Хорнера, послушал по музыкальному радио «Колыбельную для багдадского ребенка» Свена-Давида Сандстрёма. Паула не позвонит, это я знал.
Наутро я ходил по дому и старался обучить свою левую руку всему, что ей отныне надо уметь. Открывать двери и створки шкафов, выдвигать ящики мойки и поворачивать звукосниматель проигрывателя, тасовать карты и раскладывать пасьянс. Задачка не из простых.
О том, что происходило после обеда и вечером, я не могу рассказать так четко и ясно, как мне бы хотелось. Порой два события происходят одновременно и перемешиваются одно с другим, а оттого делаются непонятными и нереальными, взаимно уничтожаются, как числа с противоположными знаками, невозможно представить себе ни то ни другое, и хотя сам участвуешь во всем, что происходит, чувствуешь себя перенесенным невесть куда вовне, становишься смятенным наблюдателем. По-моему, Шопенгауэр писал об этом, только я не помню где.
Сперва позвонила Паула. А потом явился нежданный посетитель. Я ничегошеньки не понял.








