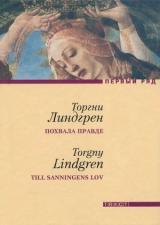
Текст книги "Похвала правде. Собственный отчет багетчика Теодора Марклунда"
Автор книги: Торгни Линдгрен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
~~~
Для витрины я выбрал другую картину: девчушка сидит на камне и плачет, рядом, склонясь над нею, стоит рыбак с трубкой-носогрейкой в зубах, а поодаль, в море, замерли на волнах две парусные лодки. В уголке подпись: Стрём.
На самом деле никакого Стрёма не существует. Просто в мастерских и на фабричках, где изготовляют такого рода продукцию, часто ставят в нижнем углу именно «Стрём». Вполне подходящая фамилия для художника.
Затем начали названивать журналисты. Явно по чьей-то наводке.
– Ты, понятное дело, ни в чем не виноват, – говорили они. – Как правило, все твердят, что не виноваты.
Пятеро журналистов за несколько часов. Все они задавали одинаковые вопросы. И ответы получили одинаковые. Разговаривая с первым, я записывал свои слова и после, когда звонили другие, просто читал по бумажке:
– Я не знал другого способа добиться порядка, кроме как помещать разные вещи под стекло в рамы. У меня никогда не было ни кассового аппарата, ни бухгалтерских книг, ни бухгалтера-консультанта, ни настоящего банковского счета. И конторы я никакой не имел, обходился двумя ящиками, куда как попало отправлял всякие бумажки. И в общественном, и в частном смысле я отличался расхлябанностью и беспечностью. Сам знать не знал, какие суммы утаил, теперь-то, слава Богу, все наконец выяснится. Может, не один я проштрафился, а изначально все наше семейство. Нет, угрызений совести я никогда не испытывал. Однако ж теперь чувствую облегчение и свободу. Я ведь полный профан, у меня даже не хватило ума заподозрить себя, так что самое время вывести меня на чистую воду.
Я был вполне доволен этими беседами. Они оказались короткими, нервничать не пришлось. И журналисты, похоже, остались довольны, а один из них сказал:
– Замечательно, детали большого значения не имеют, читателям требуется лишь общий обзор.
Во второй половине дня в последний раз шел снег. Я стоял у окна, смотрел на падающие хлопья и думал, что они выглядят точь-в-точь как на картинах за четыреста – шестьсот крон. Такой снег мог бы написать Стрём.
Пришли и последние клиенты. Правда, ни они, ни я не знали тогда, что после них ко мне больше никто не придет. Заказали они окантовать юбилей конфирмантов и портрет столетнего старика.
Вечером мы с Паулой обсуждали ее турне. Все лето она проведет в разъездах. Я сказал, что охотно поехал бы с ней, только вот за мастерской и магазином присмотреть некому. За всю жизнь я ни разу не бывал в отпуске. О «Мадонне» мы не сказали ни слова. Наутро пришла Паулина мамаша с газетами. Она прочла пресс-анонсы возле автобусной станции и заинтересовалась, о каком таком торговце картинами идет речь.
– Тебе-то что, – сказала она. – А вот нам, тем, кто тебя знает, такое и во сне не снилось. Оказывается, ты куда более крупная фигура, чем я думала.
– Какое там! Я всегда был ничтожеством.
– Нет, надо же! – воскликнула она. – Сколько лет жила по соседству с тобой и понятия ни о чем не имела. Уму непостижимо, как ты умудрялся быть таким скромным и деликатным.
– Зря я поставил «Мадонну» в витрине. И раму эту дурацкую вскрыл зря.
– Навеки не спрячешься, – сказала она. – Лопнешь в конце концов изнутри. Нужно показать всему миру, кто ты есть на самом деле.
– Я, что называется, двадцать два на двадцать семь. И никогда этого не скрывал. Пусть все видят.
Она уставилась на меня, широко раскрыв глаза, и на миг стала очень похожа на Паулу.
– Не поняла, – сказала она. – Опять загадками говоришь.
– Будь я картиной. Это минимальный стандартный формат. В сантиметрах.
– Здорово все ж таки, – сказала она. – Ты не хотел, чтобы мы, другие то есть, тебе завидовали. Восхищение и почести тебе не по нраву. Но на сей раз ты не отвертишься.
Когда она ушла, я немного полистал газеты. Она была права: на сей раз я не отвертелся. «Крупнейшая налоговая афера в губернии за несколько десятилетий. Торговец картинами: Я виновен». В трех газетах я выступил с чистосердечным признанием:
«Конечно, я обманщик, но без обмана не пробьешься и денег никогда не сколотишь».
Не припомню, чтобы я говорил такое.
«Голос у него ровный и спокойный, – писали газеты, – и говорит он без запинки, не подыскивая слова. Совершенно ясно: этот человек знает, чего хочет, ни противодействие, ни трудности его не остановят».
Даже одна из вечерних газет поместила заметку обо мне. Снова извлекли фотографии – мои и «Мадонны».
После обеда я допил водку, которая оставалась в доме. Ночью позвонила Паула, она тоже прочла вечернюю газету и хотела меня утешить.
– Меня так легко не сломишь, – сказал я. – Ничего, я справлюсь. В делах надо, черт возьми, привыкать к ударам.
Паула употребляла такие слова, как «трагедия», «жестокость» и «преодоление тягостных эмоций».
– Наоборот, я взбодрился, – возразил я. – Прямо-таки готов биться с целым миром.
Так оно и было.
Дядя Эрланд подарил ей попугая, австралийского, по кличке Кассандра, и Паула уже научила птицу двум своим песням. Голос у попугая был сиплый, басовитый и малость зловещий, Паула изобразила его по телефону. «I cry when you fumble around within me». Я единственный, кто слышал, как Паула поет попугайским голосом.
~~~
Пока сижу и записываю все это, я постоянно слышу вдали шум моря, а подняв глаза, вижу цветущую вишню. Окно окаймляет ее точно рама, и она похожа на картину Крутена, в которую вдохнули жизнь. В стакане возле моего локтя напиток под названием «Für immer selig», сиречь «Вечное блаженство». Я не могу не упомянуть об этом. Наверно, не терпится мне рассказать, как все кончилось. Точнее, кончилось пока что.
Я тогда окантовал и конфирмантов, и столетнего старика, и с тех пор работы у меня больше не было.
Мать Паулы позаимствовала у меня «Книгу рекордов Гиннесса».
– Даю на два дня, – предупредил я.
Однако два дня миновали, а книгу она не возвращала. Через четыре дня я сам пошел к ней и попросил отдать «Гиннесса». Сперва она притворилась, будто вообще забыла, что брала книгу. Но я стоял на своем, и в конце концов она все-таки отдала ее.
– Это самая лучшая и самая правдивая книга, какую я в жизни читала, – сказала она. – Там все без вранья.
Наконец-то и Дитер Гольдман из Карлстада, и Мария, утверждавшая, что мы вместе навек, получат ответ на свои вопросы. «Собственно говоря, – писал я им обоим, – я уже решил отправить тебе картину, ты же знаешь, экономически я независим и в ней не нуждаюсь, но тут вмешались власти. Судя по всему, «Мадонной» не владеет никто, ею вообще нельзя владеть в обычном смысле слова. А я-то уже и гофрированным картоном запасся, и прочным шпагатом для упаковки, ведь мы оба пришли бы в ужас, если б она пострадала при транспортировке. Когда о чем-то мечтаешь или чего-то ждешь, надо, как говорит Шопенгауэр, непременно подумать и о том, что все может кончиться неудачей, тогда не придется испытать разочарование. Надеюсь, ты приложил это правило к «Мадонне». Я тоже всегда представляю себе неудачу. Спасибо за письмо. Искренне твой…»
Мне казалось, можно послать им такие письма, ведь они приложили столько стараний и питали столько надежд.
Приходил полицейский с диктофоном. Целых три кассеты ушло на мой рассказ, в точности такой же, как вот этот. Сам он не сказал ничего. Хотя нет, обронил, что мне еще повезло. Если бы власти, до того как взялись за меня, читали газеты, я бы так легко не отделался, они бы попросту опустошили весь дом. Но дело это нелегкое, журналисты всегда могут раскопать обстоятельства, недоступные для государства и местных властей, им плевать на законы и предписания.
Я скучал по заказчикам. Придумывал множество реплик, только адресовать их было некому. А магазин и мастерская без клиентов до ужаса тоскливы, едва ли не трагичны. Народ, проходивший мимо, нередко замедлял шаг, заглядывал в окна, а я силился им улыбнуться, порой стоял, перегнувшись через картины в витрине, чтобы все вправду меня видели, льстиво усмехался, скалил зубы, так что щеки судорогой сводило, но все напрасно.
Каждый вечер Паула говорила:
– Почему ты не приедешь сюда? У меня же есть свободная комната, которая тебя ждет.
– А за фирмой кто присмотрит? Делать рамы и вставлять в них картины далеко не так просто, как все думают.
– Ты же сам говоришь, что фирмы больше нет. Что клиенты исчезли.
– Я говорил в переносном смысле. На самом деле фирма, понятно, существует. Она существовала на протяжении трех поколений и не может вдруг кануть в небытие.
– Очень даже может в реальности кануть в небытие, – сказала Паула, – и существовать в переносном смысле.
На самом деле, конечно, именно это уже и случилось.
Если б я мог понять мир Паулы! Жизнь, какой она жила, песни, какие она пела, эти ее жуткие наряды. И публику. Многое тогда, вероятно, сложилось бы иначе. Но я чуждался ее музыки и ее фотографий в прессе, а услышав ее имя по радио или по телевизору, сразу же выключал. Все это было фальшиво и вызывало у меня отвращение.
В одном журнале написали: «Новая карьера Паулы – это непрерывный оргазм».
Тот, кто действительно хочет понять искусство Паулы и ее музыку, может прочитать «Книгу о Пауле» Пера Мортенсона (издательство «Нурштедт»). Говорят, там написано обо всем.
Сохранись у меня кассовый ящик, он бы теперь опустел. На последние деньги я купил кефиру и горохового супа в банках, чтоб хватило этак на неделю.
В конце концов я взял под мышку последние работы – юбилей конфирмантов и столетнего старика – и пешком отправился к заказчикам, последним моим клиентам. Бензобак в машине был пуст.
От обоих я услышал одно и то же:
– Не нужны нам твои рамки. Кто его знает, чем все обернется. Но фотографии верни.
И я осторожно вынул задние крышки, открутил латунный крепеж, вытащил снимки, прикрывая их от моросящего дождя, и двинулся восвояси со стеклами, картоном и пустыми рамами. Очень мне было горько.
На пробу я и в банк наведался.
– Слава Богу, нам ты ничего не должен, – сказали там. – Подобные истории любому банку грозят большими сложностями и могут дорого ему обойтись. Откровенно говоря, мы рады, что гешефты у тебя в других местах.
– Это где же? – спросил я. – Где у меня гешефты?
– Ну-ну, – сказали они. – В конце концов финансы приходят в такой беспорядок, что уже и сам не знаешь, где у тебя счета, и сейфовые ячейки, и векселя, и кредиты.
И рекомендовали некоторое время не высовываться, переждать, пока интерес ко мне не поостынет.
Про ссуду в двадцать тысяч они вроде как забыли. До поры до времени.
В тот вечер я сходил в социальное ведомство. Я вправду решил не высовываться. Сотрудников в этой конторе было всего двое, а располагалась она в маленьком бараке за автобусной станцией. Сотрудники сидели за письменным столом, одним на двоих, – мужчина и женщина. Это ведь была местная контора, вроде как филиал, на столе лежали несколько папок-регистраторов да пустая картонка от бутербродов. Когда я изложил свое дело, сотрудники сперва широко улыбнулись, потом щеки у них задергались, и в конце концов оба захохотали, хлопая ладонями по столу и подпрыгивая на стульях; я тоже поневоле захихикал, а немного погодя они встали, чтобы мы, как говорится, могли посмеяться на равных. И мужчина сумел сквозь смех выдавить, что я не должен обижаться, что должен понять их, ведь я первый мультимиллионер, который к ним наведался, это же совершенно потрясающая шутка.
Собственно, я был благодарен им за такой прием, ситуация-то выглядела до крайности неприятно.
А когда мы успокоились и я повернулся к выходу, оба подошли ко мне, похлопали по спине и поблагодарили за визит: очень, мол, щедро с моей стороны взять на себя труд этак их развеселить, обычно-то к ним приходят только с неприятностями.
Кефир я ел по утрам, а гороховый суп – ближе к ночи. Утренние часы были хуже всего, я старался проводить их во сне и магазин больше не открывал. Однажды поздно вечером, когда я ел гороховый суп и слушал «Реквием» Брукнера, раздался телефонный звонок. Я решил, что это Паула.
– Привет, сестренка, – сказал я. – Привет, солнышко.
Но звонила не Паула. В трубке послышался незнакомый мужской голос, хриплый и далекий, лишь минуту-другую спустя у нас завязался нормальный разговор. Он назвал свое имя и добавил:
– Не знаю, помнишь ли ты меня.
– Я никого почти не помню, – ответил я.
– Это мне ты сказал, что всегда вроде как был готов к тому, что с тобой случится нечто по-настоящему важное, большое.
– А ты сказал, что в «Мадонне» сокрыта мощь водородной бомбы.
– Совершенно верно. Мои слова.
Вот, значит, кто это – приземистый крепыш с эспаньолкой, который просидел у меня целых три дня, глядя на «Мадонну».
Он прочел в одной из газет о том, что со мной приключилось.
– Ты и к этому тоже был готов? – спросил он.
– Не знаю, – ответил я. – Люди постоянно чувствуют то одно, то другое.
– Тебя, поди, и удивить по-настоящему невозможно, – сказал он.
– Да нет, вряд ли.
– У меня есть для тебя сюрприз.
– Вот как?
– Но тебе надо приехать сюда. В Стокгольм.
– Не могу я никуда ехать. Денег нет.
Однако он сказал, что вышлет деньги, и даже извинился, что не сделал этого еще раньше, до того как позвонил. Жил он на Дёбельнсгатан, 73.
– Не привык я думать о других, – сказал он. – Предпочитаю жить в наивозможном уединении. Ужасно, когда тебя постоянно отвлекают.
Но я слышал в трубке звуки Моцарта, сопрано пело «Ah, lo previdi».
– На последние деньги я купил кефиру и горохового супа, – сказал я. – Я чувствовал себя никому не нужным, чуть что не брошенным.
– Ну, это не самое страшное. Я вот люблю гороховый суп. Омары, устрицы, икра быстро надоедают.
И я обещал приехать. Небось подшутить надо мной решил, думал я. Ну и ладно, не все ли равно.
– Про сюрприз допытываться не стану, – сказал я. – Ты наверняка задумал меня облапошить. Но мне наплевать.
– Верно, – сказал он, – только облапошу я тебя так красиво и изысканно, что ты до конца дней своих будешь мне благодарен.
В тот же вечер я собрал вещи. Пиджак, брюки, трусы, «О страдании в мире» Шопенгауэра, зубную щетку, носки. И старый дедов халат, ведь я остановлюсь у Паулы.
Стало быть, в Стокгольме у меня было два друга – Паула и человек с эспаньолкой. Я ехал навестить стокгольмских друзей.
Так я сказал Паулиной мамаше. А она не спросила, есть ли среди них Паула. Начала играть на гитаре, одну и ту же мелодию, снова и снова, «Усни у меня на плече». Скрючилась над гитарой, прижимала ее к себе, точно младенца, а вокруг кучами валялись «Шведский женский журнал» и «Новости недели»; будь я художником, непременно бы написал ее портрет именно в этой обстановке. Такой она запомнилась мне навсегда. Но тогда я ни о чем подобном не помышлял. Сыграв «Под его крылом», она остановилась, выпрямила спину и сказала:
– Господи Боже мой, если б я только решилась! У меня масса друзей в Стокгольме. Но люди проходу мне не дают. А путешествовать инкогнито крайне утомительно.
Тут она опять склонилась над гитарой и заиграла «Твоя румяная щека».
~~~
Мне хотелось еще разок увидеть «Мадонну». И по дороге в Стокгольм я сделал остановку и зашел в контору к судебным исполнителям. Принял меня секретарь.
Конечно-конечно, ничего особенного тут нет, я имею полное право. «Мадонна» теперь чуть ли не официальный документ. И меня проводили к одному из судебных исполнителей, возможно к самому главному.
Она висела на стене над письменным столом, за которым сидел судебный исполнитель – в темно-синем костюме, при галстуке, в очках с черными дужками. Мы поздоровались, и он сказал:
– Здесь самое надежное место на свете. Отсюда ничего украсть невозможно.
– Кто станет красть картины? – сказал я. – Искусство скоро вообще обесценится.
– Нет-нет, – возразил он. – В искусстве действует своя конъюнктура. Однако по большому счету только оно существует вечно.
Я спросил, нельзя ли мне присесть, ноги, мол, плохо держат, питаюсь плохо, ночами не сплю.
Сказал я так не затем, чтобы пожаловаться, просто никогда не любил стоя смотреть на произведения искусства.
Он сел рядом.
– Уму непостижимо, что люди позволяют так с собой обращаться и даже не пытаются дать отпор.
– Господи, так ведь мы же виновны.
– Как знать, – заметил он. – Все расследования и судебные вердикты суть не более чем догадки.
– Я-то, по крайней мере, точно знаю, что виноват. Хотя никто этого прямо не говорит, я человек никчемный. Ничего в жизни не добился, радости от меня никакой, стремился я лишь к одному – ублаготворить себя.
Он принес чаю и сухариков. Мы грызли сухарики, пили чай и не говорили ни слова, просто смотрели на «Мадонну». Немного погодя он сказал:
– Не приноровиться мне к этому. Я тоже коллекционер и знаю, о чем говорю.
Я спросил, не искусство ли он собирает.
Да, именно искусство. Собственно, он в первую очередь коллекционер. Искусство для него – источник жизни, а работа судебного исполнителя не более чем профессия.
– Чтобы вправду коллекционировать искусство, – заметил я, – требуется ужас как много денег.
Верно, так все и началось. Он получил наследство. И понял, что им нужно распорядиться, что он обязан куда-то его применить. Сколотил эти капиталы его дед. Изобрел спасательный жилет из бумажной массы, во время Первой мировой войны. А потом принялся выпускать всякие-разные бумажные шмотки, это же был колоссальный прогресс, одно время он владел аж пятнадцатью фабриками в Швеции и по всей Европе. В конце войны он все это продал. Осталось только огромное состояние, под бременем коего с тех пор изнемогают его потомки.
А я рассказал ему про дедовы фортепиано.
– Все зависит от случая, – сказал он. – В то время народ нуждался в одежде, а не в фортепиано. Но могло бы быть и наоборот.
– Сколоти мой дед этакое состояние, – сказал я, – мне бы совсем худо пришлось. А так у меня практически не было денег на финансовые махинации.
Он заставил меня съесть еще несколько сухариков и сказал, что убиваюсь я совершенно напрасно, мои самообвинения только мне же и вредят, скорей-то всего, я абсолютно невиновен, а по большому счету и принимая во внимание все обстоятельства, вообще все люди ни в чем не виноваты.
– Однако в жизни каждого рано или поздно наступает время пересмотра, проверки и перепроверки, – добавил он.
– В Вене был дирижер по фамилии Штрольценер, – сказал я. – Как-то раз, дирижируя Четвертой симфонией Брукнера, он после первой части сразу перешел к Скерцо. Эта ошибка оказалась ему не по силам, он не вынес позора.
– Н-да, – сказал судебный исполнитель, – я его понимаю.
Потом он рассказал мне про свою коллекцию. Она и впрямь была грандиозная. Хотел бы я на нее посмотреть.
Разговаривая, мы глядели не друг на друга, а на «Мадонну».
– Смущает меня эта вот фигурка Христа, – сказал судебный исполнитель. – Распятый младенец. Не могу понять.
– Это просто дарделевская фантазия, – сказал я. – Трактовка, и только. Ему казалось, что младенец декоративнее, чем взрослый Христос.
– Да, но распинать его…
– Дарделя это не трогало.
На прощание он сказал, что остальное изъятое имущество хранится в подвале. Но «Мадонна» – вещь уникальная.
– Да, это верно, – согласился я.
Он был рад, что я зашел. Никто здесь его не понимает.
– Да, – сказал я, – понятно.
Он выразил надежду, что мы еще увидимся, поблагодарил за историю про венского дирижера, хоть я и забыл рассказать, чем она кончилась, и добавил, что, случись мне снова оказаться в этих краях, я непременно должен зайти к нему.
– Как знать, – сказал я. – Сам-то я понятия не имею, что будет; со мной может случиться что угодно, я вообще ничего уже на будущее не загадываю.
~~~
Стокгольм – он как фильм или телепрограмма, видишь вокруг только стремительные движения, и кричащие краски, и взыскательные лица, а сам по-настоящему как бы к этому непричастен. Другое дело – метро, там смотреть не на что.
С вокзала я пошел на квартиру к Пауле, было полпервого ночи, я сел на последний вечерний поезд, чтобы к моему приходу она успела вернуться домой.
Она купила для меня краба, хоть был и не сезон, и бутылку вина, куда более изысканного, чем я мог оценить. Вспомнила, как я иной раз, бывало, покупал себе краба и украдкой съедал его на чердаке.
Все у нее было белое – мебель, и рояль, и шторы, и проигрыватель, и ковры, и абажуры, и стены, единственная картина на стене и та представляла собой белый картон в золотой раме; вероятно, она выбрала эту белизну как противовес всему остальному в своей жизни, и я прямо-таки разозлился, когда увидел это.
Паула смыла косметику и с виду была почти такой, какой я ее помнил. Когда я принялся за еду, она села к роялю и заиграла Малера, я наизусть знал каждую ноту. А потом она запела. «Ich bin der Welt abhanden gekommen». «Я потерян для мира». Я успел забыть перевод, который сам же и сделал. Но теперь услышал, что он создан для ее голоса, и не только для голоса, а для всего ее существа. И у меня перехватило горло, я едва сумел проглотить кусок краба.
Потом мы сидели и молчали, я не знал, что сказать.
Выручил нас попугай, он запел. Если «петь» слово подходящее. Он копировал Паулу. И тоже был потерян для мира. Отставлен в сторону. Более отвратительной подделки я в жизни не слыхал. И все же попугай несомненно пел от души, стремился выразить что-то от своего имени и от имени Паулы. Смеяться над ним было бы очень жестоко. Паула села подле меня, и мы болтали о том о сем, пока я ел краба и пил вино.
– Ты надолго? – спросила Паула.
– На пару дней, – ответил я.
– Так я и думала.
Телохранитель сидел в своей комнате, но немного погодя вышел оттуда и поздоровался. Перед тем как мы все легли спать, он проверил содержимое моей дорожной сумки и осторожно ощупал мою одежду.
– Не люблю я этим заниматься, – сказал он, – но народ на что только не пускается, чтобы добраться до Паулы. Им все средства хороши. Лишь бы дотронуться до нее, или убить, или вынудить посмотреть на них, им все едино.
– Вообще-то ее зовут Ингела, – сказал я.
Наверно, я сказал так в доказательство, что на самом деле знаю ее. Но он только хохотнул, сухим смешком, будто кашлянул, и сказал:
– Неужели?
Наутро Паула вызвала для меня машину. Компания «Паула мьюзик» имела собственный счет в прокатном агентстве Фрея. И я поехал на Дёбельнсгатан, 73, к человеку с эспаньолкой.
Поездка эта из числа самых длинных в моей жизни, продолжалась она целых двенадцать минут, и в мыслях у меня царили полная ясность и чистота, я видел каждое лицо и каждый дом, так что позднее мог бы подробнейшим образом описать людей, и фасады, и витрины. Я совершенно не представлял себе, что меня ждет, скорей всего, эспаньолка попросту решил выставить меня шутом или придурком, а может, вообще забыл, что я приеду. Чувствовал я себя свободным, но свободным как-то горячечно. С тех пор как остался без «Мадонны», терять мне было нечего.
Однако он меня ждал. Взял у меня пальто, вручил рюмку портвейна. И что-то обронил насчет погружения в эстетические переживания и эмоциональные порывы, но я не слушал, ведь то, что я видел у него на стенах, потрясало настолько, что все мои чувства, кроме зрения, не то отключились, не то уснули. Отныне я буду писать его прозвище с заглавной буквы: Эспаньолка. Как я поступил с портвейном, не помню.
В холле висели два Сезанна – вид на гору Сент-Виктуар и прелестный портрет жены, которая задумчиво и слегка печально смотрела на два пейзажа Ходлера [14]14
Ходлер Фердинанд (1853–1918) – швейцарский художник, по манере близкий французскому символизму.
[Закрыть]прямо напротив. Входная дверь изнутри была закрыта деревянным рельефом Барлаха [15]15
Барлах Эрнст (1870–1938) – немецкий скульптор-экспрессионист.
[Закрыть]– мужчина в плаще как бы входил в квартиру быстрой семенящей походкой. Возле шляпной полки висело зеркало, точнее, с виду вроде бы зеркало, но, если стать перед ним, обнаруживалось, что это забранная под стекло картина Дали – зеленая фигура на фоне голубого неба, тело поддерживали строительные леса, а из ног торчало множество выдвижных ящиков. Если б Эспаньолка не обнял меня за плечи и дружелюбно, однако решительно не подтолкнул в гостиную, я бы так и проторчал весь день в холле.
Меж двух выходящих на улицу окон висел огромный Матисс – окно, распахнутое в цветущий сад, навстречу морю и желтому, прямо-таки сияющему небу. Самый великолепный Матисс, какого мне довелось видеть.
– Написана картина в девяносто восьмом на Бель-Иле в Бретани, – сказал Эспаньолка. – Как видишь, он уже начал отходить от импрессионистов. И именно тогда унаследовал сто тысяч от старой тетки по отцу, которая жила в Лe-Като.
Здесь же, в гостиной, висели пять Пикассо и три Брака. Я за все это время не сказал ни слова, не мог.
Хотя нет, увидев огромного Матисса, сказал: «Три двадцать на два семьдесят». Совершенно рефлекторно.
Кажется, он заменил рюмку с портвейном в моей руке на другую, с коньяком, во всяком случае, когда я в конце концов сел в кресло и вновь осознал, кто я и где нахожусь, в руке у меня был коньяк.
Но прежде он провел меня по четырем другим комнатам: в первой помещался Ван Гог, во второй – Кандинский, а остальные две делили меж собой Дега, Грис, [16]16
Грис Хуан (наст. имя Хосе Викториано Гонсалес; 1887–1927) – испанский художник, один из главных представителей синтетического кубизма.
[Закрыть]Пикассо, Миро и Утрилло. Он коротко рассказал о каждой картине: где и когда она написана, как у художника в ту пору обстояло с выпивкой и кого или скольких он тогда любил.
Я, стало быть, уселся в кресло – передо мною висел Клее, пейзаж с розовыми и голубыми птицами. Эспаньолка сел рядом, над его креслом парили шагаловские крылатые часы. Я попробовал отпить глоток коньяку, но проглотить не смог, хочешь не хочешь дал ему испариться во рту.
– Ты не спросил про сюрприз, – сказал он. – Про тот, что я посулил тебе по телефону.
Я только кивнул. Это означало: можешь не беспокоиться, ты уже так меня ошарашил, что дальше некуда.
– Наверно, тебе любопытно, кто я такой. Видишь ли, несмотря ни на что, публике я совершенно неизвестен.
Я опять кивнул. Хотя на самом деле ни на секунду не задумывался о том, кто он, собственно, такой. Обо всем говорили картины.
– Я люблю искусство, – сказал он. – Коллекционирую его. И жизнь была ко мне щедра. Обеспечила средствами, позволяющими приобретать то, что мне хочется.
Я опять кивнул, словно хотел сказать, что по большому счету жизнь и со мной обошлась так же.
Он мог бы ничего больше не говорить. Мне казалось, я знаю о нем все.
– Восприимчивость – вот активное начало в каждом человеке, – продолжал он, – она наполняет нас пылкими мечтами и честолюбием и помогает разглядеть, что абсолютно безупречное бездушно и холодно. Восприимчивость наделяет нас способностью творить. И чем больше творишь, тем плодовитее становишься.
Кивнув и на сей раз, я имел в виду, что эти слова мне знакомы. Бодлер.
– Однако мир полон людей, которые сами думать не умеют, – сказал он, – они думают только скопом, как бельгийцы.
Тут он обнаружил, что рюмки у нас пустые. Помог мне встать с кресла и повел к бару в комнате Кандинского. Там-то он и научил меня смешивать «Für immer selig», некогда изобретенный немецким экспрессионистом Эмилем Нольде. Иных произведений немецкого экспрессионизма он мне не показывал. Две части темного пива, одна часть джина, по одной – сладкого вермута и пикины, щепотка соли и несколько капель табаско. И я снова мог говорить.
– Самый большой сюрприз в моей жизни, – сказал я, – мне преподнесли власти, когда забрали «Мадонну». Позднее я понял, что это было необходимо, что они поступили совершенно правильно. Я не сознавал тогда, насколько жалок и ничтожен.
– Этот напиток хорош откровенной многогранностью, – сказал Эспаньолка. – В нем содержится вся мыслимая кислинка, и сладость, и соленость, и горчинка. Рот может сам выбрать вкус.
Но я по поводу «Für immer selig» промолчал, напиток этот восторга не вызывает, нужно время, чтобы привыкнуть к нему.
– На самом деле сюрприз только иллюзия, – сказал я. – По правде его не существует.
– Если получаешь больше, чем ожидал, то волей-неволей воспринимаешь это как сюрприз. И устраивать такого рода сюрпризы – несказанное наслаждение.
Пока мы сидели в креслах и беседовали, на коленях у него лежал рисовальный блокнот, он ни на миг не выпускал его, временами отставлял стакан и ручкой проводил на бумаге несколько стремительных штрихов.
– Иллюзии, – сказал он. – Представления. Образы. Вот все, что мы имеем. Образопоклонники, иначе нас не назовешь.
Жаль, Паула со мной не поехала, подумал я. Тоже бы порадовалась разговору, и всем этим картинам, и уютной атмосфере, окружающей Эспаньолку.
– Кроме наших представлений, не существует ничего, – сказал я. – В средоточии всех наших представлений находится твердая сердцевина. Это и есть мир.
– Конечно, – согласился он. – Именно так.
– Это не мои слова, – заметил я. – Это Шопенгауэр.
– Разумеется. Шопенгауэр.
– Мир, он не больно-то заметный. Даже не газ и не туман. Он словно линии, вытравленные на прозрачном стекле.
Мы осушили свои стаканы. Не выпуская из рук блокнот, он быстро прошелся по комнатам, зажег многочисленные лампы, освещающие картины, ведь уже смеркалось. Я последовал за ним, но не осмеливался смотреть на полотна, разговор навеял на меня приятное спокойствие, и мне совершенно не хотелось ни новых волнений, ни потрясений.
Он остановился у небольшого диванчика, под Клее и Шагалом. Вырвал из блокнота три листа и протянул мне. Подписи на них не было.
На всех трех рисунках был я. Моя ошарашенная голова с невинным венчиком волос над ушами. Я по очереди, внимательно и долго, изучил каждый.
– Модильяни, – сказал я. – Приблизительно тысяча девятьсот десятый год… А здесь Пикассо. Поздний. Тридцатые годы… Ну, а это – Тулуз-Лотрек. Зарисовка сделана в трактире в Нейи.
Будь я трезв и не повергни он меня в такое замешательство, эти рисунки для меня вообще бы не су-шествовали. Они просто не могли существовать. Я поднял голову, посмотрел на Эспаньолку и пробормотал:
– Мефистофель чертов.
Только теперь мне бросилось в глаза, что выглядит он точь-в-точь как Мефистофель на картине Бёклина.
Затем он взял меня за руку и провел в крохотное помещение, вернее, в нишу за комнатой Ван Гога и отодвинул портьеру – там висела «Мадонна».
Да-да, она самая.
Я не удивился, просто констатировал факт ее присутствия. И заплакал, хотя изо всех сил старался с собой совладать.
– Ну, что скажешь? – спросил Эспаньолка.
Я не сказал ничего, пытался утереть глаза. Ведь я был совершенно уверен, что больше никогда ее не увижу.
– Смотри внимательно, – сказал он. – Она вправду заслуживает, чтобы ее изучали в лупу. Не случайно это единственная шведская картина в моей маленькой эксклюзивной коллекции.
Что верно, то верно. Никакое другое произведение кисти шведского живописца не могло бы висеть вместе с Клее, Шагалом, Пикассо и Ван Гогом.
– Об этом нет нужды говорить, – сказал я. – Ведь именно я нашел ее.
Наплакавшись, я достал из кармана пиджака лупу, подошел ближе и стал рассматривать картину, миллиметр за миллиметром, как рассматривал тысячу раз до этого, я узнавал каждый мазок, каждую пылинку, снова увидеть ее было в тысячу раз приятнее, чем наконец-то встретиться с Паулой.








