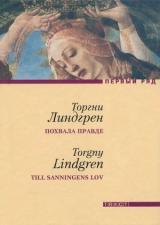
Текст книги "Похвала правде. Собственный отчет багетчика Теодора Марклунда"
Автор книги: Торгни Линдгрен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
~~~
Слишком уж нас много. Захоти я составить рассказ, просто чтобы развлечь себя и, может быть, Паулу, то ограничился бы всего тремя-четырьмя персонажами, не больше. Вполне обошелся бы без собственных предков и родителей Паулы, без Снайпера, без телохранителя, без Гулливера, без Дитера Гольдмана и многих других. И отчет с удовольствием написал бы куда более простой и обозримый. Снова и снова у меня сводит судорогой маленькую мышцу на левой руке между большим и указательным пальцами. А теперь вот возникает еще один персонаж.
Она явилась, когда я открыл магазин после рождественских праздников. Я сообщил ей цены на пейзажи, однако они ее не интересовали, она сразу же залезла в витрину, присела на корточки и стала разглядывать «Мадонну». Маленькая, пухленькая, волосы светлые, золотистые, взлохмаченные. Очень долго она сидела не шевелясь, а когда наконец надумала встать, оказалось, что ноги затекли, пришлось мне самому вытаскивать ее из витрины и ставить на ноги. С тех пор как уехала Мария, я к женщинам не прикасался, и было очень приятно на несколько секунд обнять ее.
Когда я ее отпустил, она сказала:
– Если уж нашел Дарделя, то расстаться с ним невозможно. Какая страстная увлеченность проблемами формы. Какая художественная дисциплинированность. И изысканный артистизм. Он погружался в страдание намного глубже, чем другие.
– Да, что верно, то верно.
– Я дарделианка, – сообщила она.
– Дарделианка?
– Точно так же, как другие могут быть ницшеанцами, вагнерианцами или витгенштейнианцами.
– В таком случае я тоже дарделианец.
– Ты только представь себе, – продолжала она, – болезненную натуру, способную выразить подобную чувственность. Хотя «болезненная», пожалуй, не то слово, просто в основе его характера заложен неисцелимый недуг. Он не имел выбора, не мог не быть эксцентричным и вызывающим, словно от непрестанной боли в мозгу. Язвительное, наркотическое, хмельное – вот что я люблю у него. Опасное, подозрительное, нездоровое.
– Думается, я понимаю, что ты имеешь в виду.
– Он ведь чужак, иностранец. И был бы таким, где бы ни родился и где бы ни жил. Как швед, он сущее недоразумение.
– Ты искусствовед?
– Я училась на искусствоведческом. – Она запустила пальцы в волосы, еще больше их взлохматив. – Защитила диссертацию по шведскому сюрреализму.
– Господи! – воскликнул я. – Так это ты! «Грезы под небом Арктики». У меня есть твоя книга.
– Да, это я.
Я принес стул, предложил ей сесть. Впервые мне довелось встретиться с человеком, написавшим книгу по искусству, одну из тех, что стояли у меня на полках. Она, пожалуй, слегка удивилась, но села.
– Там на переплете «У моря» Мёрнера, [11]11
Мёрнер Стеллан (1896–1979) – шведский художник.
[Закрыть]– сказал я.
– Совершенно верно. Изумительная картина.
– И в каком же музее ты сейчас работаешь?
– Я работаю в губернском налоговом управлении, – ответила она. – Для искусствоведов работы нет.
Я ей не поверил, попробовал осторожненько улыбнуться. Она тоже временами улыбалась, и эта ее улыбка как бы стирала все сказанное до сих пор, так что приходилось начинать сначала.
– Но «Мадонна» тебе понравилась, – сказал я.
– Смею утверждать, что это самая значительная его работа.
– Налоговое управление тут уже побывало. Малый, у которого волосы зигзагом на лоб зачесаны.
– Точно, – кивнула она. – Я его начальник. Мы остались недовольны его отчетом.
И она объяснила, что мои декларации за все годы были неудовлетворительны, однако они смотрели на это сквозь пальцы, речь-то шла о смехотворно мелких суммах, моя манера отчитываться по двум статьям – по расходам и по доходам – в общем-то недопустима, вдобавок теперь им ясно, что моя коммерческая деятельность имела размах, который необходимо со всею тщательностью проверить. Она и законы перечислила, и постановления, каковыми я как предприниматель обязан руководствоваться.
– Когда ты так говоришь, – заметил я, – прямо не верится, что ты искусствовед.
– Искусствоведы – паразиты, – сказала она и улыбнулась своей странной улыбкой, – они только пустословят. Нет у них связи с реальностью.
– А как же ты сама?
– Это все дело прошлое, – сказала она. – Я просто ничего не понимала. Меня ослепила внешняя одухотворенность и красота.
– Но ты назвала себя дарделианкой.
– Рецидив. Голова закружилась от неожиданности. Однако сейчас все уже в норме.
Засим она пожелала ознакомиться с моей бухгалтерией.
И я притащил ящик, куда обычно складывал все чеки, квитанции и прочие бумажки.
– Когда приходит время заполнить декларацию, я их сортирую. Расходы отдельно, доходы тоже. Невелик труд.
Я весьма гордился этим ящиком, там вправду было всё. Никакая на свете бухгалтерия полнее и быть не может. Достав кусочек картона, я показал ей запись: «Получил десять кустиков календулы для витрины от м. П.».
– Кто это – м. П.? – спросила она.
– Мать Паулы, – объяснил я. – У нее музыкальный магазин вон там, через дорогу.
– Не нравится мне, что ты надо мной подсмеиваешься, – сказала она. – Ты явно не понимаешь, что дело серьезное. Пытаешься усилить свою смиренность, растрогать меня. Календула.
– Я делаю все, что могу. Как всегда.
– Так все говорят. Все нерадивые налогоплательщики прибегают к одной и той же уловке: я делал все, что мог. Наше управление устало их слушать.
Я снова сунул ящик под прилавок и спросил:
– Не хочешь еще полюбоваться «Мадонной»? Можно вынуть ее из витрины.
Но она лишь нетерпеливо махнула рукой, взглянула на часы и встала.
– Если мы поможем друг другу, то сумеем во всем разобраться. Ведь речь идет не о тебе лично, а только о твоих делах.
Она не смотрела ни на меня, ни на пейзажи по стенам, устремила взгляд куда-то в пустоту.
– И на том спасибо, – сказал я.
– Тебе же будет лучше, – заметила она. – Мы нужны друг другу, общество и люди. Ни общество, ни люди собственными силами не справятся.
Я открыл ей дверь. Уже на лестнице она обернулась и сказала:
– Мы получили доверительную информацию. Анонимно. Якобы у тебя есть три миллиона, которые ты собираешься куда-то вложить.
В то утро было холодно, пятнадцать градусов мороза. Я пытался подыскать какой-нибудь ответ, даже рот открыл, собираясь что-нибудь сказать, однако оказался способен лишь выпустить огромное облако пара. Так до сих пор и не знаю, что мне следовало сказать в ответ.
Я мог бы сказать, что если она ненадолго задержится, то услышит историю «Мадонны».
Вот о чем сообщил в своем письме Дитер Гольдман.
Его дед по отцу был мясником и жил в Эрлангене, недалеко от Нюрнберга; фабричка его располагалась возле площади Хугеноттенплац и специализировалась на колбасах и паштетах. Еще на рубеже веков он вечерами и ночами начал проводить кой-какие опыты по использованию нового сырья, в первую очередь хотел превратить все, что доселе считалось отходами, в полноценные товары, даже деликатесы. Для начала пустил в переработку кожу, вымя, требуху, губы, хрящи, брюшину и успешно преобразил все это в гусиную печенку, салями и пряные сосиски. В годы Первой мировой войны предприятие его разрослось, он скупал отходы и побочные продукты у других мясников, даже в Байройте и Бамберге, а продавались новые товары под маркой «Люкс». Вдобавок он сконструировал специальную машину, которая измельчала кости и кожу в розовую кашицу, служившую отличной приправой для чайной колбасы и баварского паштета. К концу войны ему удалось сколотить солидное состояние. Кроме того, он обнаружил, что мясо любых животных, если варить его достаточно долго и размолоть помельче, в итоге совершенно одинаково на вкус.
Отцу Дитера Гольдмана, Вернеру Гольдману, было в ту пору двадцать лет. Он окончил гимназию, и ему предстояло постепенно взять на себя руководство фирмой.
А он мечтал стать художником. В эрлангенском Музее графики он видел Дюрера и Грюневальда, особенно грюневальдовские сцены распятия и маленькая «Мадонна» Латура на всю жизнь врезались ему в память; сам он писал акварели. Весной 1920 года Вернер сумел уговорить отца, и тот оплатил ему поездку в Париж – два месяца свободы и богемной жизни, после чего он окончательно и бесповоротно похоронит себя среди колбас и паштетов.
В Париже он снял комнатушку рядом с синагогой на улице Виктуар. Ходил по музеям, сидел в парках, делая зарисовки, но больше всего времени проводил в кафе – в «Ротонде» и «Куполе», где и познакомился с Фернаном Леже.
Однажды вечером Леже привел его к своему приятелю, который жил в мансарде на улице Лепик. Там была пирушка, человек десять художников разных национальностей ели, пили, шумели. Присутствовали и несколько натурщиц. Гости приходили и уходили когда вздумается, многие спешили за один вечер побывать чуть не на десяти этаких пирушках. Хозяина мансарды звали Нильс фон Дардель; как сообщил Леже, он шведский аристократ и изредка забавляется живописью. Пил он вроде бы не меньше других, однако не пьянел, ходил с бокалом в руках, улыбался, рассказывал шутливые истории.
Отец Дитера Гольдмана чувствовал себя в этой компании не вполне уютно, он сел у окна в маленькой столовой с китайскими птицами на обоях и столом, покрытым персидской шалью, и стал смотреть поверх крыш на город – совсем рядом была церковь Сакре-Кёр, а туман над Сеной был снизу подсвечен уличными фонарями.
Внезапно он заметил, что вокруг все стихло. Гости разошлись, остались только он и Дардель. И Дардель спросил, не хочет ли он посмотреть картину, которую сам охарактеризовал как проблематичную и внушающую опасения. Говорили они по-немецки, и Дардель использовал именно слово «bedenklich».
Это оказалась «Мадонна». Едва взглянув на картину, отец Дитера Гольдмана тотчас растрогался до глубины души. Центральная фигура триптиха, Богоматерь, точь-в-точь походила на латуровскую «Мадонну», которой он ребенком восхищался в Эрлангене, – никогда он не видел ничего прекраснее.
И так и сказал Дарделю, со слезами на глазах.
Собственно говоря, Дардель намеревался подарить эту картину маленькой церкви в Сен-Блезе, что в кантоне Нёвшатель, откуда были родом его предки, однако сомневался, что церковь примет дар. А зная себя, зная собственную гордыню и аристократическую впечатлительность, он просто с ума сойдет, если его отвергнут.
Отец Дитера Гольдмана заверил его, что этот триптих – самое блистательное и гениальное произведение, какое он видел с тех пор, как приехал в Париж.
– Да, – согласился Дардель, – она вправду красивая.
– Я и не предполагал, что бывает такая красота, – сказал отец Дитера Гольдмана. – Знакомое и недоступное райское видение, как говорит Шопенгауэр.
– Она работает официанткой в кафе под названием «Винь-о-Муано», – сообщил Дардель. – Ты можешь с ней познакомиться. Зовут ее Гертруда, она родом из Монтессона.
«И когда рассвет смахнул покровы, которые окутывали ночной Париж, – писал в своем письме из Карлстада Дитер Гольдман, – мой отец и Нильс фон Дардель сидели за столиком в «Винь-о-Муано» и потягивали креман, [12]12
Креман – шипучее вино.
[Закрыть]принесенный Мадонной, Гертрудой, тезкой слепой девушки из «Пасторальной симфонии» Жида, а впоследствии моей матерью».
– Я дарю ее тебе, – сказал Нильс фон Дардель.
– Спасибо, – ответил отец Дитера Гольдмана. Он остался в кафе, чуть что не поселился там, а Нильс фон Дардель выпил два бокала и ушел.
Спустя две недели все было решено, они обручились, и в Эрланген он вернется вместе с нею, она любила его, и мечтала о спокойной жизни, и колбасами всегда интересовалась.
Перед отъездом из Парижа они наведались к Нильсу фон Дарделю на улицу Лепик, 108.
– Я хочу купить «Мадонну», – сказал отец Дитера Гольдмана.
– Да ведь она уже твоя, – отозвался Дардель.
– Одна – оригинал, – сказал отец Дитера Гольдмана, – другая – копия. Я вконец запутался, не знаю, кто есть кто. Мне нужны обе.
Дардель рассмеялся, басовито и на удивление громко, взял листок бумаги и выписал счет, на пять тысяч франков. Так триптих оказался в Эрлангене.
В самом низу на этом счете Дардель написал: «Gott segne Ihre Vereinigung». [13]13
Господь благослови ваш союз (нем.).
[Закрыть]Благословение касалось всех троих – жениха, невесты и картины.
Когда поезд Париж – Нюрнберг сделал остановку в Вердене, отец Дитера Гольдмана взял штопальную иглу, которой его снабдила маменька, и нацарапал внизу на обороте правой створки свои инициалы: В. Г.
Через год Вернер Гольдман возглавил отцовское дело, по-прежнему процветавшее.
Однако вскоре начались сложности. Вернее сказать, жизнь улучшилась. Клиенты стали спрашивать натуральные продукты. Вернер Гольдман был вынужден снизить цены на деликатесы марки «Люкс», через год-другой их уже вообще никто не покупал, они лежали на складе, на задворках Хугеноттенплац, плесневели и портились. Ведь, несмотря ни на что, между поддельным и настоящим существовала едва уловимая, но отчетливая разница. Гурманы Гольдманы этой разницы не чувствовали, а вот вкусовые рецепторы рядовых клиентов очень хорошо ее улавливали.
У Вернера Гольдмана не было средств, чтобы сохранить за собой дом на Бисмаркштрассе, и они с женой перебрались в маленькую квартирку на Рюккертвег. Тогда-то «Мадонну» и снабдили новой рамой, целиком она ни на одной стене не умещалась, Вернер Гольдман упрятал ее в ту самую раму с секретом, в какой я обнаружил ее на аукционе.
В тот день, когда Дитер Гольдман родился на свет, его отец разобрал здоровенную мясорубку, которая перемалывала кости, требуху и кожу, и продал детали как металлолом.
Случилось это шестнадцатого июня 1931 года. Вырученных денег хватило, чтобы через месяц-другой всей семьей выехать в Швецию. К тому же Вернер Гольдман имел облигации старинной и весьма солидной шведской фирмы «Крюгер и Толль», на сумму десять тысяч крон.
Дитер Гольдман так и остался единственным ребенком. Он лежал в плетеной корзине на железнодорожном вокзале в Крюльбу, когда «Мадонну» украли. Вернер Гольдман заказал билеты до Карлскруны и пытался растолковать железнодорожному служащему, что в жизни не слыхал про Карлстад и в самом деле не собирался туда ехать. Когда же он в конце концов сдался и решил вынести багаж на перрон – мать Дитера Гольдмана сидела чуть поодаль на скамье, она устала и плохо себя чувствовала, – оказалось, что «Мадонны» нет.
Вызвали полицию, Вернер Гольдман плакал и кричал, проклиная здешние железные дороги и вороватый шведский народ, но картина безвозвратно пропала. Мало-помалу он примирился с судьбой, очень выгодно продал в Карлстаде крюгеровские акции и открыл страховое агентство.
В письме Дитер Гольдман писал, что, прочитав в прессе о «Мадонне», разволновался и растрогался. Сам он, конечно, никогда не видел этой картины, зато видел свою мать и понимал, что речь наверняка идет о произведении прямо-таки неземной красоты. К письму он приложил фотографию матери.
Внизу на обороте правой створки я нашел нацарапанные буквы «В.Г.», на которые раньше не обратил внимания. И на фотографии, несомненно, была Мадонна, я тотчас узнал глаза и губы. Только она располнела и постарела, нос вроде как вырос, а на лбу, над переносицей, залегла угрюмая, грубоватая складка, жизнь попросту превратила ее лицо в этакую дешевую подделку. В верхнем углу снимка карандашом была проставлена дата: 1964 год. Я сжег эту фотографию.
Вот что я мог бы рассказать женщине из налогового управления, которая в прошлом была искусствоведом. Но я не знал, будет ли ей интересно. Не был уверен, что она вправду приняла «Мадонну», что картина всерьез ее взволновала.
Я вообще много чего не знал.
Теперь, задним числом, могу сказать: к счастью, я не знал почти ничего.
К примеру, не знал, чем в ту пору занимался с Паулой телохранитель. Собственно говоря, телохранитель, разумеется, был не один, они работали вчетвером, сменяя друг друга, и я не знаю, шла ли речь только об одном или обо всех четверых. Сейчас, когда иной раз вспоминает об этом, Паула говорит «телохранитель». Он принуждал ее к сексу. И она не могла протестовать, не смела защищаться. Знала ведь, что телохранитель ей необходим, что без охраны не обойтись.
Женщина из налогового ведомства занимала пост управляющего, этого я тоже не знал. Я долго стоял на лестнице, глядя ей вслед, она приехала на «опель-кадете». Когда же я наконец повернулся и хотел войти в дом, оказалось, ладонь примерзла к дверной ручке, пришлось отдирать.
~~~
– Надо было поручить все кому-нибудь другому, – сказала Паула. – В одиночку тебе дело с «Мадонной» не уладить, слишком она для тебя масштабна. Мне вот ни о чем не нужно беспокоиться, дядя Эрланд все улаживает.
Она по-прежнему выступала в ресторане, днем репетировала, а весной и летом будет гастролировать в провинции. Я всегда знал, чем она занята, и был за нее спокоен.
– Ты не понимаешь, – сказал я, – какую ответственность возложила на меня «Мадонна». Найти ее – почти все равно что написать.
Я не хотел говорить Пауле, но мне часто казалось, будто «Мадонна» целиком и полностью мое творение, а вовсе не Дарделя.
Зима выдалась необычайно студеная, заказчиков приходило меньше обычного, и в мастерской я работал не более нескольких часов в день. Паула прислала мне «Иберию» Дебюсси, и я слушал ее снова и снова. Исполнял «Иберию» Лондонский филармонический оркестр, как раз в такой музыке я тогда и нуждался. В ней нет крупных тем и симметрии, нет ничего упорядоченного и четкого. Звуки существуют просто как таковые, и только, они никуда не ведут, гармонии все время сдвигаются, тональности приходят и уходят, они совершенно случайны, предвидению ничто не поддается. Все инструменты обособлены, вынуждены полагаться лишь на самих себя средь полной неопределенности, изменчивости, непостоянства.
Слушая «Иберию», я думал: все будет хорошо, поскольку случиться может что угодно.
На письма я не ответил – ни Дитеру Гольдману, ни Марии, ну, той, которая утверждала, что по-прежнему живет у меня. Однако я непрестанно думал о том, что напишу в ответ, ведь когда-нибудь придется это сделать, я буду вежлив и участлив, но на рассеянный и слегка небрежный лад, они ни на секунду не должны заподозрить, что их письма встревожили меня или что я воспринял их претензии всерьез. Может быть, удастся обойтись одним и тем же ответом. Все мы как новорожденные, думал написать я, ждем для себя счастья и удовольствий, но случай быстро берет нас в оборот и учит, что мы ничем не владеем, что все принадлежит ему – и все имущество, и вся родня, и друзья, и наши руки, ноги, глаза и даже нос посреди физиономии.
В конце февраля мороз отступил, и я даже мог на время открывать в мастерской окно. И вот однажды, стоя за рабочим столом, вдруг услышал, как кто-то окликает меня в окно:
– Привет, багетчик! Чем занимаешься?
Она. Управляющая из налогового ведомства.
– Семейной фотографией, – ответил я. – Серебряная рама со стеклом. Пять поколений.
– Господи, – сказала она, – неужто такое возможно? Пять поколений!
– В Магдебурге есть фотография шести поколений, – заметил я. – Семейство по фамилии Раублиц.
Недаром же я от корки до корки прочел «Книгу рекордов Гиннесса».
– Можно нам войти? – спросила она.
– У меня открыто, – сказал я, – до пяти.
Они вошли один за другим, но я их не считал. Не то пять человек, не то шесть. Она всех представила, хотя позднее я не мог вспомнить ни имен, ни должностей. Был среди них судебный исполнитель или заместитель оного, несколько полицейских, а еще, кажется, начальник инспекции. Они стали посреди мастерской, огляделись по сторонам.
– Добро пожаловать, – сказал я.
А затем сообщил, сколько стоят писанные маслом подлинные картины, и добавил:
– «Мадонна» в витрине не продается.
О чем речь пошла дальше, я не помню, они говорили в основном между собой, на меня особо не обращали внимания. Я сел на табуретку, на которую обычно встаю, чтобы передвинуть крючья для картин на потолочном карнизе. Они принесли с собой черные пластиковые мешки и теперь совали туда все, что попадалось под руку, – каталоги, прейскуранты, проспекты, записные книжки, невразумительные дедовы чертежи и карточные колоды, из которых я раскладывал пасьянс, опорожнили все ящики, коробки, папки, забрали даже последний номер «Новостей недели», который мать Паулы принесла нынче утром. На обложке было написано, что Паула наконец встретила свою любовь.
– Ну и помойка! – сказал один из них, словно мне в утешение. – И зачем народ копит этакую прорву бумаги! Я всем своим знакомым твержу: сжигайте все до последнего клочка, чтоб не осталось ни единой крошки правды или лжи.
А другой сунул мне под нос кусочек картона с надписью: 583 759.
– Что это? – спросил он.
– Картина, – ответил я. – Лось, лосиха и лосенок.
– Если перемножить, выходит четыреста сорок две тысячи четыреста девяносто семь. Большие деньги.
– А это не деньги, – сказал я. – Это миллиметры.
– Разберемся, – сказал он. – Разберемся.
Старший из них – он был в темном костюме и сером галстуке, словно явился на некое торжество, – сказал мне, что я еще благодарить их стану:
– Когда все у тебя будет приведено в порядок. Когда мы разберемся в твоем тарараме. Но тут потребуется время. Это вроде как игра на терпение, когда загоняешь два шарика в глаза крокодила.
Меня все время не оставляло ощущение, что надо им показать, что я на них не в обиде и ничуть не оскорблен. Можно бы сыграть «О sole mio». Однако я продолжал смирно сидеть на табурете.
Под конец управляющая подошла ко мне, ну, эта дама, что, прежде чем повзрослеть, защитила диссертацию по искусствоведению. «Грезы под небом Арктики».
– Мы должны забрать «Мадонну». В качестве залога. Как обеспечение всех налоговых недоимок, которые могут за тобой числиться.
На щеках у нее горели большие красные пятна, будто от лихорадки, веки подрагивали, а руки она прижала к груди, чтобы я не видел, как они трясутся. Смотрела она мне прямо в глаза.
– Я тебе верю, – сказал я. – Всем вам верю.
Это чистая правда, я им верил. И оттого был спокоен. Вера помогала.
– В сущности, это не что иное, как картина, – сказала управляющая. – Триптих.
– Никогда в жизни я не кривил душой и не обманывал, – сказал я, сам не знаю почему.
Она что-то ответила, но я не расслышал, потому что в тот миг завыла сигнализация, которой надлежало вызвать полицию, если кто попробует унести «Мадонну». Я видел только, как она улыбнулась и как ее губы беззвучно произнесли длинную фразу, каковая гласила, что никто не сомневается в моей честности и что они постараются действовать со всею тщательностью, на совесть, именно потому, что я столь непостижимо, если не сказать пугающе честен. А я ответил, что мне стыдно, ведь я сам во всем виноват, надо было завести кассовый аппарат, и бухгалтерские книги, и бухгалтера-консультанта, и нормальный банковский счет, но она не слышала.
Двое полицейских, которым велели забрать «Мадонну», про сигнализацию не знали, но, когда включилась ПРЯМАЯ УГРОЗА, один из них быстро достал из кармана кусачки и перекусил несколько проводков, которых я до сих пор вообще не видел; они явно не впервые выполняли подобные задачи. И «Мадонну» унесли.
Они ушли, а я так и сидел на табуретке, долго ли, нет ли, не знаю, сидел и думал, что надо бы позвонить в страховую компанию и заявить о краже «Мадонны». Хотя «кража», наверно, не то слово. В глубине души я, пожалуй, никогда не верил, что она останется у меня.
В конце концов я поднял голову и посмотрел на пустую витрину. Никогда прежде я не видел такой пустоты. Ужасное зрелище – лист фанеры, на котором она стояла. И лампы с отражателями. Невозможно терпеть этакую пустоту.
Забравшись в витрину и усевшись по-турецки на место «Мадонны», я заметил, что от усталости дрожу всем телом, а оттого обмяк, подпер голову руками и сразу же уснул, хоть и с открытыми глазами.
Не знаю, зачем я это рассказываю. Каждому человеку доводилось пережить нечто подобное.
Пустоту я кое-как заполнил, но заменить «Мадонну» не мог. Выглядел я, должно быть, как восковая фигура. Клиенты не приходили. А может, приходили, только я их не видел и не слышал. Не знаю.
Когда я опомнился, было темно, наверно, настала ночь. За окном кто-то стоял и смотрел на меня, я его не видел, но чувствовал, потому и проснулся. Выпрямившись, приставил большие пальцы к ушам, остальные же растопырил и помахал ими, а заодно скроил самую что ни на есть нелепую гримасу, хотел показать, что отнюдь не впал в невменяемость и не сбрендил, а в витрине сидел шутки ради. Потом я пошел открывать.
Это была она, управляющая. Волосы намокли от дождя, висли по щекам как увядшая трава.
Она не сказала ни слова, просто прошла через магазин и мастерскую, поднялась по лестнице в мою квартиру. Наверно, хочет забрать что-то, что они забыли прихватить с собой, подумал я.
На кухне она сняла пальто, бросила его на стул и сказала:
– Я совершенно вне себя, не знаю, что предпринять.
Могла бы и не говорить, я и так заметил. И решил утешить ее:
– Это в порядке вещей. Человек редко бывает в себе, вечно снует туда-сюда.
– Когда наши парни сегодня выносили «Мадонну», это была самая волнующая акция, в какой я когда-либо участвовала. Пришлось даже совершить двухмильную пробежку. Но без толку.
– Где она теперь, «Мадонна»?
– У судебного исполнителя. На свете нет более надежного места. Беспокоиться тебе не о чем.
– Я никогда не беспокоюсь. Но без нее до ужаса пусто. Она была для меня как мать.
Видимо, я тоже разволновался, иначе бы в жизни такого не сказал.
– Я представить себе не могла ничего подобного, – сказала управляющая. – Ну, что мне доведется участвовать в такой акции. Я словно была персонажем и режиссером чего-то намного большего, чем я сама.
Она шагнула ко мне и принялась теребить мою одежду; я чувствовал, как ее колотит дрожь.
– Я словно находилась внутри произведения искусства, – сказала она.
– Кто бы мог точно знать, – сказал я. – Всем правит случай. Противодействовать ему – значит отдавать все во власть другого случая.
Когда она потащила меня к нише с кроватью, я даже не пробовал сопротивляться, мне было жаль ее и хотелось сделать для нее все что угодно.
Широкую кровать с пружинным матрасом я приобрел, когда у меня жила Мария.
Она то и дело повторяла мое имя, я же не произнес ее имя ни разу, забыл, как ее зовут, и не хотел, чтобы у нее вообще было имя. Лежа с нею в постели, я испытывал странное ощущение: не то сплю с обыкновенной женщиной, не то с официальным ведомством.
На самом деле все наверняка было не так замысловато и сложно, как представляется сейчас. Увы, не дано мне писать так, как играет Гленн Гульд.
В общем, пока я изо всех сил старался ей помочь, мне вдруг вспомнилось, что этим вечером мой черед звонить Пауле. И, приподнявшись на локтях, я посмотрел на часы. Было пол первого.
Я попросил извинить меня на минутку, надо, мол, кое-что сделать, я скоро вернусь, просто по рассеянности забыл про один пустяк. И поспешил в магазин, к телефону.
Паула не поверила, когда я сообщил, что «Мадонну» забрали.
– Здесь, в Швеции, так не бывает! – воскликнула она.
Вернувшись наверх, я застал управляющую в той же позе, в какой ее оставил, и мог продолжить, будто перерыва вовсе не было.
Лишь через час-другой она наконец расслабилась, довольная, избавленная от своей горячки; я сразу уснул, выбившись из сил и взмокнув так, будто аккурат вышел из-под душа.
Проснулся я днем, озябший, весь серый от засохшего пота.
Она исчезла. Даже не вздремнула подле меня, хотела, наверно, проявить такт и деликатность, приходила-то потому лишь, что это было абсолютно необходимо ей самой.
Насколько я понял, она даже не устала. Все мои книги по искусству, снятые с полок, стопками лежали на полу; когда я уснул, она не ушла, а до рассвета читала-перелистывала книги. Сверху в одной из стопок лежали «Грезы под небом Арктики». Открыв книгу, я обнаружил посвящение. Длинное и сформулированное весьма четко; сохранись у меня «Грезы», я бы привел здесь ее слова. Самая большая заслуга сюрреализма, писала она, заключается в том, что он вынул из человека содержание его сознания и сделал реальностью-в-себе, предметом. Благодаря сюрреализму душевное стало зримо как нечто находящееся вне человека, имеющее к нему касательство лишь как символ; стержень личности остается целым, нетронутым. Сюрреализм указывает путь к душевному здоровью через понимание, что бессознательное есть всего-навсего то, что мы себе воображаем. Если не сказать: фальшивка. Попросту говоря, мы способны обрести мир и покой, проводя в духе сюрреализма различие меж вещью и индивидом. Дальше там стояло: «С глубоким уважением. Горячо обнимаю. Искренне твой авт.».








