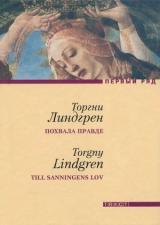
Текст книги "Похвала правде. Собственный отчет багетчика Теодора Марклунда"
Автор книги: Торгни Линдгрен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
~~~
Мы привыкли, что музыкальный магазин через улицу меняет владельцев. Год-два торговец кое-как перебивался, а потом всё – снимался с места, пусть кто другой счастья попытает. Приезжали-уезжали у нас на глазах. Музыка есть музыка, непостоянная она, переменчивая, нельзя на нее положиться. Мне было одиннадцать, когда магазин перешел к Линнатам. Его звали Андерс, но по-настоящему Анджей, в Швецию он попал ребенком, во время войны. Жену его звали Луиза, и она была в положении.
Высокий, рыжеволосый, Андерс играл на фортепиано; приехали они летом, и он частенько играл на одном из двух роялей, стоявших в магазине. Из открытых дверей лилась музыка, он пел «Толпу обманутых мужей» и популярные арии, и голос его словно заполнял собой всю равнину, от опушки леса до самого шоссе на том берегу озера.
Ребенок – Паула – родился в августе. На самом деле ее назвали Интела, Паулой она стала только через двенадцать лет. А фамилия ее была Линнат, хотя об этом никогда не говорили и не писали, никому в голову не приходило требовать, чтобы Паула еще и фамилию имела.
Здесь я буду называть ее Паулой, ведь теперь это настоящее ее имя.
Андерс Линнат давал уроки игры на фортепиано. «Губернская газета» напечатала интервью с ним. Музыке он учился в Копенгагене, Базеле и Риме и преподавал ради удовольствия. Ведь фактически он не педагог, а музыкант-исполнитель. На фотографии в газете он стоял возле рояля, с открытым ртом – видимо, пел. В одной руке скрипка, в другой – флейта. Постарался прихватить с собой на одну эту фотографию как можно больше музыки.
Ученики приезжали к нему из городков и фабричных поселков, разбросанных по здешней равнине. Когда шел урок, Андерс требовал в доме полной тишины. Поэтому его жена с Паулой на руках уходила к нам. И мы вдвоем – я и Паула – елозили по полу, я учил ее ходить, строил заковыристые домишки из обрезков реек и картона, а не то мы оба набивали полный рот опилок и выдували-выплевывали их друг на друга. Про то, что мне двенадцать, а она совсем крошка, мы вообще не думали, по крайней мере я не думал, мы веселились от души, самозабвенно, с увлечением, ни о чем особенно не задумываясь. Уже тогда голос у нее был неповторимый, если не сказать необычайный, – звонкий и сильный, как поперечная флейта с абсолютно чистым тоном. Не в пример другим малышам, она никогда не кричала, только мурлыкала, выводила трели да напевала, будто гаммы разучивала.
Мне так хотелось быть рядом с Паулой, что я разыскал мамину мандолину и пошел в музыкальный магазин, брать уроки. В притворном отчаянии отец Паулы рванул себя за всклокоченные рыжие волосы – он в жизни не держал в руках ничего столь смехотворного и противного здравому смыслу, как мандолина, однако потом все же вправду мне помог, показал приемы игры, сунул в руку медиатор и научил исполнять тремоло.
Я умею играть на мандолине «О sole mio». И иногда играю.
Конечно, нельзя сказать, что мы росли вместе, но благодаря Пауле я обрел новое детство, и оно было реальнее, подлиннее первого. Прежде нас как бы не существовало, вдвоем мы явили собой нечто совершенно новое – клоунскую пару, или тайное общество, или попросту брата и сестру. Я соорудил кукольный театр. И мы придумывали все новые спектакли с участием Арлекина, Коломбины, Панталоне и Пульчинеллы.
Когда мы начали вести разговоры? Что она мне сказала в самый первый раз?
Не помню. Мне кажется, мы всегда болтали между собой, шептались, ссорились, и первые свои слова она наверняка переняла у меня и мне же адресовала. Может статься, это была фраза: «Пока смерть не разлучит нас, Арлекин». Утром, перед школой, я непременно на минутку забегал к Пауле, а после обеда, когда я возвращался из школы, она ждала, стоя у нашей витрины с писанными маслом картинами или сидя на качелях, которые я подвесил для нее на грушевом дереве у нас во дворе.
Отец начал учить ее музыке, как только она смогла держать в руках флейту-пикколо и усидеть какое-то время за фортепиано. Когда ей сравнялось три года, они вдвоем играли ля-минорную сонату Шуберта, Паула – партию фортепиано, а он – партию виолончели, зажав инструмент меж крепких ляжек. Это было их первое выступление. Публику изображали мы: моя мама, дедушка, я и мама Паулы, а потом все вместе пили у них на кухне чай с пирожными.
Часто Андерс приходил за ней, как раз когда мы строили шалаш или снежную крепость либо когда я рассказывал ей страшную сказку, – занятия музыкой были важнее всего, и тогда я сидел на фортепианном табурете в углу магазина, слушая арпеджио, гаммы и полный набор этюдов Клементи и Крамера. Терпеливым Андерса не назовешь, он кричал, злился и словно бы вечно куда-то спешил, торопил ее, подстегивал, будто за несколько месяцев или максимум за год-другой хотел научить дочку всему, что должен уметь зрелый профессиональный музыкант.
И спешка оказалась вполне оправданной. Когда мне сравнялось шестнадцать, а Пауле, стало быть, пять, он пропал. Да-да, именно пропал. Однажды апрельским утром уехал на автобусе в город, и с тех пор о нем не было ни слуху ни духу. А ведь он всего-навсего собирался отремонтировать вставные зубы. Мать Паулы заявила о его исчезновении в полицию, и в течение нескольких дней мы слышали по радио объявления о розыске, прямо перед вечерним выпуском новостей. К зубному врачу он вообще не заходил. И мать Паулы сказала, что в конце концов он наверняка объявится, с трещиной во вставной челюсти особо не разгуляешься.
Не знаю, тосковала ли Паула по отцу. Мы никогда о нем не говорили. Она продолжала упражняться на фортепиано, будто отец по-прежнему стоял у нее за спиной и отстукивал такт ей по темечку. А я сидел на табурете возле шкафа с нотами и песенниками.
Не знаю я и о том, тосковала ли по нем мать Паулы. Она частенько толковала о страшной пустоте. О том, как ужасно быть брошенной на произвол судьбы. О пугающей неуверенности. Но с ней невозможно было знать наверняка, когда она искренна, а когда фальшивит, она ведь и сама не знала. Они с моей мамой обменивались еженедельниками. «Шведским женским журналом» и «Новостями недели». Мне кажется, она надеялась обнаружить пропавшего в иллюстрированном репортаже о каком-нибудь грандиозном событии – концерте, или открытии гольф-клуба, или королевском обеде. Он вернется к ней на фотографии в «Новостях недели». Человек-то грандиозный – невероятно музыкальный, с потрясающей фигурой, с величественной рыжей шевелюрой. А в довершение своей уникальности и незаурядности он еще и пропал.
Пройдет пятнадцать лет, прежде чем он появится снова. Да и то на очень короткое время.
Мать Паулы продолжала заниматься музыкальным магазином. По мере необходимости. На плодородной равнине, в поселке, насчитывающем несколько тысяч жителей, потребность в музыке не больно-то велика. Дважды в месяц к ней приходил сотрудник социального ведомства, приносил деньги.
– Общество обязано поддерживать культуру, – говорила мать Паулы. – Все мы, занимающиеся искусством, зависим от стипендий.
Потом я пошел в гимназию, а Паула поступила в первый класс приготовительной школы. Мои уроки мы готовили вместе, историю, немецкий, обществоведение, литературу, и она усваивала все с такой же легкостью и беспечностью, как и я сам. По утрам ее маленькое тельце шагало в школу, а душа ехала на автобусе в гимназию.
Той осенью она впервые пела в церкви. Рыжие ее волосы пламенем горели над балюстрадой хоров. Да, Паула рыжая. На самом деле волосы у нее меднорыжие, хотя никто теперь не поверит. «О кроткий свет, в туманном темном мире веди меня», – пела она. И каждый, кто слышал ее, никогда этого не забудет.
В те дни мы впервые увидели Снайпера, скорей всего, он и в церкви тогда присутствовал. В шестьдесят первом году он выиграл чемпионат округа по стрельбе – позиция стоя, произвольная винтовка, дистанция триста метров, – потому и получил прозвище Снайпер. По-настоящему, как все знают, его фамилия Нольдебю. А уж совсем по-настоящему – Андерссон, но он поменял ее на Нольдебю. Некогда ему довелось видеть картину Нольде [4]4
Нольде Эмиль (1867–1956) – немецкий художник-экспрессионист.
[Закрыть] «Спаситель получает в дар мир», которая произвела на него необычайно глубокое впечатление, вот тогда-то он и поменял фамилию, стал Нольдебю. Он же не знал, что эта картина, скорей всего, подделка. «Нет такого человека и такого поступка, – говорит Шопенгауэр, – что не имели бы значения; во всем и через все в большей или меньшей степени манифестируется идея человечества».
Я не знал, кто он такой, но маме случалось видеть его раньше, дважды о нем писали в «Шведском женском журнале», первый раз, когда в Стокгольме открыли новый ресторан, а второй – когда хоронили какого-то поп-музыканта. В подписях к фотографиям упоминалось его имя, но не род занятий, наверно, он пользовался такой известностью, что в этом не было нужды. И мы терялись в догадках: каким образом мать Паулы сумела зазвать сюда этого человека. К себе. К нам.
Впрочем, она рассказала маме, что узнала его на снимке в «Шведском женском журнале». В семнадцать лет у нее был с ним роман. Она именно так и выразилась: роман. Вот и разыскала в телефонном справочнике его адрес и написала ему письмо. О своей жизни, нет, не просто о жизни – о своей трогательной судьбе. Из города он приехал на такси, мы видели, как он вышел из автомобиля, с букетом цветов и четырехугольным пакетом в руках, ступал осторожно, мелкими семенящими шажками, ведь только что выпал первый снег. Невысокий, кругленький, в теплом клетчатом пальто, он походил на мсье Делапорта с портрета Тулуз-Лотрека; мать Паулы встретила его на крыльце, обняла и расцеловала, точь-в-точь как на снимках в журналах.
В тот вечер мы долго ломали себе голову над тем, что происходит в доме напротив. Лампы в музыкальном магазине были погашены, шторы на втором этаже задернуты. «В той коробке наверняка было вино, – сказала мама. – И икра. И устрицы». Ровно в десять погас свет в комнате Паулы, а час спустя в темноту погрузился весь дом. Наутро за гостем приехала машина, Паула стояла на крыльце и махала рукой, когда он отъехал.
После и Паула, и ее мать напустили на себя особую таинственность. Обычно Паула все мне рассказывала. А мама моя, как правило, узнавала куда больше, чем хотела. Паула получила от него в подарок магнитофон, который как раз и лежал в четырехугольном пакете, она дала мне послушать пленку, где сама пела «Аве Мария». Мать сказала ей, что Снайпера зовут дядя Эрланд.А моя мама узнала, что он директор. Просто директор, и все. Так замечательно, что он директор. Представляешь, после стольких лет! Казалось, будто минувшие годы всего лишь выдумка, иллюзия, будто ей снова семнадцать, ну, максимум восемнадцать. Они пили чай с сырным пирогом и бисквитами.
Вот и все.
Ах да, мать Паулы сказала еще:
– Он знает абсолютно все о мире.
И он вернулся. Стал приезжать регулярно, раз в несколько месяцев, всегда на такси, всегда с цветами и очередным свертком в руках; за пределами дома он не появлялся, ну, то есть появлялся, только когда приезжал и уезжал. И мы уже не спрашивали, зачем он приезжал и что происходило за задернутыми шторами. Он приезжал, чтобы спать с матерью Паулы. Наверно, так. Они хотели спать друг с другом, а она к нему ездить не могла, из-за дочки, вот и пришлось ему ездить к ней.
Дважды он приезжал не один, а вместе с пожилой дамой. И моя мама сказала, что дело, видать, серьезное, коли он знакомит ее со своей старушкой-матерью.
А я спросил у Паулы.
– Это учительница пения, – ответила Паула. – Из Стокгольма. Она учит меня петь.
– Так ведь ты умеешь петь, – заметил я. – Ни у кого нет такого голоса, как у тебя.
– Если всерьез хочешь научиться петь, надо упражняться всю жизнь, – сказала Паула.
– А кто платит? – спросил я. – Учительнице из Стокгольма.
– Дядя Эрланд, – ответила Паула. – Ему так хочется, вот он и платит.
Было ей тогда восемь лет.
Той весной я окончил гимназию. В июне умерла мама. Паула пела на похоронах. Регент хотел ей аккомпанировать, но она отказалась, кроме ее голоса, ничего больше не нужно. «Sie ist nur ausgegangen». Я попытался перевести текст, и она пела мой перевод. Вообще-то, зря я об этом сказал. «Она лишь вышла на минутку».
Подписку на «Новости недели» я перевел на мать Паулы. Однако она, прочитав «Шведский женский журнал», по-прежнему приносила его к нам. Словно не желала признать, что мамы нет в живых.
Задним числом я сообразил, что Паула необыкновенный ребенок. Детство ее шло в нетерпении, в большой спешке, у нее не оставалось времени по-настоящему побыть ребенком. С куклами, которых привозил дядя Эрланд, она играла недолго, быстро отправляла их в сундук на чердаке – обычно родители поступают так с игрушками взрослеющих детей. И подружки-ровесницы никогда к ней не заходили, не бегали взапуски, не хихикали, не прыгали через веревочку. И сказок она никогда не читала. Она играла на фортепиано. Или закрывалась у себя в комнате, пела, делала дыхательные упражнения. И мы сидели рядом, со своими книгами, часто вместе ходили в маленькую библиотеку в общинном доме, читали без плана, все подряд, просто потому, что нам нравилось читать, – романы, записки о путешествиях, биографии, да что угодно, главным были не книги, а то, что мы читали их вместе.
Уже в девять лет у нее появилась маленькая грудь, а я и не заметил; в одиннадцать лет грудь была такая же тяжелая и высокая, как сейчас, но я по-прежнему ничего не замечал. Все ее тело взрослело, только я этого не замечал; часто она помогала мне резать стекло и картон для паспарту, и, когда мы касались друг друга или ненароком сталкивались, я не чувствовал, что она стала мягче, округлее, и до меня не доходило, что пахнет она тоже иначе, не по-детски.
Детским оставалось только ее лицо.
Его видели все. Любой швед может оживить в памяти лицо Паулы. Прелестное большеглазое девичье личико, как на рисунке Пикассо «Дракон и девушка».
И что происходило с ее голосом, я не понимал. Когда мы разговаривали, я не слышал, чтобы он как-то изменился. Но пела она теперь с едва ли не пугающей дерзостью. По-моему, я обратил на это внимание во время всенощной под Рождество в тот год, когда ей сравнялось десять. Она пела «Хвалебную песнь» Бетховена. И вдруг оказалось, что поет она о себе, ее голос сам по себе был посланием, и оно гласило: для меня нет ничего невозможного.
«Она грядет в победном блеске славы, вершит свой путь блаженна, горделива, вершит свой путь блаженна, горделива».
Двадцатого мая следующего года Паула зашла ко мне. Дело было вечером, я только что окантовал репродукцию мунковского «Крика» и держал ее в руках, и Паула сказала:
– Я уезжаю в Стокгольм.
Я молчал, не понимая, что она имеет в виду.
– Я не могу оставаться здесь, – сказала она. – С моими способностями нужно жить в Стокгольме.
Она действительно так и сказала. Она не была жертвенным агнцем, по крайней мере в ту пору.
– Буду жить у дяди Эрланда, – сообщила она. – Он обо всем позаботится. Так что не беспокойся. Это необходимость, вот и все.
– Конечно, – сказал я. – Все будет хорошо.
Если б я понимал, что происходит, я бы в тот вечер открыл черный ларец, пересчитал семейные капиталы и отнес матери Паулы. Во всяком случае, мог бы попытаться. Пусть даже с опозданием. Но я ничего не понимал.
~~~
Мать Паулы просто-напросто продала ее дяде Эрланду. Они составили целых три соглашения, то есть составил, конечно, он, она только подписала. Первым из них она передавала ему все свои права в отношении Паулы. Второе устанавливало, как будут распределяться доходы: семьдесят процентов ему, двадцать – матери Паулы и десять – самой Пауле. Эти десять процентов будут выплачены Пауле в день ее совершеннолетия. Третье соглашение касалось прав на воспитание Паулы, которые полностью переходили к нему. Он отвечал за ее благополучие и школьное образование. Мать Паулы получила десять тысяч крон аванса. И сказала:
– Я не должна думать о себе и своих чувствах, я обязана сделать все возможное для Паулы и ее будущего, а потому вынуждена принести эту жертву, хотя мое материнское сердце разрывается.
Я стараюсь не писать о том, что и так уже всем известно.
А потом мать Паулы всю ночь плакала от переживаний.
Вот тогда-то, собственно говоря, Паула и стала Паулой.
Выходит, он мотался сюда не затем, чтобы спать с матерью Паулы. Впрочем, может, и спал тоже, но как бы заодно, мимоходом. Приезжал он ради Паулы, доглядывал за нею, бдительно следил, чтобы никто другой ее не увел.
Моя мама не выбрасывала старые журналы, а складывала их на чердаке. И однажды вечером, уже после отъезда Паулы, я поднялся наверх и разыскал тот номер с дядей Эрландом, ну, где он хоронил какого-то поп-музыканта. Вдобавок там было напечатано интервью с ним, которого ни мама, ни я тогда не заметили.
Мы понятия не имели, какой он выдающийся и знаменитый, а притом скромный и деликатный. Его знают все, писал журналист, хотя бы по имени, пусть даже это имя отнюдь не громкое, ведь он помощник и устроитель, который остается в тени, при любых обстоятельствах. Ему, дескать, просто нравится помогать людям, натура у него такая. Большей частью он помогал покупать и продавать футболистов и поп-музыкантов, хоккеистов и художников, а не то и оперных певцов, литераторов и чревовещателей. Ничто, по его словам, не может сравниться с куплей-продажей талантов.
В первом письме мать Паулы написала ему: «У меня есть маленькая дочка. Я совершенно уверена, что она тебя заинтересует. Хорошо бы тебе приехать и посмотреть на нее».
Это письмо мы с Паулой нашли много позже. Оно и сейчас у меня.
А он всегда был легок на подъем, готовый в любое время ловить оказии, шансы, выгодные возможности. Оттого и приехал.
Мне познакомиться с ним не довелось. И в этом незатейливом отчете он упомянут лишь там, где иначе нельзя.
О том, что с Паулой было дальше, можно бы, в общем, и не писать. В Швеции нет второго ребенка, который достиг бы такого успеха. Ей и двенадцати не исполнилось, когда субботним ноябрьским днем она впервые выступила на телевидении в развлекательной семейной передаче. Так все и началось. Позднее, в пятнадцать лет, она попрощалась со сценической карьерой и одновременно с детством. По радио до сих пор передают ее тогдашние записи, и все, кто их слышит, замирают, затаив дыхание, и говорят: «Слышишь? Это Паула!»
Когда кто-то из музыкальных критиков сравнил ее голос с пламенем автогена, он, разумеется, имел в виду не шипение горящего газа, а блеск прозрачной струи огня. Музыка отображает саму первозданную волю, говорит Шопенгауэр. Я часто думаю об этом, слушая ее тогдашние записи – обработки Шуберта, Шумана, Малера в стиле кантри или рока либо мелодии, написанные для нее поп-композиторами, по заказу дяди Эрланда.
Чем я занимался в те годы? Что успел сделать, когда она один за другим побила все рекорды популярности, победила на конкурсе «Евровидения», выпустила и продала пятнадцать миллионов пластинок?
Я работал в багетной мастерской.
А еще разговаривал с Паулой по телефону, каждый день, большей частью звонила она – иногда из однокомнатной квартирки на Бан е ргатан, которую купил ей дядя Эрланд, чаще из Гётеборга, Мальмё, Копенгагена, Гамбурга, Лондона или какого-нибудь иного города, где как раз находилась, – и мы поневоле твердили друг другу, что счастливы, что все происходящее с нами невероятно, сказочно, удивительно, что мы скучаем друг по другу и непременно скоро увидимся.
В двадцать три года я облысел. Но к врачам обращаться не стал, рассудив, что это в порядке вещей. За три месяца от всей шевелюры остался узенький венчик кучерявого пуха на затылке и над ушами. Когда я сообщил об этом Пауле, она сказала:
– Все дело в том, что ты читаешь Шопенгауэра.
– Почему? Я ведь и другие книги читаю, – возразил я. Однако в глубине души сознавал, что в каком-то смысле она права.
Я всегда считал себя интеллектуалом. Иной раз забавы ради даже говорил: «Я единственный в Швеции багетчик-интеллектуал».
Только вот увидеться нам не удавалось, у Паулы не было времени, и дядя Эрланд не отпускал ее, а у меня самого духу не хватало поехать к ней.
Зато ее мамаша несколько раз в год ездила в Стокгольм обнять дочку и забрать свои денежки. Опять же и магазин ее в ту пору процветал: она продавала ноты Паулиных песен и давние фотографии, запечатлевшие Паулу в еще более нежном возрасте, то и другое со своим материнским автографом, а вдобавок продавала фортепианные табуреты, именуя их Паулиными, прямые флейты, гитары, детские дудочки и даже глиняные свистульки-окарины, якобы тоже принадлежавшие Пауле. И каждому встречному и поперечному она непременно жаловалась на отсутствие водительских прав, иначе бы купила себе «мерседес» или «ягуар».
Дед, бывало, без конца сетовал на свое одиночество. Мол, отца с матерью нет в живых, а у меня один свет в окошке – девчонка эта, Паула то есть. И теперь я понял, о чем он толковал. А через год в течение целых трех месяцев пытался выяснить, каково это – не быть одиноким. Вот как это случилось.
Мне нужно было окантовать иллюстрацию к «Повести моей жизни», для матери Паулы, она сказала, что хочет сделать подарок одной из своих сестер, и оставила мне весь журнал. Картинка изображала пляж: мужчина и женщина целовались на фоне зыблющейся зеленой воды. Я вырезал эту страницу, смонтировал на картоне и стал читать журнал. Там-то мне и попалось объявление: «Ждешь от жизни чего-то большого и удивительного? Хочешь, чтобы с тобой случилось нечто совершенно непостижимое? Напиши Лене-25».
И я написал. Через две недели она была у меня. Звали ее вовсе не Лена, а Мария.
Я рассказал о ней Пауле, на второй вечер после ее приезда, и Паула сказала:
– Именно это тебе и нужно.
Почему Мария решила приехать ко мне, я не знаю, не спрашивал. Раньше она жила во Фьюгесте у человека, который выращивал землянику, а до того – в Карлстаде, у шофера грузовика. Еще она жила вместе с почтальоном, с булочником и с зубным техником. Но с багетчиками пока не пробовала.
Была она высокая, худая, с печальными глазами. Веки подкрашивала перламутровыми тенями. Профессии не имела. Однако за моей работой наблюдала с дружелюбным интересом. В письме к ней я упомянул, что знаком с Паулой, возможно, потому ее выбор и пал на меня. Она продолжала печатать свое объявление в разных газетах и журналах, ничего в нем не меняя, и целыми днями листала полученные письма и отвечала на них.
– Надо в любую минуту быть готовым к новому началу, – говорила она. – Успокоенность опасна для жизни. Вокруг полным-полно добычи, находок и удач, главное – быть открытым и восприимчивым.
За несколько недель до Рождества она переехала в Вестерос, к какому-то похоронщику.
– Как знать, – сказала она, – вдруг что-нибудь получится?
К тому времени я почти полюбил ее.
Никто понять не мог, почему Паула прекратила выступления. Она и сама хотела бы продолжать, в голосе ее звучала все та же сила, наверно даже возросшая. И публика вовсе ей не изменяла.
Весь январь газеты пестрели статьями о ее так называемом исчезновении, писали об ужасных недугах, якобы поразивших ее, о растущем страхе перед все более высокими требованиями слушателей и о том, что она беременна и очень скоро родит. Один еженедельник даже объявил конкурс: какое имя Паула даст ребенку. Но в конце концов журналисты исчерпали свои запасы фантазий и вранья, имя Паулы исчезло из заголовков, словно решено было попросту забыть о ней, хотя бы на время.
А дядя Эрланд безусловно знал, что делал. Он посадил Паулу на карантин. Сообразил, что больше нельзя внушать публике, будто она ребенок. Ни детские платьица, ни бантики, ни прически под ангелочка не могут до бесконечности скрывать тот факт, что Паула стала взрослой. И он убрал ее со сцены, пока никто не успел обнаружить, что девочка Паула всего лишь фальшивка.
Паула позвонила мне, рассказала, что больше ей петь нельзя, и расплакалась. А я, правда ненадолго, вообразил, что она вернется ко мне.
Но все оказалось не так просто. Теперь это каждый знает.
Целых три года она проведет вдали от мира. Никаких выступлений, никаких интервью, никаких путешествий. Дядя Эрланд перевез ее в маленькую квартирку на Грев-Турегатан, а выходить на улицу она должна была непременно в пышном белокуром парике и в очках. Еду ей дважды в день приносили из ресторана «Веселая кукушка», расположенного в соседнем доме.
По прошествии этих трех лет она воскреснет. Или вроде того. Причем решительно преображенная.
Все, что делал дядя Эрланд, было тщательно продумано и взвешено. Он действительно о ней заботился. И на дух не выносил какие бы то ни было случайности и неожиданности. Не зря мать Паулы говорила мне: «Каждый вечер я благодарю Господа за то, что отдала ее жизнь в надежные руки».
Дядя Эрланд распорядился, чтобы одна из его молоденьких певичек раз в неделю заходила вечером к Пауле поиграть в покер (не на деньги). Мне ее имя неизвестно, Паула звала ее Недреманное Око; ничего путного из нее так и не вышло.
Еще он учредил акционерное общество «Паула мьюзик», все акции которого принадлежали ему. «Теперь никто не сможет тебя обмануть» – так он сказал.
Кроме того, он купил ей свидетельство об окончании какой-то частной школы. Бог весть где.
Ежедневно к ней приходили учителя. Учили ее танцам, искусству движения, пению. Может, и карате. Или иной какой самообороне, я не помню.
Вдобавок он включил ее в штат сотрудников «Паула мьюзик». Она ежемесячно получала жалованье и обязалась оставаться на фирме в течение десяти лет.
Все это была подготовка к ее второй карьере, бесповоротной и подлинной.
А в день своего восемнадцатилетия она получила заработанные деньги, в точности как было записано в соглашении с ее матерью. Она сообщила мне об этом в тот же вечер. Дядя Эрланд пришел к ней с букетом красных роз. «Это великая минута, – сказал он. – Теперь ты сама себе хозяйка».
Потом мы заговорили о другом, я посылал ей биографию Пикассо, и она ее прочитала.
Вернувшись домой с аукционной выставки в Рюде, где увидел «Мадонну», я достал черный ларец, снял с него мамин бархатный чехол и поднял крышку.
А затем пересчитал деньги. Высыпал их на большой стол, где обычно вырезал паспарту. Вообще-то, пересчитывал их как бы не я один, а мы все – прадедушка, и дедушка, и бабушка, и отец, и мама. И я. Раньше мы никогда их не считали. Оказывается, там набралось девяносто три тысячи четыреста пятьдесят одна крона и девяносто пять эре.
Пятиэревую монетку я спрятал под линолеумом, засунул под стык. На счастье.
Сумма солидная. Больше, чем можно бы ожидать от семейства, которое непрерывно терпело финансовые неудачи.
Но этих денег, наверно, все равно не хватит.
Людской мир – царство случая и заблуждений, говорит Шопенгауэр. Случайности беспощадно властвуют нами.
Потому я и позвонил Пауле.
Когда я сказал, что мне нужны деньги, Паула не спросила зачем. Раньше мы никогда о деньгах не говорили.
– Думаю, у меня их полно, – сказала она.
– Сегодня пятница, – заметил я. – Банки закрыты.
– Они у меня здесь. В ящике с марионетками.
На вопрос дяди Эрланда, в каком виде она хочет получить свои деньги, Паула сказала: «В натуральном, каковы они есть». И он принес их в конверте, а она свернула в рулончик и засунула под юбки Коломбины.
– Только я их не считала, – добавила она.
Я рассказал про найденную «Мадонну», а она обронила:
– Тебе не нужно ничего объяснять.
Затем мне пришлось подождать, пока она достанет из гардероба этот самый ящик и пересчитает деньги. Мне была слышна музыка Вагнера, дядя Эрланд подарил ей музыкальный центр. Что-то из «Валькирии».
Более фальшивой музыки я не знаю.
Денег оказалось тридцать две тысячи пятьсот крон.
И я невольно подумал о немыслимых суммах, которые упоминались в газетах в связи с Паулой.
– Если я сяду на последний поезд, – сказала Паула, – то успею.
– А он тебя вправду отпустит?
– Нет. Но я же понимаю, что иначе нельзя. Да и репетиции у меня днем.
В пять утра я встретил ее на станции. Я не видел ее с того вечера, когда она последний раз пела по телевидению, «Тихие слезы» Шумана, под аккомпанемент голосов нескольких девушек и синтезатора; кажется, дед был тогда еще жив и плакал. А может, плакал я сам.
Не предупреди она меня, что будет в том пышном белокуром парике и в темных очках, я бы ее не узнал. Под мышкой у нее был ящик с марионетками.
Мы поехали ко мне домой, я заранее приготовил малиновый кисель, в детстве Паула ужасно его любила. После того как она передала мне деньги и я спрятал их в черный ларец, мы попробовали поиграть в марионетки. Но игра не заладилась. Паула могла остаться всего на два часа, потом пора было садиться на поезд и ехать обратно в Стокгольм. Я хотел дать ей расписку в получении денег, но она ее не взяла. И к малиновому киселю не притронулась. Даже на могилу деда поехать не смогла, выглядела бледной и словно бы зябла.
Вот вернется в Стокгольм, тогда и поговорим, по телефону.
И в музыкальный магазин через дорогу тоже не пойдешь, мамашу ее будить незачем, она в те годы не желала встречаться с Паулой. Объявила ей: «Пусть это станет для меня сюрпризом. Ну, как ты будешь выглядеть в тот день, когда взрослой выберешься из кокона. Ты ведь не лишишь мамочку такой радости?»
Проводив Паулу на поезд, я вернулся домой и переложил все деньги в дедов кожаный портфель. Сто двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят одну крону девяносто эре.
А в одиннадцать часов, как я уже говорил, откроется аукцион.








