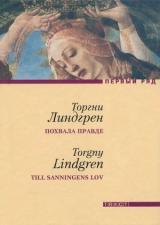
Текст книги "Похвала правде. Собственный отчет багетчика Теодора Марклунда"
Автор книги: Торгни Линдгрен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
~~~
Двое крепких парней из аукционной фирмы пригнали грузовик и опустошили музыкальный магазин. И комнаты, где жила мать Паулы.
Когда они закончили погрузку и собрались уезжать, один из них зашел ко мне, принес большой коричневый конверт.
– Это мы забрать не можем, – сказал он, протягивая мне конверт. – Не все выставишь на продажу, есть своего рода предел.
Я открыл конверт. Там лежало шесть фотографий. Цветных. Значит, Паулина мать сфотографировалась, причем не так давно. Она была в красном платье с глубоким вырезом и улыбалась широкой, теплой улыбкой, приоткрыв рот и прищурив глаза, – наверно, хотела выбрать один из портретов и послать Пауле. Правда, на одном снимке она забыла, что сидит перед фотографом, рот открылся еще шире, но не улыбался, щеки обвисли дряблыми мешками, взгляд, пустой и меланхоличный, смотрел куда-то в пространство позади камеры.
– Красивые снимки, – сказал я. – Я о них позабочусь.
– Мы сжигаем все, что не пойдет на продажу, – пояснил он. – Но такие фотографии, они вроде как живые люди.
В тот же вечер новые владельцы начали перевозить свои вещи. Жить они будут на втором этаже, а в прежнем музыкальном магазине разместят багетную мастерскую и торговлю картинами. Перед покупкой дома они заходили ко мне, супружеская пара, оба лет пятидесяти, раньше держали стекольную мастерскую где-то под Эребру. Он сильно заикался, и говорила главным образом она.
Он только и сумел произнести: «Со-со-собствен-но, ис-искусство все-сегда бы-было для ме-меня са-са-самым важ-ж-жным в жи-жизни». Точь-в-точь так эта фраза обыкновенно звучала в моей голове, когда приходила мне на ум.
«Ты-то вроде как прикрыл свое заведение», – сказала его жена.
«Так уж получилось, – ответил я. – Заведение само прикрылось. Мне не понадобилось ничего решать».
Они купили у меня все, что было, – инструмент, и багетные рейки, и верстак, и запас картона, и ручной работы пейзажи, и даже вывеску «РАМЫ И КАРТИНЫ». Я лишь назвал сумму, и они тотчас выложили деньги. Вот о чем я забыл рассказать. От забот о мастерской я избавился.
Вообще-то здесь надо бы рассказать все, о чем я забыл сообщить выше, а знать это необходимо, чтобы разобраться в дальнейших событиях и в наших с Паулой поступках. Такой отчет, как мой, должен бы в равной мере включать и причины, и результаты.
Только вот вспомнить результат всегда легче, нежели причину. И случай, вероятно, есть не что иное, как сумма забытых нами причин.
Я снова достал черный ларец, который с времен покупки «Мадонны» стоял пустой и ненужный, и положил туда деньги. Сумма была на удивление крупная, и, принимая ее, я чувствовал себя довольно-таки неловко. Мне казалось, никто уже ничего у меня не купит, и в конце концов инструмент, багетные рейки, картон и картины рассыплются в прах или сгниют, хотя меня это как бы и не трогало.
Отныне я не стану называть конкретных сумм. Буду писать «весьма крупная сумма», или «ничтожная сумма», или «невероятно большая сумма», ведь дальнейший ход повествования обязывает к осторожности и такту. Не хочется мне никого обижать, не хочется доставлять неприятности.
Конверт с фотографиями матери Паулы я послал в Карлскруну, в ту гостиницу, куда Паула приедет через два дня.
Напрасно я так поступил.
А может, наоборот, правильно сделал.
Не знаю.
Я написал коротенькое письмецо, объяснил, что это за фотографии. Паула долго сидела, глядя на снимки. Когда-нибудь, спустя годы, я буду выглядеть как эта женщина, подумала она. Не без удовольствия. Наперекор всему лицо на фотографиях дышало умиротворенностью. Или каким-то путаным, но все же благоразумным смирением.
Потом она отложила фотографии на чемодан. Не знала, что с ними делать. Может, попросить горничную забрать их и сжечь?
Там, на чемодане, дядя Эрланд их и нашел. Он тоже приехал в Карлскруну, хотел убедиться, что с Паулой все в порядке. И привез с собой пяток кроликов.
Ниже я объясню, зачем понадобились кролики. Хотя многие наверняка видели концерт и помнят, в чем тут дело.
Одну за другой он внимательно рассмотрел фотографии. Мать Паулы он не видел уже несколько лет и, вероятно, немножко взгрустнул. А потом на него низошло счастливое, грандиозное озарение. И, уходя, он забрал фотографии с собой. Тем же вечером в Карлскруне мать и дочь выступали на сцене сообща. На экран шести метров в высоту и четырех метров в ширину проецировались портреты матери Паулы, сначала пять улыбающихся, а под конец печальноунылый; она, так сказать, присутствовала на протяжении всего концерта. Над взбитыми волосами черной тушью написали дату смерти.
Трудно сказать, как эти исполинские лица на заднем плане воздействовали на представление в целом. Пожалуй, достаточно повторить слова дяди Эрланда: «Это было чертовски эффектно!»
Публика сразу ее узнала, ведь после несчастья в Вестеросе ее фотографии заполонили все газеты, журналы и телевидение; едва включили проектор, как многие тотчас закричали: «Паулина мамаша!» Когда снимки менялись, перетекая один в другой, ее глаза и губы как бы двигались, и возникало впечатление, будто ее наспех худо-бедно вернули к жизни, чтобы она включилась в песню Паулы. Удивительная и трогательная встреча матери и дочери, вернее даже, двух совершенно разных типов женственности: наполовину увядшей, состарившейся и бурно расцветающей, полной жизненных сил. А вместе с тем встреча жизни и смерти, встреча животворящего начала с мертвящим, что особенно ярко проступило в заключительном номере Паулиной программы, который назывался «ОРФЕЙ».
Собственно говоря, описывать его, наверно, нет нужды.
Паула изображала менаду, костюм ее состоял из нескольких лоскутьев на плечах и вокруг талии, а музыку «Дагенс нюхетер» описывала вот так: «Монотонный ритм, однообразные, завораживающие риффы – механицизм, высокий, но кристально чистый голос и навязчивые гитары сливаются здесь в безудержно-страстном прославлении бренности, причем во всем сквозит пьянящий восторг стремительного движения. Поистине мучительная скорбь – в Швеции ей нет равных».
По-моему, этот номер был целиком выстроен на одном из стихотворений Яльмара Гулльберга, [18]18
Гулльберг Яльмар (1898–1961) – шведский поэт, в творчестве которого преобладают религиозно-мистические мотивы.
[Закрыть]где речь шла о «жрицах бога в дымном факелов мерцанье» и об «усекновенной голове с потухшими очами, что с песнею плыла по в о лнам к морю». И о воплях: «Кромсайте на куски его, как режете козла, и допьяна напейтесь кровью!» «And to the hounds his genitals!» – эту строчку я помню дословно. В финале, когда гитары выли и кричали в бесконечно нарастающем крещендо, Орфея убивали, приносили в жертву.
Вот тут-то и требовались кролики.
Вообще-то, конечно, жертвой должен бы стать молодой, рослый мужчина, атлетический танцовщик. Однако такое попросту невозможно. И эта роль отводилась кролику.
Он был привязан веревкой к кольцу, вделанному в пол сцены. Паула перерезала веревку, поднимала зверька, ласкала его, а потом отсекала ему голову. Она наловчилась делать это одним махом – кровь фонтаном хлестала из кролика-Орфея. Зрители, пробившиеся к самой сцене, старались подставить под эти брызги одежду – пиджак или джинсы, запятнанные кроличьей кровью, можно было продать не за одну тысячу крон.
На сей раз дядя Эрланд и хореограф слегка изменили номер, подчеркнув оттенок незрелости и инфантильности, изначально заложенный в композицию. Танцуя, Паула отступала в глубь сцены, крепко зажимая ладонью перерезанную шею кролика, а когда оказывалась совсем рядом с экраном, где мерцало лицо ее матери, делала стремительный пируэт и выплескивала как можно больше крови на спроецированный портрет. На неудачную, печальную фотографию. Мать Паулы смотрела в пустоту. Словно скорбела о себе самой.
Кто его знает, что в конечном счете означал такой финал. Древние мифы можно трактовать как угодно, люди лишь смутно угадывают в них некий сокровенный смысл. Или целый ряд разных смыслов. Дальше этого никто не идет.
И вправду ли затея с огромным экраном и портретом Паулиной матери имела успех, мне тоже неизвестно. Она акцентировала дерзкое, вызывающее в искусстве Паулы. И ребячливое. Никого не оставляла равнодушным. Впрочем, доподлинно никто не знает, каким образом возникает зрительский рекорд, он принадлежит только публике, это ее маленький секрет.
Стало быть, каждый вечер Паула истребляла по кролику. А поставлял зверьков дядя Эрланд.
После представления в Карлскруне Паула позвонила мне и, заливаясь слезами, рассказала, чт о ей теперь приходится делать вдобавок ко всему прочему.
– Если хочешь, я приеду, – предложил я. – Дел у меня никаких нет. Только пасьянсы раскладываю, и все.
– Нет, – ответила она. – Мне и без того тошно. А если ты будешь рядом, станет еще хуже.
Думаю, она хотела сказать: тогда к этой искусственности и фальши примешается еще больше сокровенно-личного, еще больше от ее подлинного «я». Она действительно хотела быть профессионалом. И по-настоящему глубоко уважала свое искусство. Так и в газетах писали.
Раскладывая пасьянсы, я слушал радио. Так вот и узнал о смерти дяди Эрланда.
Несчастный случай. В Линчёпинге. В возрасте пятидесяти восьми лет. Бизнесмен и менеджер, спонсор индустрии развлечений, человек, создавший многих и многих артистов, в том числе Паулу. Было четыре часа дня.
Я до того разволновался, что ошибся в раскладе, пять раз тасовал карты, пока разложил их как надо.
Новости частенько выбивают меня из колеи, повергают в растерянность. Услышав или прочитав какую-нибудь новость, я не могу отделаться от ощущения, что знаю гораздо меньше прежнего.
Сейчас она нуждается во мне, подумал я.
Пасьянс не сходился. Он никогда не сходится.
Когда я попытался положить колоду на ладонь протеза, карты соскользнули и рассыпались по полу. Не удивительно, после выпитой чекушки водки. А когда хотел собрать карты, стул опрокинулся, я полетел на стеллаж и в результате очутился на полу под грудами книг по искусству. Так и уснул, положив голову на «Грезы под небом Арктики». Но даже во сне все время думал: сейчас ей нужен именно я, никому другому недостанет ни сил, ни ловкости, так что позаботиться о ней нужно именно мне.
~~~
Потом позвонила Паула. После пятого сигнала я сумел добраться до телефона.
Спокойно и просто Паула рассказала про дядю Эрланда, в голосе ее не слышалось ни печали, ни тревоги, она словом не обмолвилась, что они были близкими друзьями. Жила она в гостинице «Вольный каменщик». На четвертом этаже. Он принес фотографии, чтобы она подписала их для своего фан-клуба, полную сумку. А еще несколько песенных текстов на просмотр. И новую партию кроликов.
Они обсудили один из текстов. Под названием «Hot Flesh and Blood Sandwiches of Eternity».
– Неужто ты каждую фотографию сама подписываешь? – спросил я. – Можно ведь заказать штемпель.
– Все должно быть без подделки, – ответила Паула. – По-другому я не согласна.
И вдруг, ни с того ни с сего, он выбросился из окна. Она ничего не поняла. Напоследок он только сказал: «Ты, Паула, станешь знаменитой на весь мир». Совершая свой кошмарный прыжок, он потерял один ботинок, и она помнит, что после стояла с этим ботинком в руке и почему-то с изумлением снова и снова читала слово «Аристократ», оттиснутое на подошве. Слышала, как подъехала полиция, как шумела собравшаяся на улице толпа, но вовсе не думала спуститься вниз, даже в окно не смотрела.
– Это шведский ботинок, – заметил я. – «Аристократ». Они намного удобнее итальянских.
Потом к ней пришли полицейские. Без стука. Их впустил телохранитель, который сидел на табуретке за дверью.
«Он выпрыгнул, – сказала она им. – Как прыгун в высоту, скакнул и исчез».
Полицейские сказали, что такое случается. Ничего не поделаешь. Человек принимает решение, и помешать ему невозможно. Он представляет себе прыжок, а затем вдруг делает шаг в свое представление и закрывает за собой дверь. Даже с полицейскими такое бывало. Они пытались утешить ее, хоть она вовсе в этом не нуждалась, а перед уходом попросили автограф, сняли куртки, и она широким плакатным фломастером расписалась у них на спине. И отдала им пачку контрамарок, принесенных дядей Эрландом. В восемь часов у нее концерт в Народном парке.
– Теперь ты должен приехать, – сказала Паула.
– Правда? Ведь станет еще хуже. Если я буду рядом, а?
Паула подула в трубку, долго, протяжно, мне показалось, она хотела напомнить мне о каком-то секрете, про который я забыл.
– У тебя же есть хирург. И телохранитель, – сказал я.
– Это не одно и то же. Все не так просто, как ты думаешь.
Будто я по-прежнему воображал, что все просто.
– Я приеду. Отложу все прочее на потом и, как только улажу разные мелочи и освобожусь, сразу приеду.
На следующий день она будет в Хальмстаде. Я распорядился, чтобы мою корреспонденцию пересылали на стокгольмский адрес Паулы, а с собой взял «Мадонну» и черный ларец, в котором вновь завелись кой-какие монеты и купюры. Да два тома Шопенгауэра.
Паула встретила меня на вокзале, остановилась она в «Тюлёхусе». Было около пяти.
Все знают, что произошло в Хальмстаде тем вечером.
Она рассмеялась, увидев мой багаж: я обвязал «Мадонну» пеньковой веревкой и нес ее в протезе. Ни испуга, ни даже волнения она, по-моему, не испытывала, сказала, что к вечеру, наверно, соберется дождь. Она любила дождь, публика под дождиком становится серьезнее и умнее. Но она схватила меня за левую руку, стиснула ее крепко-крепко и отпустила, только когда подъехала машина. За рулем сидел телохранитель.
О дяде Эрланде мы не сказали ни слова. Говорили о домах, какие видели в окно, и о садах, я ведь никогда раньше не бывал в Хальмстаде. Как ни странно, нам вообще не удавалось по-настоящему поговорить друг с другом о дяде Эрланде. Мы лишь упоминали о нем, волей-неволей, ведь то, что случилось с нами позднее, во многом шло от него. Однако нам обоим – и мне, и Пауле – сказать о нем было нечего, и насчет его похорон мы тоже не беспокоились. Кто-то и этим занимался, проследил, чтоб его предали земле, и газеты наверняка напечатали большие репортажи, но мы газет не читали. У нас хватало других дел. Да мы нипочем бы и не придумали похороны ему под стать.
Телохранитель доставил еду, и мы закусили у Паулы в номере пиццей и кебабом, используя вместо стола сложенную «Мадонну». Я сказал, что перевел свою корреспонденцию на ее адрес.
– И правильно сделал, – сказала Паула. – Нужно помогать друг другу. – А затем спросила, получаю ли я корреспонденцию.
Я призадумался и в итоге признал, что писем уже давненько не получал.
– Хотя раньше разные люди часто мне писали, – добавил я.
Что касается будущего, мы ни о чем больше не говорили, только об этой вот корреспонденции, которую я перевел на ее адрес и которой, скорее всего, не будет. Паула съела целых две пиццы, а я рассказал про техасского ресторатора, который за час умял двадцать пицц и выпил пять литров пива, его фотография была в «Книге рекордов Гиннесса». Мы посмеялись, обдавая друг друга чесночным духом. Паула показала мне связанную крючком ночную рубашку, подарок поклонника из Венерсборга, на груди была надпись «BLOOD AND FIRE», так называлась одна из песен Паулы, а рубашку он связал своими руками. Паула казалась совершенно счастливой. И я подумал: вообще-то она во мне не нуждается. Просто вообразила, что ей кто-то нужен. И выбрала меня.
Потом она сказала, что я должен отправиться с нею в Народный парк. Я было заикнулся, что вконец там растеряюсь, что не хочу угодить под ноги толпе, что, по-моему, происходящее в Народном парке должно остаться между нею и публикой, дело-то слишком деликатное, слишком личное, а я посторонний, мне лучше не вмешиваться. Однако Паула не слушала.
– Ты ничего не понимаешь, – сказала она. – В одиночку я не справлюсь.
Вот почему я все же там оказался. Но забыл спросить, с чем она не могла справиться в одиночку.
Я сидел у нее в гримерной, пока она накладывала макияж, делала гимнастику и распевалась. На сцене играла какая-то гётеборгская группа, разогревала публику перед выходом Паулы, мы слышали ударные да бас-гитару, и всё. Паулины музыканты пока стояли в коридоре, курили, разговаривали, смеялись. Никакой помощи Пауле не требовалось, она наверняка проделывала все это уже сотни раз и вроде как забыла о моем присутствии. Долетал в гримерку и шум, производимый публикой, но ненавязчиво, издалека. Раздеваясь и облачаясь в костюм для первого номера, Паула напевала «Овечки могут пастись спокойно».
Я смотрел на нее. Какое у нее красивое тело. Раньше я никогда об этом не задумывался.
Потом кто-то трижды громко стукнул в дверь, вероятно телохранитель, сигнал этот означал: пора на сцену – кролик привязан где надо, проектор включен, музыканты на месте, ее ждут. Гётеборгская группа умолкла, шум в публике стал чуть тише и глуше.
– Я постараюсь сделать вид, что вся публика – это ты. И больше никто. – С этими словами она выбежала из гримерки и так быстро захлопнула за собой дверь, что я и возразить не успел.
Я не хотел ничего слышать. Наклонился вперед и прижал к ушам ладони. Однако протез прилегал к уху неплотно, поэтому я все же услышал, что произошло.
Она проделала все па и пируэты, придуманные хореографом. Потом остановилась у рампы. Она будет спокойной, задумчивой, мягкой, исполняя «Love and Peace and Understanding and Forgiveness and Tenderness».
He знаю, сколько раз Паула открывала рот и вытягивала шею, чтобы запеть, знаю лишь, что она не издала ни звука. Публика, аккурат перекрывшая численностью головокружительный рекорд, замерла в безмолвии, не шевелилась, не кашляла, не прочищала горло, может статься, тихонько, осторожно постанывала, как бы пытаясь разделить Паулины усилия. Музыканты снова и снова повторяли первые аккорды, но из ее горла не доносилось даже писка или шепота. Она словно бы только дула на публику. Может, и в самом деле дула.
В конце концов Паула сдалась. Опустила голову, закрыла лицо руками, будто сгорая от стыда, и бросилась прочь со сцены, спотыкаясь о кабели и провода, два раза упала, до крови разбила коленки и выронила белую пластмассовую голубку, которую сжимала в руке.
Бежала она ко мне. Взобралась на колени, крепко обняла за шею, точь-в-точь как в ту пору, когда мы были маленькими, хотя я, конечно, почти достиг совершеннолетия. Так мы сидели некоторое время. А публика по-прежнему безмолвствовала.
Но постепенно начали раздаваться отдельные голоса. Резкие, сильные – казалось, кто-то надумал продемонстрировать, чего можно добиться по части звуков, приложив небольшие усилия. Кое-кто засвистел. Крики нарастали, множились. Музыканты пытались играть, однако на них не обращали внимания. В конце концов шум сделался настолько оглушительным, что, попробуй мы с Паулой что-нибудь сказать, мы бы не услышали друг друга. Хлынул дождь, но, увы, без толку. Музыканты перестали играть и укрылись в коридоре. А телохранитель открыл дверь и юркнул к нам в гримерку. Что-то крикнул, но я не разобрал что.
Наверно, хотел сказать, что дело табак, что сейчас нас всех тут поубивают.
Следом явились несколько полицейских. Заперли все двери, забаррикадировались вместе с нами.
– Теперь мы в безопасности, – прочел я по губам одного из них.
Сколько мы так просидели, я не знаю. Паула не шевелилась. По-моему, ее просто парализовало от изумления. Она и представить себе не могла, как горячо публика любит ее.
Публика между тем трудилась не покладая рук, методично выламывала доски из настила на сцене, а обломками крушила окна и молотила по стенам, пытаясь прорваться внутрь. Один из полицейских подошел ко мне и показал листок бумаги, на котором написал: «Сюда направлен Халландский полк». Была ли это правда, я не знаю.
К счастью, кто-то притащил канистру бензина, чтобы подпалить павильон. Это нас и спасло.
Приехали пожарные. Огонь успел разгореться не на шутку, один фронтон полыхал вовсю, пожарные задействовали все свои брандспойты. И небезуспешно – публика кинулась врассыпную, мы слышали, как затихает шум, словно гроза уходит прочь; через дырку в крыше, проделанную неистовой толпой, на нас лилась вода.
Одна из пожарных машин отвезла нас в гостиницу. Телохранителя била такая дрожь, что он едва мог идти, пожарным пришлось вести его под руки.
– Господи, помоги мне, – непрерывно твердил он. – Господи, помоги мне.
В гостинице мы раздели парня и уложили в постель – его номер был рядом с Паулиным, – а сами, переодевшись в сухое, устроились у Паулы в гостиной. Когда зазвонил телефон, я выдернул шнур из розетки. У Паулы нашлась бутылка «Абсолюта», наверно, она купила ее, чтобы доставить мне удовольствие, и мы пили водку из стаканов для зубных щеток. «Мадонну» и черный ларец я сразу по приезде сунул Пауле под кровать: пускай телохранитель заодно и их сторожит. Теперь я достал ларец, продемонстрировал ей деньги и сказал, что мне кажется, будто я начал все сначала, не со своего начала, а с прадедова. А Паула сказала, что денег вправду довольно много. По-настоящему она никогда не понимала, что такое деньги, и не умела отличать мелкие суммы от крупных.
Потом я спросил ее про голос.
– Ты просто потеряла голос? – сказал я. Вопрос был поставлен неправильно, она же как-никак со мной разговаривала. Но я хотел понять, что произошло. Вернее, делал вид, что должен понять.
Она не засмеялась и не разозлилась, только смотрела на меня, словно я сказал что-то очень важное, над чем нужно хорошенько поразмыслить. А немного погодя запела, прямо так, сидя в кресле, наклонясь вперед, облокотившись на колени, с легкой улыбкой на губах, будто мы по-прежнему толковали о деньгах в ларце или о вязаной крючком ночной рубашке. Пела она без малейшего напряжения, и все же голос ее наверняка разносился по всей гостинице, был слышен на берегу, летел над водой. Та самая баховская кантата. Между «Кто правдою живет» и «Вовек покоится блажен в руце Господней» она сделала маленькую паузу и отпила глоток водки. Когда песня кончилась, мы долго молчали. Я сказал, что не совладал с дифтонгами, я ведь не профессионал. А затем Паула попыталась объяснить, что с ней произошло на сцене в Народном парке.
Выходя из-за кулис, она обычно сразу же попадала в луч софитов. Яркий свет должен был ослепить ее, так задумал постановщик, и так происходило каждый вечер. Но здесь, в Хальмстаде, светотехники допустили ошибку, она вышла на сцену, а софиты по-прежнему освещали музыкантов и не ослепили ее. И за одну-две секунды она успела оглядеться по сторонам.
Увидела публику, и себя, и гигантский мамин портрет, и вечерний сумрак, и кролика. В общем-то ничего особенного, просто раньше она никогда этого не видела. И оттого не смогла петь.
Разве это объяснение? Я так и сказал:
– Звучит не слишком убедительно.
– Да не все ли равно, – сказала Паула. – Когда что-то случается, ни одно объяснение не бывает вполне убедительным.
– Ты должна постараться, – сказал я, отхлебнув щедрый глоток водки. – Если ты не разъяснишь мне все как следует, я не смогу тебе помочь.
– Ты правда хочешь мне помочь?
– Конечно. Кто же еще тебе поможет?
– Я думала о дяде Эрланде, – сказала она. – И о тебе, как ты сидишь в моей гримерке, зажмурив глаза и зажав ладонями уши.
– Да, так оно и было.
– Что-то во мне сломалось, – сказала Паула.
– Я слышал, иной раз такое бывает. Но мне это непонятно.
– Ну, просто что-то внутри сломалось. Я прямо-таки услышала треск.
– Не понимаю, как у нас внутри что-то может сломаться. Не так мы устроены.
– Помнишь бельевые веревки, на которых мы висли, пока они не рвались? Вот примерно так.
– Нет, – сказал я, – не помню. А почему ты думала о дяде Эрланде?
В одной из дорожных сумок Паулы нашелся кусок салями. Мы его поделили. Жуя колбасу, стояли у окна и пытались разглядеть море.
А потом Паула рассказала, почему думала о дяде Эрланде и как ей представлялось то, что с ним произошло.
– По-моему, это сделала я, – сказала она.
– Что «это»?
– Убила дядю Эрланда.
– Он сам себя убил. Выпрыгнул из окна. У тебя на глазах, ты же сама говорила.
– Я выбросила его, – сказала Паула. – По-моему, мы стояли друг против друга, тут оно и случилось, я дважды применила захват, и он исчез.
– Нет, ты бы не смогла, – возразил я. – Ты слишком маленькая и легкая. Да и повода у тебя никакого не было.
– Я брала уроки самообороны, – сказала Паула. – Целых полгода, по нескольку раз в неделю. Дядя Эрланд так распорядился.
– Да, конечно. Самооборона. Но это же совсем другое.
Салями у нас кончилась. Водки осталось на донышке.
– Подобные фантазии опасны, – продолжал я. – Ведь чувство вины одолевает нас постоянно. И способно нафантазировать что угодно.
– С чего бы мне испытывать чувство вины? – спросила Паула.
– Человек воображает себе то одно, то другое. Закапывается в самобичевания. И в конце концов все фантазии обрастают плотью, становятся реальностью.
– Я никогда не нуждалась в фантазиях, – сказала Паула. – Все было само по себе вполне убедительно.
Он решил поговорить с ней. В кои-то веки. И все объяснить. Она пришла в недоумение, ведь он и так всегда разговаривал с нею сколько хотел. А он стал прямо перед ней, со слезами на глазах, и сказал, что она единственный человек на свете, который вправду что-то для него значит. Отныне он все свои силы будет отдавать ей одной, до всего прочего ему больше нет дела. Конечно, он, как говорится, создал ее, но, когда затеял эту историю, даже помыслить себе не мог, каких невероятных высот она достигнет. Она стала ему как дочь, более того, он готов стать ей сразу и отцом, и матерью. Отныне их роли переменятся, сила и подлинность ее искусства покорили его, он выполнит любую ее просьбу, будет безропотно служить ей в меру своих возможностей.
«Дядя Эрланд, дорогой, – сказала она, – если б не ты, меня бы вообще не было, никакой Паулы не существовало бы, если б ты обо мне не позаботился».
И она проникновенно заглянула ему в глаза, протянула к нему руки.
– Можешь показать, что, по-твоему, было дальше? – спросил я и стал прямо перед ней.
Что случилось затем, я точно не помню.
Когда я пришел в себя, оказалось, что лежу я на полу, вмазавшись головой в ночной столик, спину ломит, колени и ступни болят. Протез отстегнулся и отлетел под кровать, я сразу смекнул, он ведь вправду стал частью моего тела. Паула стояла возле своего кресла, держала в руке мой ботинок и пыталась прочесть на подметке название фирмы.
Немного погодя я кое-как поднялся на ноги. Паула помогла мне пристегнуть протез, в одиночку я с ним не совладал. Мы сели и поделили между собой последний глоток водки.
– Вот видишь, – сказал я. – Не могла ты этого сделать. От такого броска он бы на улицу не вылетел, врубился бы в стену. Ты ведь не целилась и не смогла бы попасть в окно.
– Да, – кивнула она. – Я тоже об этом думала.
– И вообще, разве ты решилась бы на такое? Без него тебе не справиться.
– Это верно, – сказала Паула.
– И ты не стояла бы себе спокойно и не читала бы на подошве надпись «Аристократ».
– Да, пожалуй.
– Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы фантазии набирали такую ужасную силу. Нужно всегда держать их под контролем. Коли дашь фантазиям одержать верх, поддельное и настоящее сольются в одно, и ты окажешься совершенно беспомощным.
– Да, – сказала Паула.
– Тебе надо снять грим, – заметил я.
Лицо у нее по-прежнему было накрашено для сцены, мы оба как-то забыли об этом, и выглядела она как кукла. Фарфоровая или пластмассовая. Понадобилось минимум полчаса, чтобы дочиста все отмыть и оттереть, и, когда она вышла из ванной, от нее пахло лосьонами. Зато она вновь стала собой. В последний раз избавилась от маски. Думаю, она это сознавала.
Не помню, спали ли мы вообще той ночью, мы сидели, дремали, болтали, убивая время. На рассвете я по телефону заказал машину, которая отвезет нас в Стокгольм. А еще позвонил Паулину доктору, пластическому хирургу.
– Пауле требуется медицинское заключение, – сказал я, – так как шесть оставшихся концертов необходимо отменить… Нет-нет, она в полном порядке, просто устала, переутомилась и охрипла, ужасно охрипла… Да-да, конечно, я передам, что ты по ней соскучился.
Он обещал подготовить заключение и разослать копии организаторам, адреса я ему сообщил. Музыкантам я черкнул несколько прощальных строк, за подписью Паулы, и вручил записку портье, чтоб передал им: мол, турне закончилось, все было прекрасно, она их любит, «Паула мьюзик» выплатит им гонорар согласно договору; целую, обнимаю и все такое. Гримерный ящик Паулы я тоже отдал портье и велел сжечь. Позвонил я и в Шведское телеграфное бюро, сказал, что у Паулы разболелось горло, ничего страшного, ей нужно немного отдохнуть, вскоре она вернется.
Перед отъездом мы заглянули к телохранителю. Он не спал, лежал, смотрел в потолок и по-прежнему дрожал. Мы спросили, не хочет ли он поехать с нами, места в машине достаточно. Но он только помотал головой: дескать, не рискнет, лучше попробует днем сесть на поезд. Паула наклонилась, расцеловала его в лоб и в обе щеки. Я этого не понял. Не знал ведь, насколько они были дружны. Если можно так выразиться.
Мы думали, сейчас, в половине шестого утра, нас едва ли кто увидит и едва ли кому-то будет до нас дело. Спустились в холл, вместе со своим багажом, и ждали машину.
Тут к нам подошла молоденькая девчушка, лет шестнадцати, не больше, она караулила нас, спрятавшись за колонной. Лицо в царапинах, перепачкано кровью, один глаз заплыл, одежда в лохмотьях, в руках небольшой узелок.
– Ты потрясающая, – сказала она Пауле. – В жизни не видала ничего грандиознее.
– Спасибо, – сказала Паула.
А девчушка развернула узелок. Там оказался кролик.
Потом она рассказала, как спасла беднягу. Она стояла у самой сцены и, когда начался тарарам, вскарабкалась кому-то на плечи и зубами кое-как сумела перегрызть кроликов шнурок. Спрятала зверька за пазуху и стала пробиваться к выходу, иной раз ползком, несколько раз ее вообще сбивали с ног, едва не затоптали. Но все-таки она сумела выбраться, наверно лишь через час-другой, в самом деле рискуя жизнью. Но кролик уцелел. Слава Богу.
И девчушка протянула кролика Пауле, руки у нее тоже были в крови и ссадинах, но она смеялась от радости и гордости. Да, любовь и доброта все-таки существуют.
После этого девчушка убежала.
А мы вспомнили про других кроликов, которые сидели в клетке, где-то в подвале. Я сказал портье, чтобы их отдали на кухню.
Когда к стеклянному подъезду подкатила машина, откуда ни возьмись, вынырнул фотограф. Фотографы способны появиться когда угодно и где угодно. Мы не успели спрятаться, он сфотографировал Паулу, в последний раз, вернее, не только Паулу, нас обоих. Сложенная «Мадонна» прислонена к моему колену, вокруг на полу вещи Паулы, вид у нас усталый и безучастный. Перед нами, на моей дорожной сумке, стоит черный ларец. А кролик в полной безопасности сидит в объятиях моего протеза.








