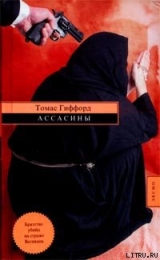
Текст книги "Ассасины"
Автор книги: Томас Гиффорд
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 46 страниц)
5
Дрискил
Внешность соответствовала ему как нельзя более.
Вот что я подумал, впервые увидев монсеньера Пьетро Санданато. Точно весь жизненный путь этого человека был заранее определен законами физиономистики, словно человек, родившийся с таким лицом, не мог стать не кем иным, кроме как священником, и его собственная воля и свобода выбора были тут бессильны.
Такие лица встречаются у мучеников и святых на бесчисленных полотнах времен Ренессанса, украшающих залы многих музеев мира. А с другой стороны, он был очень похож на боевика-мафиози, с которым мне однажды довелось встретиться. Нервное, напряженное, усталое лицо с красноватыми тенями под глазами, а сами глаза угольно-черные, так и сверкают из-под тяжелых темных век.
Он походил на статую Джиакометти. Изнуренный мужчина, но при этом гладкое, точно у ребенка, смуглое лицо, черные прямые волосы, на левой щеке одна-единственная ямочка от оспы, точно некий брэнд, специальная отметина при всей остальной безупречности черт. На нем была рубашка с воротничком-стойкой, поверх накинуто черное пальто. Наряд довершала черная шляпа с мягкими полями и какие-то по-детски маленькие черные перчатки, которые он снял, когда отец Данн начал знакомить нас. В полдень он встретил его в аэропорту Кеннеди и уже оттуда привез на машине в Принстон.
– Мистер Дрискил, – очень тихо произнес Санданато хрипловатым голосом с характерным певучим акцентом. – Я уполномочен передать вам глубочайшие соболезнования в связи с кончиной нашей дорогой сестры Валентины от кардинала Д'Амбрицци. А также от его святейшества Папы Каллистия. Наша скорбь глубока и искренна. Настоящая трагедия для всех нас. Я, разумеется, тоже был лично знаком с вашей сестрой.
Я проводил гостей в Длинную залу, сюда же с командного поста Маргарет Кордер явилась сестра Элизабет. Санданато обернулся к ней, пожал руку.
– Какая трагедия, сестра, – пробормотал он.
Миссис Гэрритис подала кофе. От ленча монсеньер отказался, и вот трое церковников начали неторопливую беседу. Я не слишком прислушивался к тому, что они говорят. Санданато намеревался прогостить у меня несколько дней, и я разглядывал его, пытаясь понять, что он за человек. Никогда прежде не доводилось видеть мне столь взвинченного и напряженного человека. Лицо, походка, манера держаться, взгляд, буквально все в нем вызывало ассоциации с чем-то церковным и типично римским, столь чуждым моей нынешней жизни. И еще непрестанно вспоминались мученики святые в картинных галереях, лицо Христа в терновом венце, струйки крови, стекающие по Его лбу, все это я помнил еще с детства, со школы, где конец полутемного коридора украшало именно такое изображение. И еще почему-то возникали реминисценции с персонажами массовки, с помощью которых Феллини выстраивал задние планы в своих фильмах. Волосы у Санданато блестели, как стекло. За то время, что я исподтишка наблюдал за ним, он выкурил три сигареты. Руки слегка дрожали, от чего создавалось впечатление, что нервы у этого человека ни к черту, что еще миг – и он не выдержит, и тогда произойдет какое-то несчастье.
И вот наконец Гэрритис подхватил сумки Санданато и понес их наверх, и монсеньер последовал за ним, бесшумно ступая, темная фигура в шлепанцах «от Гуччи». Я обернулся к Арти Данну.
– Вам удалось хоть немного поспать?
– Четырех часов сна для меня вполне достаточно. Всегда сплю сном праведника. Я и днем могу подремать, урывками, выработал манеру, ну точь-в-точь как у Колтунки. Ну, ладно, мне, пожалуй, пора.
– У кого, простите? – спросила Элизабет.
– У Колтунки, – ответил Данн. – Это моя кошка. И кличка у нее Колтунка. От слова «колтун». Целых два года прожила без имени, а потом вдруг меня осенило. Вся так и набита колтунами. И такая же волосатая. На редкость противное животное. Однако не заводите меня...
– Поверьте, я и не собиралась, – сказала Элизабет. – Просто не знала. Это отвратительно.
– Именно это я и пытаюсь сказать, – улыбнулся ей Данн. – Надо идти, кормить эту несносную тварь.
Он вышел, Элизабет обернулась ко мне.
– До чего же неприятный человек! И потом, есть у него какая-то тайна, отдала бы все, чтобы узнать. Есть в нем нечто такое, что просто меня пугает!
– Кстати, о страхе, противности и прочем, – заметил я. – Расскажи мне о Санданато. О его месте в церковной иерархии.
– Ни разу не видела его без Д'Амбрицци. Я имею в виду, он его креатура, он обязан карьерой Д'Амбрицци. Кардинал нашел его в сиротском приюте, взял с собой, вырастил, выучил и теперь сильно от него зависит. Санданато – его правая рука в непрекращающейся борьбе с кардиналом Инделикато...
– А из-за чего борьба?
– На карту поставлено будущее Церкви, сама природа Церкви. Пятьдесят лет соперничества, каждую минуту готовы вцепиться друг другу в глотку, так, во всяком случае, говорят. А теперь... – Она пожала плечами и принялась поправлять высохшие цветы в медной вазе на буфете.
– Что теперь? Знаю, я уже не вхожу в круг избранных. Потерял членский билет в католический клуб, но ты можешь мне полностью доверять.
– Просто подумала, тебе неинтересны все эти досужие сплетни.
– Доверься мне, сестра.
– Я хотела сказать, все же странно, что эти двое прошли через пятьдесят лет борьбы, знали победы, поражения и отступления. И вот теперь оба эти старика находятся в каком-то шаге от финального триумфа, от папства.
– Но ведь они действительно слишком стары для этой должности, тебе не кажется?
– Зато живучи и полны сил, – ответила она. – И потом, возраст здесь не главное. Задача нового Папы – обозначить приоритеты, определить общее направление развития Церкви. Честно говоря, более молодые кандидаты гораздо слабей. Ну, кроме разве что кардинала Федерико Скарлатти, но он еще слишком молод, ему всего пятьдесят.
– Так, значит, Санданато можно назвать организатором предвыборной кампании Д'Амбрицци?
– Ты же знаешь, Бен, здесь действуют другие правила.
– Ни черта подобного. Зря только расходуют партийный пыл на этого старого иезуита.
Она улыбнулась.
– Ты невозможен и, подозреваю, гордишься этим. В любом случае, Санданато папство не светит. Он будет главой администрации. А уж если говорить о должности организатора предвыборной кампании, то им мог бы быть Кёртис Локхарт. Впрочем, это всего лишь догадки. Но сам факт той встречи Локхарта и Хеффернана свидетельствует о том, что они не беспочвенны.
– И что из этого следует? Что некто не хотел, чтобы Д'Амбрицци выиграл...
– Господи, о каком выигрыше может идти речь? Это же не лотерея!
– Еще какая лотерея, сестра. Итак, некто устраняет Хеффернана с Локхартом, чтобы уменьшить шансы Д'Амбрицци на престол. Возможно такое?
– Звучит абсурдно! Нет, серьезно, Бен, это же не один из триллеров Данна. Что бы он там ни плел!
– Абсурдно? А мне кажется абсурдным тот факт, что троих человек устранили столь жестоко и хладнокровно. И то, что они были, на первый взгляд, убиты без причины, без мотива, вот это и кажется мне абсурдным. Мотив был, сестра. Ты уж поверь. Я просто сгораю от любопытства. Хочу, чтобы человек, убивший мою сестру, заплатил за это. Но мы его не найдем, пока не узнаем причин. И вот еще что. Папский престол вполне может стать веским мотивом для убийства в церковном мире.
Я завелся, меня, что называется, понесло. На секунду я даже поразился, что могу испытывать столь всепоглощающий гнев. Все равно что заметить красные сверкающие глаза дьявола в прорезях маски святости.
Сестра Элизабет скрестила руки на груди и окинула меня испытующим взглядом. Задумалась о чем-то, а потом тряхнула своей пышной гривой. Она оценивала ситуацию. И вот наконец взгляд ее смягчился, точно она решила дать мне еще один шанс.
– И все равно, – сказала она, – звучит это все абсурдно. Я знаю этих людей. Никакие они не убийцы. Не стану притворяться, Бен, я просто пока не понимаю, что происходит. И не готова, в отличие от тебя и отца Данна, делать скоропалительные выводы. Стараюсь сохранять голову ясной.
– Главное, чтоб не пустой, – язвительно заметил я. Она засмеялась, даже замахнулась на меня и страшно напомнила в этот момент Вэл.
– Нарываешься на драку.
– Ты права, – ответил я. – Еще как нарываюсь.
– Что ж, хорошо, что предупредил. Настоящий брат Вэл, другого у нее просто быть не могло.
– И еще сын своего отца. Не забывай. Во мне сидит безжалостный сукин сын. – Я погрузился в кресло, попытался расслабиться. – Хочу выработать свой подход к ситуации. Я даже еще не осознал до конца сам факт смерти Вэл. И пока не знаю, как буду жить с этим дальше. Чуть раньше мне казалось, что знаю, но теперь нет, не уверен. А пока попробуй меня развеселить. Расскажи что-нибудь еще о Санданато, и тогда я поделюсь с тобой одним своим наблюдением. Поговори со мной, сестра.
Она вздохнула.
– Ну, отношение у меня к монсеньеру двойственное. Порой мне казалось, он свой человек в Ватикане. Абсолютный технократ, холодный, расчетливый, который знает, как работают колесики и винтики этого механизма, который может настраивать его, как скрипку Страдивари... А потом вдруг начинало казаться, что Санданато истинно религиозный человек. Чуть ли не монах. Он обожает монастыри, просто помешан на них, наверное, там его место. Как бы там ни было, но для Санданато Церковь – это мир, а весь мир – Церковь. В этом и состоит главное различие между ним и Д'Амбрицци. Кардинал понимает, что есть мир и есть Церковь. И что еще более важно, считает, что последнее должно существовать в первом. Вписываться в него. Кардинал Д'Амбрицци самый земной человек из всех, кого я знала.
– Тогда странно, что пара эта неразлучна.
– И вот еще что, – задумчиво добавила она, глядя из окна на часовню с запорошенной снегом крышей. – Думаю, Санданато – это совесть Д'Амбрицци. Правда, Вэл считала Санданато фанатиком, чуть ли не маньяком. – Элизабет улыбнулась каким-то своим воспоминаниям.
В комнате воцарилась тишина. На улице темнело, со всех сторон сгущались враждебные тени, наползали на дом. Я думал о Вэл, думал, каким мог быть человек, осмелившийся поднять на нее руку. И еще думал, что сделаю с ним, если найду.
Элизабет щелкнула выключателем, включила одну лампу, потом вторую. Ветер взвыл в каминной трубе, выбросил на коврик кучку пепла.
– Ты обещал поделиться каким-то своим наблюдением, – тихо сказала она.
– А, да... Он влюблен в тебя, сестра Элизабет.
Она открыла рот, потом закрыла и начала медленно заливаться краской. Даже дар речи потеряла на несколько секунд.
– Вот это уж полный абсурд, Бен Дрискил! Просто смешно! Бред какой-то! Просто не представляю, как ты мог додуматься до такой идиотской...
– Успокойся, сестра. Это сразу бросается в глаза. Это совершенно очевидно. Он просто глаз не может от тебя оторвать. Нет, круто, ничего не скажешь!
– Вэл рассказывала, как ты можешь вывести из себя любого, но это, пожалуй, перебор...
– Послушай, Элизабет, я же не говорил, что ты влюблена в него. Успокойся.
Она закатила глаза, щеки пылали.
– Тебе следует преподать хороший урок, негодник!
Она пересекла всю комнату по диагонали, у выхода остановилась и обернулась. Видно, хотела сказать что-то еще, но не нашла слов. И просто вышла. Затем я услышал, как она поднимается по лестнице.
Гнев мой прошел. И я снова принялся размышлять об убийце Вэл. Кем бы он там ни был. Где бы ни находился.
* * *
Отец неподвижно лежал на прохладных белых простынях, лицо было серым, как оконная замазка. Глаза закрыты, но веки слегка подрагивают, точно крохотные крылышки птицы. Палата выглядела в точности как в какой-нибудь телевизионной мелодраме: кругом аппараты, приборы, мониторы, издающие слабое попискивание, эдакий музыкальный больничный фон. Палата отдельная, просторная и удобная, лучшая из всех, что могли предоставить в местной больнице. Почти президентский номер. Даже подсоединенный ко всем этим аппаратам, больше похожий на мертвого, чем на живого, отец выглядел выдающимся образчиком рода человеческого. Огромный, массивный; я почему-то ожидал увидеть хрупкого, слабого старичка, каким он казался, когда вдруг упал у подножия лестницы. Но я ошибался. И мне показалось, что сейчас он в гораздо лучшем состоянии, чем тогда, дома.
Не вид отца меня беспокоил, а склонившаяся над ним монахиня в черной сутане. Она нашептывала что-то ему на ухо, точно ангел смерти.
Сестра, проводившая меня в палату, была высокой, плотной цветущей женщиной с суровым взглядом и решительными манерами. Она подошла к постели, тоже что-то шепнула, и монахиня молча кивнула и проскользнула мимо меня, обдав запахом чистоты и дешевого мыла, столь хорошо знакомого с детства. Именно так пахло от монахинь в школе. И еще послышался шелест ее сутаны, и мне показалось, что она произнесла мое имя, просто Бен. Исчезла за дверью, и теперь уже медсестра заговорила со мной тихим, хорошо поставленным голосом:
– Как видите, ему здесь удобно. Он просто отдыхает. Из коматозного состояния вывести удалось, но он много спит. Вот здесь он подсоединен к монитору, – она взмахом руки указала на попискивающий прибор, – и мы может отслеживать его состояние с дежурной стойки. В палате интенсивной терапии его продержат недолго, в том нет нужды. Дня через два доктор Моррис собирается его поднять. Жаль, что вы разминулись с ним, мистер Дрискил. Что ж, – добавила она, умело взбивая под головой больного подушки, – оставлю вас на несколько минут.
– Сестра, вы видели, что я пришел со священником? Он тоже хотел бы поговорить с отцом...
– Нет, боюсь, это невозможно. Сюда мы допускаем только членов семьи.
– Тогда, возможно, вы объясните мне, какие родственные узы связывают меня с монахиней, которая только что порхала тут над отцом, точно демон смерти?
– О, это... Я не знаю. Она приходит сюда каждый день, утром и около полудня. Наверное, получила разрешение, вот только я не знаю...
– Священник, которого вы видели со мной, является личным эмиссаром Папы Каллистия, прибыл из Рима. Не думаю, что стоит отправлять его обратно в Рим несолоно хлебавши, как вам кажется?
– Конечно, нет, мистер Дрискил.
– И еще был бы вам страшно признателен, если б вы проверили, что это за монахиня.
– Конечно, мистер Дрискил.
– А теперь оставьте меня с отцом.
Она затворила за собой дверь. Я стоял спиной к окну, смотрел на отца, отбрасывал тень на его лицо.
– Узнаю своего сына. Молодец, хороший мальчик, Бен. – Веки дрогнули, левый глаз приоткрылся. – Мой совет, не допускай, чтобы у тебя случился сердечный приступ. Точно ракета врезалась в грудь. Умирать надо не так, а как подобает приличному и благородному человеку.
– Смотрю, ты почти в порядке, – заметил я. – До смерти меня напугал.
– Когда скатился с лестницы?
– Нет. Когда заговорил, сейчас. Я не ожидал, что...
– Да я просто притворяюсь, – сказал он.
– В смысле?
– Ну, что мне полегчало. Чувствую себя просто ужасно. На то, чтобы поднять руку, уходит чуть ли не полдня. С докторами говорю мало. Они полностью мной завладели и правят здесь бал, проклятые садисты. – Дышал он тяжело, с присвистом, хватал воздух мелкими глотками. – Мне все время снится Вэл, Бен... Помнишь тот день, когда Гарри Купер рисовал ее... и тебя?...
– Знаешь, буквально вчера об этом думал.
– Сны, черт побери, наводнены умершими. Вэл, Гарри Купер, твоя мама... – Он тихо закашлялся. – Я рад, что ты здесь, Бен. Подойди, поцелуй отца.
Я склонился над ним, прижался щекой к щеке. Она была сухой и теплой, и еще немного шершавой, наверное, от щетины, этим и объяснялся серый цвет кожи. – Возьми меня за руку, Бен. – Я взял. – Ты трудный мальчик, Бен. Сам знаешь. Трудный. Всегда таким был и будешь, наверное.
Я выпрямился и шутливо заметил, что в том, очевидно, и состоит мой шарм.
– Да, таким и останешься, – пробормотал он.
– Знаешь, а Папа прислал к тебе эмиссара. Ждет за дверью.
– О Господи, неужто я настолько плох?
– Он и из-за Вэл тоже приехал. С двойным, так сказать, умыслом.
– Это кощунство, Бен. Ты грешник.
– Он не уйдет, пока не увидит тебя. Думаю, ты понимаешь.
– Да, наверное. Что ж, Бен, надеюсь, ты удовлетворил свое любопытство. Убедился, что я еще жив и брыкаюсь? – Я кивнул. – И не смотри на меня так, я тебе не чужой. Я все думал, когда ты придешь.
– Они говорили, что ты в коме. – Я улыбнулся ему. – Так что тебе повезло, дождался меня.
– Я вообще везучий. – Он слабо усмехнулся.
– А что это за монахиня, что тут вокруг тебя вертелась? Он покачал головой.
– Воды, Бен. Пожалуйста.
Я поднес пластиковый кувшинчик, он начал пить через соломинку. Потом отдышался и сказал:
– Пусть этот человек от Папы войдет. Что-то я устал. Приходи еще, Бен.
– Приду, – кивнул я. И был уже у двери, когда он заговорил снова.
– Послушай, Бен, что там известно об убийце? Вэл, Локхарт, Энди... они кого-нибудь поймали?
Я покачал головой.
– Стреляли из одного и того же оружия. Видимо, один и тот же человек.
Он закрыл глаза. Я вышел в коридор, оттуда – в приемную.
Санданато курил сигарету и смотрел во двор на старый красного кирпича больничный корпус. Снова пошел снег с дождем, за окном смеркалось. Днем он подремал, но не выглядел выспавшимся или отдохнувшим. Путь от Рима был не близок, ему тяжко далась каждая его миля.
– Отец проснулся, – сказал я. – Так что можете воспользоваться случаем.
Он кивнул, потушил сигарету и направился по коридору к палате.
В приемную вошла сестра Элизабет в сопровождении монахини, которую я видел в палате отца. Контраст был поразителен. Уверен, эта пожилая женщина даже не помышляла о том, что можно быть монахиней и выглядеть и вести такой же образ жизни, как Элизабет. Элизабет посмотрела на меня, потом наклонилась к монахине:
– Вы вроде бы должны знать этого изрядно поистрепавшегося типа?
– О да, – ответила та. Черты лица изумительно тонкие, точеные, кожа гладкая, она напоминала драгоценное изделие из фарфора, которое со временем только прибавляет в цене. Волосы, разумеется, спрятаны, лицо окаймляет белый головной убор. Эта женщина была красива даже сейчас, оставалось лишь гадать, до чего хороша она была в молодости. Мне всегда везло на красавиц монахинь. А то, что на носу у них бывают бородавки, а над верхней губой часто растут усики, об этом я почти забыл.
– Я знаю Бена вот уже сорок лет, – сказала она. – А вот он, похоже, меня не помнит.
И тут я вспомнил, точно молнией пронзило.
– Как можно вас забыть! Сестра Мария-Ангелина? Надо же! Сестра Мария-Ангелина помогла мне преодолеть первый кризис веры.
– Жаль, что она не смогла шагать с тобой рядом и дальше по жизни, – заметила Элизабет. – Поднимать всякий раз, когда ты спотыкался. – Она улыбалась, а глаза весело блестели.
– Что вы имели в виду, Бенджамин? – Мария-Ангелина с любопытством смотрела на меня. – О каком кризисе идет речь?
– Я учился в школе, и однажды мне все это просто обрыдло. Вы стукнули меня линейкой по рукам. И тогда я убежал, спрятался в школьном дворе. А потом вы меня нашли. И я подумал, все, тебе конец, друг, сейчас начнется что-то страшное. Но вместо этого вы вдруг обняли меня, стали похлопывать по спине, утешать, говорить, что все будет хорошо. Я так тогда и не понял, что происходит. И до сих пор толком не понимаю, сестра. Так что, будьте уверены, забыть вас я никак не мог.
– Странно, – протянула она. – А вот я ничего не помню. Ничегошеньки. Впрочем, мне уже стукнуло семьдесят, так что неудивительно, что память подводит.
– Полагаю, то был один из рядовых случаев в вашей практике. Не знал, что вы знакомы с моим отцом.
– Ваши отец и мать... О, мы были очень дружны. В тот день, когда с вашим отцом случился приступ, я как раз навещала миссис Френсис. И тут вдруг его привозят... просто ужасно. Ваш отец, мистер Дрискил, он принадлежит к тому разряду мужчин, с которыми, кажется, ничего никогда не случается. – Она заглянула мне прямо в глаза, потом обернулась к Элизабет. – Есть на свете такие мужчины. Точно лишены гена смерти... Но, разумеется, все мы плывем в одной лодке, и причал для всех один. Не так ли? – Она улыбнулась и тихонько вздохнула. – Я так рада видеть вас, Бен. И примите мои самые искренние соболезнования. Сестра Валентина, о, она была таким милым ребенком! Хорошо хоть ваш отец поправляется. Буду молиться за всех вас.
Тут Элизабет потянула меня за рукав, и мы отошли. Она смотрела на меня и застенчиво улыбалась. И я подумал: что бы я делал сейчас без нее?
– Вэл в точности так же тянула меня за рукав, – сказал я.
– Извини. – Она тотчас отпустила мою руку.
– Да ничего страшного, – сказал я. – Мне даже понравилось. Мне... было приятно.
– Теперь обещаешь вести себя хорошо? – Голос ее звучал так нежно и тихо.
– Опять за свое! – проворчал я. – Ладно. В любом случае исправляться уже поздно.
Мы ехали домой, и тут вдруг меня осенило.
– Сестра Мария-Ангелина, – сказал я. – Интересно, знала ли она отца Говерно? Красивые девушки ему нравились. И он не мог не обратить на нее внимания. Или все это глупости?
– Как знать, – ответила Элизабет.
* * *
Она не давала мне уснуть. Она пробила брешь в моем сне, в темноте ночи, в самом понятии об отдыхе и покое. Я закрывал глаза и видел перед собой ее лицо, словно она явилась ко мне во сне. Но только то не был сон. Я не спал, потому что так хотела Вэл.
Она дала мне несколько дней свыкнуться со страшной мыслью о ее смерти. И вот теперь пришла ко мне и требовала действий. «Довольно плакать и горевать, – кричала она мне. – Давай, большой брат, говори, что собираешься делать? Какой-то поганый ублюдок снес мне полчерепа, и что ты собираешься предпринять по этому поводу? – И она не дразнила меня, нет, не собиралась играть в недомолвки, она требовала ответа на вопрос. Она была полна энергии и решимости. – Я свое получила, – говорила она мне, – я приняла вызов и пошла на риск, и за это меня убили. И еще я оставила тебе достаточно ключей, чтоб разобраться в этой таинственной истории... Я пыталась узнать об отце Говерно, я спрятала в барабане снимок... А теперь, ради бога, лови эту подачу и вперед!... О большой Бен, зачем я только доверилась тебе, ты такой болван и рохля! Будь храбрым ради меня, Бен, поднимайся и покажи им всем!»
Примерно в полночь, когда весь дом спал, я почувствовал, что порядком устал от своей любимой покойной сестры. Даже ее призрак был слишком шумен и активен. Что ж, иначе и быть не могло. Даже в смерти Вэл была той же, что и при жизни, настойчивой, решительной. Я поднялся с постели и накинул халат. Она не собиралась оставлять Меня в покое, прервала ход рассуждений, заговорила снова: «Завтра ты похоронишь меня, Бен. Похоронишь уже завтра. И когда это случится, Бен, я уйду от тебя навсегда, уже не буду с тобой...»
– Нечего на меня давить, – пробормотал я. – Ты всегда будешь со мной, моя дорогая маленькая сестричка, и оба мы знаем это. И по-другому просто быть не может. – Тут я услышал, как она крикнула нечто похожее на «рохля». И голосок замер вдали.
Мне нужно было выпить. Может, виски поможет уснуть или усыпит Вэл. И вот я стал спускаться вниз, слушая, как поскрипывает и постанывает старый дом под ударами ветра. Гудит и стонет, не дает покоя призракам.
В Длинной зале горел свет.
* * *
Санданато сидел в одном из кожаных кресел, спиной к потухшему камину.
– Ну и холодрыга же здесь, – сказал я.
На столике рядом с ним стояла бутылка бренди. В руке был зажат стаканчик. В пепельнице догорала сигарета. Он медленно поднял на меня глаза. Веки тяжелые, набрякшие, лицо измучено бессонницей. При моем появлении он, похоже, ничуть не удивился.
– Вот, никак не мог заснуть, – сказал он. – И еще, извините, воспользовался вашим бренди. Я вас разбудил?
– О, нет, нет. Я тоже не мог заснуть. Все думал о завтрашних похоронах. Боюсь, здесь будет твориться сущее безумие. Половина скорбящих будет ждать, что сестра восстанет из гроба и объявит о спасении всех добрых католиков. Вторая половина будет считать, что она заключила пакт с самим сатаной, а потому отправится прямиком в ад. Ну, примерно так. Нервы, знаете ли, на пределе.
Он кивнул.
– Судя по всему, у вас не меньше проблем, чем у меня. И, э-э, могу ли я предложить стаканчик вашего же бренди, мистер Дрискил?
– Конечно, можете. – Он налил мне щедрую порцию напитка, я предложил ему добавить себе. Он протянул мне стаканчик. – Спасибо, монсеньер, может, теперь нам удастся уснуть.
Мы чокнулись и выпили за это.
– Простите за любопытство. Вы, наверное, художник? Замечательная работа. Просто прекрасная. Такая подлинность чувств. Такая высокая духовность.
Секунду я не понимал, о чем это он. Но вот Санданато затянулся сигаретой и указал рукой в дальний конец комнаты. И я увидел.
Он снял кусок ткани, прикрывавшей мольберт. Откуда ему было знать о нежелании отца выставлять напоказ неоконченную работу? Я силился разглядеть полотно в сумеречном свете одной-единственной настольной лампы.
– Нет, это отец. Он у нас художник.
– Истинное чувство трагизма. А также глубокое знание и понимание истории христианства. Скажите, он когда-нибудь писал развалины древних монастырей? Поистине драматическое зрелище... Но и эта картина очень и очень хороша. Вы что же, не видели ее прежде?
– Вообще-то нет. Он никогда не показывал незаконченных работ.
– Пусть это будет нашей маленькой тайной. Вот скромность истинного творца. – Он поднялся из кресла. Профиль отчетливо вырисовывался на фоне света. Нос орлиный, на лбу, несмотря на холод, царивший в комнате, выступила испарина. – Подойдите, присмотритесь как следует. Уверен, вы найдете это полотно совершенно завораживающим, при условии, конечно, если до сих пор не разучились отличать подлинный католицизм от надуманного. – Тут он выдохнул струю дыма, и лицо его заволокла серо-голубоватая дымка.
– До сих пор?
– Ваша сестра как-то упоминала, что вы были иезуитом. Ну а потом, – он пожал плечами, – потом... отошли от этого.
– Деликатно сказано.
– Должен признаться, ваша сестра выразилась куда грубей и категоричней. В духе улицы. У нее, знаете ли, был... такой выразительный язык и тонкое чувство идиомы.
– Не сомневаюсь. Вернее, знаю.
– Скажите, почему вы оставили семинарию?
– Из-за женщины.
– Она того стоила?
– Разве этого нет в моем досье?
– Помилуйте, о чем это вы? Никакого досье не существует...
– Ладно, забудьте. Неудачная ремарка, продиктованная исключительно бессонницей.
– Так женщина того стоила?
– Как знать. Возможно, когда-нибудь найду ответ.
– Я слышу сожаление в голосе, или мне показалось?
– Думаю, вы ухватили палку не с того конца, монсеньер. Я ушел из-за Девы. Я не мог купить ее, а потому все остальное...
– И вы до сих пор не знаете, стоило ли уходить из-за этого?
– Единственное, о чем жалею, так это о том, что использовал ее как предлог. Существовали другие куда более веские причины.
– Ладно, автобиографических подробностей на сегодня, думаю, хватит. – Он улыбнулся. – Идемте, хочу, чтобы вы взглянули на работу отца.
Мы подошли к мольберту. Я включил еще одну лампу и увидел императора Константина, получившего знак с небес. В характерном своем мощном примитивном, даже повествовательном стиле отец запечатлел важнейший поворотный момент в истории Запада. Щурясь сквозь табачный дым и задумчиво поглаживая подбородок, монсеньер Санданато разглядывал полотно, а потом вдруг заговорил, словно меня и не было здесь вовсе. Словно рассказывал какому-то язычнику о том, что случилось в те давние времена на дороге, ведущей в Рим. Он говорил о Церкви и крови, пролитой за нее...
* * *
Историю Церкви всегда можно было сравнить с пестрым гобеленом, где изображены раскрытые в крике рты, плоть, с которой содрана кожа. И все вокруг тонет в свернувшейся крови, и все эти страсти продиктованы беспредельными амбициями, алчностью и коррупцией, и все в конечном счете решают заговоры и военные походы. Но при этом всегда надо было сохранять тонкий баланс добра и зла, власти, эгоизма, светскости и строгости, всегда надо было давать человеку веру и надежду. Надежду и обещание, которые могли бы сделать его абсолютно невыносимое во всех отношениях существование более или менее сносным. Неважно, кого мучила и убивала Церковь в данный момент, делали это люди. Люди, а вовсе не вера, за которую стояла Церковь. Во все времена были плохие и хорошие люди. А вот вера – это нечто совсем иное, это идея, что Христос умер за наши грехи, что человек в слабости своей обрел в Христе надежду на вечную жизнь, именно вера всегда перевешивала чашу весов. Добро всегда нечто большее, чем нас учили, а вот пути к достижению этого добра вызывают сомнения. Чаще, чем хотелось бы.
– До двадцать седьмого октября 312 года, – говорил Санданато, – быть христианином было довольно просто и даже по-своему приятно. Да, тебя могли скормить льву, тебя могли заковать в кандалы и прогнать сквозь строй римлян, до смерти избивающих палками или бичами ради чисто спортивного интереса. Тебя даже могли распять на кресте на обочине какой-нибудь римской дороги, чтоб ты служил другим наглядным уроком. Зато ты четко знал, в каких отношениях находишься со всем остальным миром. Богатство, власть, плотские утехи – это зло; бедность, вера в Господа, обещание спасения – это добро, из этого должно складываться твое существование.
Санданато выбрал не слишком подходящее время для лекции, но следовало признать, она меня увлекла. Мне почему-то стало спокойно, не хотелось спорить и отрицать. Я снова начал мыслить, как подобает доброму католику.
27 октября 312 года.
Константин, по происхождению германец, тридцати одного года от роду, владел шестью языками, был доблестным воином, императором и язычником, правившим от Шотландии до Черного моря. И в 312 году он готовился к решающей битве у одного из самых больших мостов Рима. И вот вечером накануне битвы, когда стало смеркаться, Константину вдруг было видение... и мир после этого стал совсем другим. В небе, красно-золотом от лучей заходящего солнца, он вдруг увидел крест Иисуса и услышал голос, тот же голос, что взывал к святому Павлу на пути его в Дамаск: «Под этим знаком победишь ты». Утром император вступил в бой, и на щитах его солдат и лбах лошадей был нарисован крест. И они выиграли это сражение. Теперь Рим принадлежал ему, и Константин знал, что принесло ему победу. Власть и сила Иисуса.
28 октября 312 года.
Весь в поту, забрызганный кровью и грязью, он потребовал, чтобы его отвезли в ту часть Рима, где прятались христиане. И там перед ним предстал насмерть перепуганный маленький человечек с коричневой кожей. То был Мильтиад, тогдашний Папа. Всю свою жизнь Мильтиад провел в бегах, страшно боялся пленения и неминуемой казни. Он настолько растерялся от страха, что потребовал переводчика, хоть в том и не было нужды: Константин превосходно говорил по-латыни. Папа дрожал с головы до пят, представ перед высоким белокурым тевтонцем. Выслушал его и едва не грохнулся в обморок.








