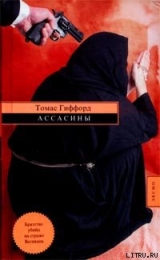
Текст книги "Ассасины"
Автор книги: Томас Гиффорд
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 46 страниц)
Томас Гиффорд
Ассасины
«The Assasini» 1990, перевод Н. Рейн
Посвящается Элизабет
Пролог
Октябрь 1982
Нью-Йорк
Он походил на хищную птицу – весь в черном, он так и парил над серебристым озером льда.
Несмотря на возраст, он явно наслаждался движением, легким посвистыванием коньков, разрезающих лед. Он выписывал на нем правильные геометрические фигуры и радостно подставлял лицо холодному осеннему ветру. Чувства были обострены до предела, так всегда бывало в особо важные для него дни. При получении очередного задания он сразу оживал; чувствовал себя избранным, направляемым рукой судьбы и самого Господа Бога, и с особой ясностью осознавал свое предназначение. И окружающий мир тоже становился ясен до предела, теряя свою загадочность.
Утренний туман наконец рассеялся, сквозь легкие белые облака пробилось солнце. Высоко над его головой поблескивали окнами башни Рокфеллеровского центра, из громкоговорителей лилась музыка, задавая ритм катанию. И он целиком растворялся в этой музыке и ритме своих движений, навевавших воспоминания о прошлом.
Мальчишкой он учился кататься на коньках по замерзшим каналам Гааги. Угрюмые дома, заснеженные парки, свинцово-серое небо с тяжелыми тучами. Оно раскинулось над всем этим древним городом, над дамбами и мельницами. Почему-то именно эта картина врезалась в память, стала неотъемлемой частью детских воспоминаний. Забыть ее было просто невозможно. И неважно, что нет там сейчас никаких мельниц. В его сознании они существуют, медленно вращают огромными лопастями. Воспоминания об этих медленно крутящихся лопастях и резком скрежете коньков по льду почему-то всегда вызывало у него умиротворение. И в дни, подобные этому, когда предстояла работа, он уходил воспоминаниями в детство в Гааге и расслаблялся. Нынешнее молодое поколение называет это медитацией. Но как ни называй, результат один. Таким образом достигался наивысший уровень концентрации, настолько совершенной и абсолютной, что ты уже не замечал своих стараний. Он уже почти достиг его. Катание полностью захватило. Скоро остановится время. Скоро. Совсем скоро.
На нем был черный костюм с твердым стоячим воротничком и черный дождевик, который развевался по ветру и походил на средневековую накидку. В этом наряде он грациозно двигался среди других конькобежцев, в основном то были подростки. Ему и в голову не приходило, что развевающийся по ветру плащ придает ему зловещий, угрожающий вид. Ведь мыслил он не стандартно. Он был священником. Представителем Церкви. И потом, у него такая добрая обезоруживающая улыбка. Он – воплощенная добродетель, и людям незачем его бояться. Тем не менее другие катающиеся предпочитали расступаться перед ним и опасливо провожать взглядами, точно этот человек мог осудить их за неподобающее поведение. Надо сказать, они были недалеки от истины.
Странный конькобежец был высоким, его зачесанные назад, со лба, седые волосы чуть вились. Благородное узкое с длинным носом и широким тонкогубым ртом лицо напоминало лица сельских врачей, знающих жизнь, перевидавших немало на своем веку и не боящихся смерти. И еще лицо его было отмечено какой-то особой, словно светящейся изнутри, бледностью, что вырабатывается десятилетиями, проведенными в сумрачных часовнях и плохо освещенных кельях. Бледность – свидетельство многочасовых бдений и молений. На носу низко сидели очки в тонкой металлической оправе. Святой отец был поджар и очень крепок физически, хотя недавно ему исполнилось семьдесят.
Современные ритмы сменила старая мелодия, девушка пела песенку из фильма, который он смотрел на борту самолета, доставившего его из Италии в Нью-Йорк. Она пела о том, что собирается жить вечно, что вот сейчас выйдет и взлетит высоко, прямо в небеса... Священник продолжал грациозно скользить по льду мимо ребятишек и хорошеньких девушек с длинными развевающимися по ветру волосами и в плотно облегающих джинсах. Таких тесных, что, казалось, вот-вот лопнут по всем швам. Девушки этого возраста всегда напоминали ему игривых и дурашливых жеребят. Он ни разу в жизни не видел обнаженной женщины. Он вообще почти никогда не думал об этих вещах.
Выставив одну ногу вперед, он ловко покатил на одном коньке, слегка раскачиваясь из стороны в сторону, руки чуть шевелятся, словно раздвигая плотные слои воздуха, глаза прищурены, точно он вглядывается в самую суть вещей. А сам все катит и катит вперед, увлекаемый потоком воспоминаний. Ну в точности огромная черная птица, что кружит и кружит высоко в небе, а глаза устремлены вперед, ясные светло-голубые глаза, бездонные, как горное озеро. Ни тени чувства, ни намека на какие-либо эмоции в этих глазах. Они как будто не участвуют в действии.
В группе девочек послышалось перешептывание и хихиканье, когда мимо них промчался старый священник с прямой, как палка, спиной, суровый и аскетичный. И в то же время в их взглядах читалось почтение. Совсем старик, а как здорово двигается, какой стильный и мощный у него шаг.
Но он едва заметил их, слишком уж был поглощен мыслями о предстоящем задании. Эти девчонки тоже наверняка думают, что будут жить вечно, что выйдут и воспарят в небо. Замечательное желание, но ему, старому священнику, лучше знать.
И вдруг впереди он увидел девчушку лет четырнадцати или около того. Совершая пируэт, она упала и теперь сидела на льду, некрасиво раскинув ноги. Подружки ее покатывались со смеху, девочка трясла головой, от чего конский хвост мотался из стороны в сторону.
Он подлетел к ней сзади, подхватил под мышки и резко, одним движением, поставил на ноги. Сам пронесся мимо, точно ворон, и заметил лишь тень удивления на хорошеньком личике. Затем девочка очнулась, заулыбалась и крикнула вслед «спасибо». Он ответил мрачным кивком через плечо.
Вскоре после этого он взглянул на часы. Подъехал к бортику, снял взятые напрокат коньки, сдал их. Потом забрал из камеры хранения свой портфель. Дышал он глубоко и ровно. Катание явно пошло на пользу, он расслабился и получил хороший заряд адреналина.
Затем он поднялся с катка на улицу. Купил с лотка горячий крендель, сдобрил горчицей сторону, посыпанную солью. Стоял и жевал неспешно и методично, потом скомкал салфетку и бросил в мусорное ведро. И двинулся по Пятой авеню вдоль витрин магазинов. Потом перешел улицу и остановился перед собором Святого Патрика. Старый священник не был сентиментален, но это величественное здание – пусть даже и относительно недавней постройки – все же затрагивало какие-то струны в душе. Он рассчитывал здесь помолиться, но катание слишком затянулось. Теперь ему пора.
Он прошел слишком долгий путь и никак не мог позволить себе опоздать.
* * *
Рим
На огромном телевизионном экране показывали футбол, но человек, лежавший в постели, его не смотрел. Один из его секретарей предусмотрительно вставил кассету в видеомагнитофон и даже настроил звук, но больной последнее время начал терять интерес к футболу. И если порой думал о нем, то в памяти всплывали только матчи между мальчишками в Турине, когда сам он был страстным игроком и поклонником этой игры. Но то было очень давно, много-много лет тому назад. Что же касается этой возни на кассете, которую недавно привез курьер из Сан-Паулу, она нисколько его не интересовала. Сражения за Кубок мира по футболу – он о них теперь и думать забыл.
Больной размышлял о собственной неминуемой смерти несколько отстраненно, такой подход не раз выручал его в прошлом. Еще молодым человеком он выработал умение думать о себе в третьем лице, как о Сальваторе ди Мона. С немного насмешливой улыбкой наблюдал он за карьерным ростом человека по имени Сальваторе ди Мона, настойчивым и непреклонным. Одобрительно кивал, когда Сальваторе ди Мона обзаводился могущественными союзниками, с интересом следил за тем, как Сальваторе ди Мона достиг наконец пика в своей карьере. И именно в этот момент Сальваторе ди Мона перестал существовать; он получил новое имя – Каллистий. И стал наместником Бога на земле, святым отцом, Папой Каллистием IV.
До этого он провел в Ватикане восемь лет; не отличался особой скромностью, да и выдающимся умом – тоже, однако проявил себя человеком чрезвычайно практичным и везучим. Он не был склонен к изощренному интриганству, обычно сопутствующему такому роду деятельности. Нет, он смотрел на свой взлет спокойно и не считал его чем-то из ряда вон выходящим, словно готовился занять пост директора какой-нибудь международной корпорации.
Нет, разумеется, на планете под названием Земля были должности и подревней, к примеру, императора Японии. Но он никогда по-настоящему не верил в то, что Господь намерен выражать Свою волю через человека, которого некогда звали Саль ди Мона, смышленого старшего сына преуспевающего дилера фирмы «Фиат» в Турине. Мистицизм – это совсем не его конек, как заявил ему однажды в очаровательной чисто английской манере монсеньер Нокс.
Нет, Папа Каллистий IV был человеком практичным. Всякие там драмы и интриги волновали его мало, особенно после того, как конклав кардиналов выбрал именно его. Правда, путь к избранию был не простым и потребовал прямолинейного и даже грубоватого интриганства, того сорта, что не оставляет сомнений в положительном результате. Не обошлось и без посредника. В его роли выступил преуспевающий американский адвокат Кёртис Локхарт, через которого нужным кардиналам систематически передавались крупные суммы денег наличными. Именно с его помощью кардинал ди Мона сколотил группу поддержки, возглавляемую кардиналом Д'Амбрицци. Деньги, или взятка, если уж называть вещи своими именами, были в этой стране традицией и возвели на самые высокие посты не одного его. Став папой, он попытался свести все заговоры, интриги, сплетни и злословие в своей курии к минимуму. Но вскоре был вынужден признать, что в столь замкнутом сообществе, как Ватикан, все эти старания заранее обречены на провал. Ведь человеческую натуру переделать невозможно, тем более во дворце, насчитывающем не менее тысячи помещений. Точной цифры он никогда не знал, но истина была очевидна: если у вас тысяча комнат, непременно найдутся люди, использующие их не с самыми благими намерениями. И если уж быть честным до конца, попытки как-то контролировать махинации в курии изрядно утомили его. А иногда казались скорее смешными, нежели страшными. И наоборот. Правда, теперь уже ничто не казалось ему смешным или забавным.
Постель, на которой он лежал, некогда служила местом отдохновения Папе Александру VI из рода Борджиа[1]1
Папа Александр VI (1431 – 1503) доводился отцом Чезаре Борджиа, поддерживал его завоевательные планы, устранял противников с помощью яда и кинжала.
[Закрыть] и представляла собой весьма внушительное сооружение с долгой и бурной историей, детали которой ему нравилось представлять. Вне всякого сомнения, Александр VI находил ей более разнообразное применение, нежели нынешний владелец. Впрочем, судя по всему, ему предстоит умереть именно на ней. Все остальные предметы обстановки в спальне попадали под определение «эклектика апостольского дворца». Часть мебели – типичный шведский модерн, оставшийся от Папы Павла VI; телевизор и видеомагнитофон соседствовали с высокими готическими книжными шкафами, где некогда хранилась огромная коллекция различных теологических трудов, которые предпочитал иметь под рукой Папа Пий XII. Были здесь разномастные стулья, столы, бюро и низенький шкафчике подлокотниками, перед которым полагалось преклонять колена, давно превратившийся в подобие кладовой, где скопилась вековая пыль. Словом, то была весьма пестрая коллекция, и, однако, за последние восемь лет Каллистий привык называть эту комнату домом. Окидывая все эти предметы мрачным взглядом, он с облегчением подумал о том, что в том месте, куда он скоро уйдет, ничего из этого уже не пригодится.
Он медленно перекинул ноги через край кровати, а затем погрузил босые ступни в мягкие шлепанцы от Гуччи. Поднялся, немного пошатываясь, потом оперся о трость с золотым набалдашником, трогательный и предусмотрительный подарок от африканского кардинала, полученный год тому назад. Он так толком и не знал, какой из двух недугов вызывал те или иные симптомы, но головокружение приписывал опухоли головного мозга. Разумеется, неоперабельной. Врачи, посещавшие его с одобрения курии, бормотали нечто непонятное, но из слов их он сделал один вывод: причина кончины будет определяться неким подобием фотофиниша, потому как пока непонятно, что подведет первым – сердце или мозг. Впрочем, и это тоже не имело теперь значения.
Однако в оставшееся ему время следовало принять важное решение.
Кто станет его преемником?
И как именно он должен действовать, чтобы выбрать себе достойного преемника?
* * *
Малибу
Сестра Валентина плакала и никак не могла остановиться, и это еще больше удручало ее. В жизни ей доводилось совершать немало безрассудных поступков. Она сама искала опасности и находила ее, она знала, что такое страх. Но теперь страх этот был разлит вокруг нее, каждый, кто находился рядом, ощущал это. Здесь подобный страх может вызвать выстрел, прогремевший над заброшенной дорогой; нашествие батальонов смерти, приближение правительственных войск или нападение вечно голодных партизан, спустившихся с гор и жаждущих пищи и крови. В каждой части света существует свой особый страх, и порой человек догадывался, что ему грозит, и выбирал его вполне осознанно.
Страх же, который она испытывала сейчас, не был похож ни на что испытанное прежде. Он парализовал ее волю и нервную систему, подобно смертельному раковому заболеванию. Он пришел из давних времен, но был жив, активен и нашел ее. Выбрал, выделил ее среди остальных, и вот теперь она шла домой, потому что была больше не в силах смотреть страху в лицо в одиночестве. Бен подскажет, что делать. Большой брат всегда почему-то знает, как следует поступить.
Но сперва надо перестать плакать, дрожать и вести себя, как полная идиотка.
Она стояла у входа в патио, ощущая босыми ногами прохладную росистую траву. Стояла и смотрела на серебристый, изрытый оспинами лик луны, что повисла в сине-черном небе. По небу проплывали легкие рваные облачка, почему-то навеявшие воспоминания из детства об обложке с нотами «Лунной сонаты». Откуда-то снизу, издалека, доносился шум прибоя, высокие волны одна за другой обрушивались на пляж Малибу, подгоняемые океанским бризом, что обдувал сейчас босые ноги. Вэл вытерла глаза рукавом сутаны, плотнее запахнула ее и зашагала по траве к белой изгороди на вершине одного из холмов. Она видела, как вскипает внизу пена прибоя, как набегают на берег и отступают валы, затем снова вздымаются откуда-то из глубины. Она видела несколько пар уличных фонарей, освещавших участок автомагистрали, тянувшейся вдоль Тихоокеанского побережья. Вдали сквозь туман проблескивали огоньки колонии Малибу, мерцали слабо и загадочно, точно у самой кромки воды приземлялся космический корабль. Туман надвигался с берега на море, словно пытался удержать вражеский флот на расстоянии.
Валентина шла вдоль изгороди, пока вдруг не почувствовала ступнями жар от углей. Здесь они жарили морского окуня на ужин. Сидели вдвоем и ели этого окуня, заедая горячим хрустящим хлебом и запивая легким белым вином. Кёртис любил такие трапезы, и говорили они о том же, о чем прежде, в Париже, Риме, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе в последние полтора года. Беседа, спор, называйте как хотите, всегда шли об одном. И она чувствовала, что готова сдаться под его напором, слиться с ним, как мелкие ручейки с бурным потоком. Но боролась сама с собой, не желая подчиняться. Господи, больше всего на свете ей в такие минуты хотелось сдаться, рухнуть, упасть в его объятия, но она не могла. Пока что. Пока что еще не время. Проклятие! Опять она плачет.
Вэл развернулась и зашагала к низкой гасиенде с плоской широкой крышей, мимо плавательного бассейна и теннисного корта, пересекла выложенное плитами патио и остановилась перед застекленной верандой с дверцей. Час тому назад она занималась любовью вон там, в постели.
Кёртис был высоким крупным мужчиной с лицом, напоминающим морду добродушного бульдога. Решительным, целеустремленным. Седые волосы коротко подстрижены и тщательно причесаны, каждый волосок всегда на месте. На нем была синяя пижама в тонкую белую полоску с вышитой на нагрудном кармане монограммой «КЛ». Правая рука откинута и лежит на том самом месте, где недавно лежала женщина. Словно он спал, убаюканный ее дыханием, глухим биением ее сердца. Только теперь он лежал совсем неподвижно. Ей был знаком запах его пота и туалетной воды «Гермес». Она вообще знала о нем так много, больше, чем положено было знать. Впрочем, она никогда не была обычной монахиней. Больше того, она была, как говорится, постоянной головной болью монастыря, Церкви, Ордена. Она всегда знала, что правильно, а что нет; такой уж уродилась на свет, и ничто не смогло изменить ее. Очень часто ее мысли не совпадали с понятиями Церкви. Сестра Валентина шла своим путем. Стала известной личностью, написала два бестселлера. Стала в глазах множества людей настоящей героиней, и эта известность обеспечивала ей безопасность. Она бросила Церкви вызов, дала ей понять, что институт этот слишком мал, ничтожен, ограничен, порой даже подл, и Церковь отказалась от нее. Она сумела стать незаменимым орнаментом, неотъемлемым украшением фасада современной римской Церкви. И избавиться от нее они могли только одним способом – вынести вперед ногами. Так, во всяком случае, ей казалось.
Но все это случилось давно, еще до того, как она занялась своими исследованиями. Теперь же, с горечью подумала она, снова вытерев глаза и громко высморкавшись, выяснилось, что все эти речи, известность, популярность и прочее были лишь жалкой прелюдией. И никак не подготовили ее к тому, что произошло год тому назад, не подготовили ко все нарастающему страху. Она думала, что перевидала все. Думала, что умеет узнавать зло во всех его формах и проявлениях и любовь – во многих. Но как же она заблуждалась! Она ни черта не знала ни о зле, ни о любви. Но, видит Бог, собиралась узнать, чего бы это ни стоило.
Полтора года тому назад Кёртис Локхарт признался ей в любви. Они в то время находились в Риме, где она готовилась к написанию новой книги о роли Церкви во Второй мировой войне. Его вызвали в Ватикан, смягчить последствия скандала, разразившегося в связи с деятельностью банка Ватикана, руководству которого приписывали массу преступлений, в том числе мошенничество, вымогательства, растраты и присвоение чужого имущества, все, вплоть до убийства. Локхарт был одним из немногих юристов, к услугам которых в самых экстремальных обстоятельствах прибегала Церковь – в данном случае Папа Каллистий IV. Большинство юристов просто не способны были справиться с ограниченностью мышления и бескрайней жесткостью, царившими в этом придатке Ватикана. Но Локхарт мог; он сделал карьеру в таких же жестких условиях, умудрившись остаться при этом мягким, приятным и преданным человеком. Как любил поговаривать сам Каллистий, Локхарт очень неплохо устроился под сердцем Церкви, в ее лоне.
Валентина Дрискил знала Локхарта всю свою жизнь. А он впервые увидел ее тридцать лет тому назад, еще десятилетней девчушкой, танцующей на лужайке перед родительским домом. Ее обдавали сверкающие струйки воды из фонтанчиков, и, наряженная в купальник с оборками, она напоминала конфетку в яркой обертке. Сам же Локхарт в ту пору был молодым начинающим адвокатом и банкиром с особого одобрения Рокфеллеров и Чейза. Он часто посещал этот дом в Принстоне, обсуждал с отцом девочки банковские и церковные дела. Она вертелась и пританцовывала на лужайке, сверкая мокрым загорелым тельцем, изо всех сил стараясь привлечь внимание взрослых. Слышала, как звенят кубики льда у них в бокалах, уголком глаза следила за тем, как они сидят на веранде в белых креслах-качалках.
– В десять ты была просто куколкой, – сказал он ей в тот вечер в Риме. – А в пятнадцать превратилась в очень сексуальную девушку с мальчишескими ухватками. Едва не обыграла меня в теннис.
– А все потому, что ты смотрел на меня, а не на мяч. – Она улыбнулась, вспомнив, как он не сводил с нее вожделенного взгляда, а сама она носилась по корту, и ветер раздувал ее короткую белую юбочку, и на лбу выступали крупные капли пота, но вытирать было некогда, и пот превращался в тонкую солоноватую корочку. Локхарт страшно нравился ей, она не уставала им любоваться. Она была совершенно заворожена властью этого человека, даже священники вставали, когда он входил, и почтительно слушали его. В то время ему было тридцать пять, и она не переставала удивляться, отчего он до сих пор не женат.
– А когда тебе исполнилось двадцать, я начал просто бояться тебя. Бояться тех чувств, которые ты вызывала при каждой нашей встрече. И ощущал себя при этом просто болваном. А потом... помнишь тот день, когда я пригласил тебя на ленч в «Плазу»? И мы сидели в Дубовом зале, со всеми этими росписями на стенах, где изображались волшебные замки в горных королевствах, и там ты впервые рассказала мне о своих планах, помнишь? В тот день ты сказала мне, что собираешься вступить в Орден. И сердце у меня едва не остановилось. Я почувствовал себя отвергнутым любовником. А потом вдруг подумал, что все началось с того дня, когда я любовался тобой там, на лужайке, еще девочкой, маленькой дочуркой Хью Дрискила. И тогда мне казалось, что человек я вполне здравомыслящий. Но это не так. – Он сделал паузу. – Нет, на самом деле я потерял голову еще тогда. Я в тебя влюбился. И до сих пор люблю, Вэл. Я наблюдал за тобой, за твоим ростом, и когда ты приехала в Лос-Анджелес, понял, что буду с тобой встречаться... – Он снова умолк и по-мальчишески пожал плечами, как бы отметая эти воспоминания. – Плохая новость: я до сих пор влюблен в монахиню. Есть и хорошая: я всегда знал, что стоит тебя подождать.
Любовная связь у них началась тем же вечером в Риме, в его квартире на холме, над Виа Венето. И он сразу же начал уговаривать ее оставить Орден и выйти за него замуж. Нарушить один из обетов, очутиться в его постели, оказалось достаточно просто. Но она давала не один обет, они давно стали частью ее жизни, неизбежным злом, ценой, которую она заплатила за возможность служить Церкви, служить самому человечеству через столь могущественный инструмент, как Церковь. Уйти из Ордена, оставить работу, на которой она выстроила всю свою жизнь, – нет, это было выше ее сил.
Всего лишь час тому назад они, раздраженные друг другом, долго спорили и ссорились, упрекали в неспособности понять, но при этом ни на миг не усомнились в своей любви. И в конце нашли утешение в страсти, и потом он уснул, а она выскользнула из постели и вышла на свежий воздух подумать. Побыть наедине со своими мыслями, которыми не могла поделиться с ним.
И вдруг прямо перед ней, откуда-то из темноты и тумана, вынырнула чайка, пронеслась совсем рядом, обдав ее лицо ветром, и уселась на камни в патио. Сидела там какое-то время, глядя на свое отражение в стекле, а потом вдруг резко взмыла вверх, словно испуганная увиденным. О, как хорошо было ей знакомо это чувство.
И тут вдруг она вспомнила о своей лучшей подруге, сестре Элизабет из Рима, в которой она порой видела отражение самой себя. Элизабет тоже была американкой, но на несколько лет моложе, такая умная, язвительная, все понимающая. Монахиня самых современных взглядов, преданная своей работе, вот только в отличие от Вэл не бунтарка. Они познакомились в Джорджтауне, где сестра Вэл работала над докторской диссертацией, а не по годам развитая сестра Элизабет собиралась стать магистром гуманитарных наук. Там началась их дружба и длилась вот уже больше десяти лет. А потом в Риме Вэл рассказала сестре Элизабет о предложении Локхартом руки и сердца. Сестра Элизабет молча выслушала всю историю и заговорила не сразу.
– Послушай меня внимательно, – сказала она наконец. – И если все это покажется казуистикой, спишешь на мою иезуитскую натуру. Есть такое понятие – этика ситуации. Обеты свои помни и в то же время знай: ты здесь не пленница. Никто насильно не запирал тебя в клетке и не выбрасывал ключа от нее. И не хотел, чтоб ты гнила здесь до конца дней.
Хороший совет, и если б Элизабет была сейчас в Малибу, Валентина непременно поговорила бы с ней еще раз.
Впрочем, еще тогда, в Риме, они возвращались к этой теме неоднократно.
– Если хочешь просто спать с ним, Вэл, – говорила она, – тогда тебе придется уйти из Ордена. Продолжать дальше в том же духе не имеет смысла. Ты давала обеты. Каждый человек, конечно, может оступиться и нарушить тот или иной обет. Но оступаться еще раз и еще, все время нарушать один и тот же обет – нет, так не годится. Это бесчестно и просто глупо. Сама знаешь. И я это знаю, и Высшие Силы тоже, конечно, знают.
Вспомнив, какая уверенность звучала тогда в голосе Элизабет, Валентина почувствовала себя опустошенной и приуныла. А потом вдруг ощутила страх. Он разрастался и вскоре затмил все остальные чувства.
А началось все со сбора материалов для книги. Чертова книга! Зачем она только связалась с ней? Но теперь уже поздно, и ее повсюду преследует страх. Он заставил Валентину вернуться в Соединенные Штаты, он привел ее в родной дом в Принстоне. Именно страх заставил ее сомневаться буквально во всем, даже в Кёртисе и его любви... И она не знала, что ответить на его предложение. Нельзя мыслить ясно и четко, когда тебя преследует страх. Она слишком далеко зашла в своих исследованиях и раскопала такое, что лучше бы не знать вовсе. Нет чтоб вовремя остановиться, уехать домой. Ей следует забыть все, что она узнала, заняться своей личной жизнью, решить, как быть с Кёртисом. Но она боялась не только за себя. Над мелкими личными страхами превалировал другой, огромный, всеобъемлющий. То был ее страх за Церковь.
И она вернулась в Америку, собираясь рассказать все Кёртису. Но что-то подсказывало ей: остановись, не надо, не делай этого. То, что она обнаружила, было сравнимо с бомбой замедленного действия, совершенно инфернальным устройством, и отсчет времени оно начало уже давным-давно. И Кёртис Локхарт, он или знал об этом, или – да помоги ему Господь – сам был частью этого. Или же вовсе ничего не знал. Нет, она не могла ему рассказать. Он был слишком близок к Церкви, слишком уж слился с ней. И именно это «слишком» и настораживало.
Но бомба тем не менее существовала, и обнаружила ее именно сестра Вэл. Это напомнило ей о детстве в Принстоне и о том дне, когда ее брат Бен, роясь в подвале в поисках каких-то старых отцовских клюшек для гольфа с ручками из дерева гикори, вдруг нашел семь банок с черным порошком, пролежавших здесь бог знает сколько лет, оставшихся со дня празднования Четвертого июля. И она последовала за ним вниз, по ступенькам, мимо гор какого-то хлама, боязливо стряхивая с волос то ли реальную, то ли воображаемую паутину, а потом вдруг услышала голос брата, приглушенный, сдавленный от страха. Он велел ей убираться отсюда, быстрей, ради всего святого. Но Вэл не отступила и дала клятву, что никому ничего не расскажет.
И тогда брат сказал, что дом их может взлететь на воздух в любую минуту, потому что черный порошок в банках – это порох, и лежал он здесь еще до того, как они появились на свет, и может взорваться, потому что потерял стабильность. Она ничего не понимала в порохе, но поверила Бену, потому что хорошо знала своего брата и понимала, что он сейчас не шутит.
Он заставил ее укрыться в конюшне с каменными стенами, а сам, обливаясь потом, осторожно брал банки, одну за другой, выносил из подвала, шел через задний двор мимо семейной часовни, мимо яблоневого сада, к самому краю их владений, и складывал банки на берегу озера. А потом позвонил в полицию Принстона, и они прислали пожарную команду. Пожаловал даже сам начальник полиции в черном автомобиле «Де Сото», и они залили банки водой, а потом увезли на специальной машине, и Бен стал настоящим героем дня. Полицейские даже подарили ему какую-то почетную бляху, и примерно через неделю Бен передарил ее сестре, потому что она тоже вела себя геройски, как подобает бравому солдату, и подчинялась приказам. Она удивилась, даже расплакалась, и не расставалась с бляхой все лето, везде носила ее с собой, а по ночам клала под подушку. Тогда ей было семь, а Бену – четырнадцать. И потом, уже став взрослой, она всегда обращалась к брату в затруднительных ситуациях, когда нужно было проявить героизм.
Теперь же у нее оказалась своя бомба, тоже утратившая стабильность и готовая взорваться как раз во время избрания нового Папы. И она решила отправиться домой к Бену. Не к Кёртису, не к отцу, по крайней мере пока. Помочь ей мог только Бен. Она всегда улыбалась при мысли о брате, «падшем», или «рухнувшем», как он выражался, католике. Ему можно выложить все, рассказать, что удалось обнаружить в бумагах Торричелли и секретных архивах. Сперва он, конечно, посмеется над ее страхами, а потом станет серьезным и непременно найдет выход, подскажет, что делать. И еще сообразит, как преподать эти новости отцу, что именно ему сказать...
* * *
Нью-Йорк
Частный самолет Локхарта приземлился в аэропорту Кеннеди, где его поджидал «Роллс-Ройс». Время было раннее, час пик еще не начался, и в центре города Локхарт оказался на полчаса раньше, чем предполагалось. Локхарт попросил водителя высадить его у квартала под названием Рокфеллер-Плаза, что находился между зданием Рокфеллеровского центра и катком. Он взял сидевшую рядом с ним на заднем сиденье Вэл за руку, заглянул ей в глаза.
– Уверена, что ничего не хочешь сказать мне прямо сейчас?
Многое крылось за этим, казалось бы, простым вопросом. Он не стал говорить ей, что неделю тому назад, когда она находилась в Египте, ему позвонил один друг из Ватикана. Наверху очень озабочены деятельностью этой монахини, намекнул он. Направлением ее исследований, решимостью довести их до конца. Друг из Ватикана попросил Локхарта выяснить, что именно удалось узнать Вэл, а потом убедить ее бросить все это дело.
Локхарт слишком уважал Вэл и ее работу, чтоб в открытую заявить об озабоченности Ватикана. Очевидно, что убедить ее отказаться от исследований лишь на том основании, что этого хочет Ватикан, не удастся. Но он обладал высокоразвитым чувством самосохранения, которое теперь распространялось и на нее. И именно по этой причине его тоже теперь беспокоили ее исследования. Раз уж в Ватикане так встрепенулись, ничего хорошего это не сулит. Такие звонки не причуда или прихоть. Они означают, что всерьез затронуты чьи-то интересы, что сигнал тревоги прозвучал. Но давить на Вэл он не мог. Знал – это бесполезно. Она должна сама рассказать ему все, просто надо дать ей время.








