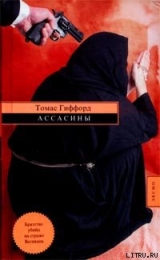
Текст книги "Ассасины"
Автор книги: Томас Гиффорд
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 46 страниц)
Персик подошел к окну, стоял и смотрел, как падает снег, бесшумно образует сугробы, отбрасывающие голубоватые тени. Он глубоко засунул руки в карманы мешковатых вельветовых брюк и сжал их в кулаки. Лучше бы он никогда не слышал об этих чертовых бумагах!
– Да, конечно, я слушаю вас, сэр. Но...
– Подойдите, отсюда мне вас плохо видно. – Персик отошел от окна, приблизился и встал прямо перед ним. – А теперь колитесь, мальчик мой. Скажите, отец Траерне когда-нибудь говорил вам об этих бумагах? Или отец Килгаллен, ваш непосредственный предшественник? Может, он отвел вас в сторонку и сказал нечто вроде: «Послушай-ка, сынок, есть один маленький секрет, которым хочу с тобой поделиться», – а?...
– Нет, сэр, ничего такого не было, – ответил Персик и почувствовал, что краснеет.
– Ну, тогда, возможно, ты сам нашел эти бумаги, так ведь оно и было, да? Просто случайно наткнулся, удивился, что ж это такое, решил посмотреть... правильно? Ты ведь знаешь, никакое это не преступление. Он писал все это сорок лет назад.
– Но мистер Дрискил, я действительно не знаю...
– Ах, святой отец, святой отец. – Хью Дрискил слабо улыбнулся, точно улыбка причиняла ему боль. – У вас нет самого необходимого для священника качества. Вы не умеете лгать, никогда не умели. Вы человек честный. Так вам известно об этих бумагах или нет?
– Понимаете, мистер Дрискил, все это произошло чисто случайно, клянусь Богом...
– Понимаю, сынок. И в связи с этим хочу задать несколько вопросов. Да не волнуйтесь вы так! С вами все в порядке?
– Не знаю, сэр. Это правда. – Куда, черт возьми, запропастился отец Данн, даже посоветоваться не с кем.
Примерно полчаса спустя Персик вернулся к своей старенькой машине, упрекнул себя за то, что до сих пор не удосужился сменить резину на зимнюю, и поехал в Нью-Пруденс. Он получил четкие распоряжения. Забрать рукопись Д'Амбрицци и привезти ее обратно, Хью Дрискилу. Сегодня же. Невзирая на сильнейший снегопад. Все же было нечто в этом Хью Дрискиле... С таким человеком не поспоришь.
* * *
Вернувшись в Рим, сестра Элизабет в тот же день отправилась в квартиру на Виа Венето, предварительно позвонив в резиденцию Ордена на холме под названием Испанские Ступени. Дрискил и Данн приглашали ее поужинать в ресторане на том же холме, но она отказалась, сославшись на то, что сильно устала и надо еще заскочить в редакцию. Она также отвергла предложение Дрискила проводить ее вместе с Данном на квартиру, проверить, все ли там в порядке, просто в качестве меры предосторожности. Ничего с ней не произойдет, она уже убила одного нападавшего, убьет и другого, если возникнет такая необходимость. Все это она произнесла самым жестким и спокойным голосом, прекрасно понимая, что лишь храбрится и все это просто смешно. Но сходить туда надо, и их компания ей вовсе ни к чему.
Остановившись в холле перед дверью, она почувствовала, как бешено бьется у нее сердце. И, едва шагнув в квартиру, тут же включила свет. Яркий свет, никаких там неосвещенных уголков и теней! Подойдя к двери в ванную, она уже знала, что отмокать в теплой воде с солями и шампунями сегодня не будет. Пена, журчание воды, сладкая дремота – от этого сразу теряешь контроль над ситуацией. И вот она быстренько приняла душ, причем оставила при этом дверь открытой, чтобы видеть коридор.
Затем накинула халат, налила себе вина, поставила на огонь кастрюлю с водой для спагетти, наскоро приготовила соус. Но есть не хотелось. Она прошла в гостиную, уселась на диван, включила кассету фильма, музыку к которому написал Энио Морриконе. Но ничто не могло отвлечь ее от горьких мыслей, от воспоминаний о том, что произошло в Авиньоне.
Тогда, ослепленная гневом, она резко вскочила из-за стола, перевернула стул и просто убежала прочь. Пустой мелодраматический жест. Ее душили слезы, она чувствовала себя униженной и одновременно испытывала ярость, ненависть к этому мужчине за его безумное, ничем не оправданное презрение к Церкви, ее слугам, а стало быть, и к ней самой. Последний вывод напрашивался неизбежно. Его ненависть к Церкви была просто непростительна, беспричинна, дика по самой своей сути... Она истощила запас оскорбительных определений. Да как мог он, как смел так оскорбить ее? Почему она оказалась столь уязвима, доверилась ему, рассказывала о своей жизни? В чем заключался смысл всех этих его нападок? Просто чтобы сделать ей больно?
Нет, одной жестокостью этого не объяснить. И все равно, Бен Дрискил – просто дурак и свинья.
Хотя в глубине души она понимала: это не так.
Его боль была спрятана где-то глубоко и была неизмеримо больше той боли, что он причинил ей. Вопрос в том, должна ли она помогать ему и дальше?
Нет, вряд ли это возможно.
И, однако же, он сказал... Господи, может, она просто ослышалась или неправильно поняла?... Он сказал, что любит ее...
Что ей теперь делать?
* * *
Что бы она ни делала, всегда получалось только хуже. Она решила открыться перед ним, довериться и была уверена, что он воспримет все это правильно. А вышло иначе. И все теперь хуже некуда.
Ерунда! Не все. Зачем только черт надоумил ее связаться с этим Дрискилом?
Во время встречи с Кесслером он был так бледен, угнетен, весь дрожал. А Данн держался нормально, как всегда. Интересно, на чьей он все же стороне, этот отец Данн?
Амброз Кальдер. Да, крепкий орешек. Хотелось бы знать, что из его воркотни приняли на веру Бен и Данн?
Д'Амбрицци и Саймон Виргиний – одно и то же лицо? Полный абсурд!
Но тогда кто же стоял за ассасинами? Этим человеком никак не мог быть Д'Амбрицци, поскольку говорили они не о прошлом, а о настоящем. Она слишком хорошо знала кардинала, чтобы поверить, что он мог творить такое зло. Он не мог...
Тогда кто мог?
Курия? Группа заговорщиков внутри курии? Возможно, то был всего один человек, наделенный огромной властью. Инделикато? Оттавиани или Фанджио? Возможно, вовсе не знакомый ей человек? А может, это человек мирской, но близкий Церкви, наделенный огромной властью и деньгами, эдакий вариант Локхарта со знаком минус? Архигерцог? Или Коллекционер? Кто они такие?
А может, сонно подумала она, это сам Папа?...
Или же чья-то невидимая рука, направляемая столь же неведомыми и могущественными внешними силами, эдакая чума, пожирающая всех на своем пути? И возможно, достигнув своей цели, она остановит убийства, а потом, со временем, все забудется, тайна так и останется тайной, но уже не будет никого волновать. Сменятся поколения, а затем вдруг снова понадобятся наемные убийцы и, повинуясь приказу хозяина, нанесут новый удар.
* * *
Элизабет сидела за столом, с пустой тарелкой и пустым бокалом, смотрела на балкон, с которого упал пытавшийся убить ее человек. Она словно видела его воочию, страшный, затянутый молочной пленкой катаракты глаз, искаженное яростью лицо. Она снова ощущала в руке тяжесть серебряного подсвечника, слышала, как хрустнула кость, когда она нанесла удар по лицу... Как же убить свою память?...
Как же ужасно все получилось.
Люди не понимают, как важны для человека религиозного взаимоотношения с людьми вне стен Церкви. Как много они для них значат, какой уровень доверия предполагают, какие порей надежды могут разбудить.
Прискорбный факт заключается в том, что Элизабет разрушила отношения с Беном Дрискилом еще в Принстоне, разрушила своей неуверенностью, эгоизмом и страхами. Спряталась в Церкви, бежала от мира, который, как думала, не могла контролировать. Но мир все равно настиг ее, догнал, подверг опасности. Бен нравился ей, ее тянуло к нему, она восхищалась его храбростью. И накричала она на него тогда вовсе не потому, что он совершил что-то плохое, но из-за собственных сомнений, неуверенности в себе и в правильности выбранного пути. Она заставила его платить за свои ошибки, а сама продолжала терзаться сомнениями и предпочла спрятаться в стенах Ордена.
Орден, следовало признать, требовал от нее немногого, и она отдавала ему тоже совсем немного. В отличие от Вэл, которая отдавала неизмеримо больше, пыталась сделать сам Орден лучше и совершеннее. Она не стоит и мизинца сестры Вэл.
Но как могла Элизабет объяснить все это Бену, который еще в Принстоне видел лишь ее холодность и нежелание понять его? Теперь она понимала. Бен был прав. Его сестру только что убили, и когда сама она протянула ему руку помощи, а он охотно принял ее, то она вдруг сама же от него и отвернулась. Что ж, может, теперь, после Авиньона, они наконец квиты.
И вот она в Риме, и ей хочется лишь одного – спать. Что ж, утро вечера мудренее.
Но она заблуждалась.
* * *
– Может, все же объяснишь, что произошло с этой монахиней?
– Ваше преосвященство, он вовсе не собирался убивать ее. Я пытался доказать это ему, но...
– Значит, плохо объяснял! Мерзкая история, и с каждым часом становится все запутаннее!
– Хорстман говорил, этому человеку можно доверять...
– Но Хорстман не видел его целых тридцать лет! Хорстман сам старик и настоящий фанатик. Должно быть, просто сошел с ума. А может, с самого начала был сумасшедшим. И потом, не монахиню надо было убивать, а Дрискила!
– Но ваше преосвященство, разве это разумно? Особенно теперь, когда он здесь, в Риме?
– Не тебе судить, что разумно, а что нет! Может, стоит напомнить, что именно ты упустил тогда Дрискила?
– Он нам нужен сейчас, и мы ему нужны... мы непременно должны его выслушать. Вы уж извините, но это так...
– Хорстман должен был убить Дрискила в Париже. Или в Ирландии... Время поджимает. Папа может скончаться в любой момент. Мы должны быть уверены в исходе дела до этого...
– Скажите, есть хоть малейший шанс, что он объявит о своем желании?
– Ну, не знаю, хорошо ли это... Одно дело, если я получу его благословение. И совсем другое, если это будет кто-то еще. Уж лучше тогда пусть просто умрет. Так, ладно, что у нас дальше? Где Хорстман?
– Не понял, ваше преосвященство?...
– Он может снова понадобиться.
– Кто? Но это очень опасно, особенно теперь, когда все съехались в Рим. Кто у вас на уме?
– Тебе это не понравится. Зато поможет решить проблему...
Только тут он догадался, кого хотел назвать кардинал.
– Хорстман ни за что не согласится, ваше преосвященство.
– Сделает то, что ему скажут. Он запрограммирован на такие дела давным-давно, причем выдающимся экспертом. Он не человек. Он всего лишь инструмент.
– Простите, ваше преосвященство, но он все же человек...
– Нечего трусить. Мы почти у цели. И наша цель – спасение Церкви, заруби себе на носу.
* * *
Папа Каллистий уже почти не видел разницы между ночью и днем, светом и тьмой. Тьма наваливалась со всех сторон, окружала и давила все плотней, с каждым вдохом, каждым биением сердца. Он ощущал, как одна за другой отказывают все жизненно важные системы. Жизнь оказалась слишком короткой, а возможно, слишком долгой. Интересно, что ждет его дальше. Он очень устал. И разочаровался.
Все больше времени он жил прошлым, оттуда всплывали тени людей, которых он некогда знал, с которыми был дружен. Хорстман, брат Лео, Лебек, умирающий на кладбищенском дворе, вспомнилась также снежная ночь в горах, когда они ждали тот поезд. Саймон... Все они, похоже, собрались теперь возле его постели, кивали, отдавали дань уважения. Все они, живые и мертвые, пришли проводить его в последний путь...
Теперь уже слишком поздно становиться другим Каллистием. Слишком поздно пользоваться планом Д'Амбрицци. Он сказал об этом кардиналу, сказал, что времени совсем не осталось. А тот кивнул тяжелой головой и сказал:
– Попробуй продержаться еще немного.
...Каллистий дремал и что-то бормотал во сне, когда вошел его секретарь и бережно прикоснулся к плечу.
– Да, да... – пробормотал Папа. Во рту пересохло, язык еле ворочался. – Что там? Еще таблетки?
– Нет, ваше святейшество. Вот, вам принесли.
Каллистий увидел в его руке простой конверт.
– От кого это?
– Не знаю, ваше святейшество. Передал внизу, на вахте, посыльный.
– Ладно. Включи лампу. – Он кивком указал на тумбочку. – Спасибо. Позвоню, если что понадобится. А теперь ступай.
Оставшись один, он сунул руку в карман халата и нащупал флорентийский кинжал. Провел пальцем по острому, как бритва, лезвию. Потом вынул кинжал и увидел на кончике пальца каплю крови. Сунул палец в рот. Кровь была солоноватой на вкус. Затем он аккуратно распечатал кинжалом конверт.
Там был один листок бумаги, сложенный пополам. Он развернул его и увидел написанные от руки слова. И сразу же узнал почерк. Прочел, и на изможденном лице медленно расцвела улыбка.
"Ты все еще один из нас. Не забывай этого...
Саймон В.".
2
Дрискил
Спокойствие казалось обманчивым. Мир словно замер в ожидании, хотя и не знал, чего именно ждать. Но у меня возникло ощущение надвигающейся бури. Все мы ждали нового, еще более мощного удара стихии. Пока кардинал Д'Амбрицци остается в покоях Папы, спокойствие будет преобладать. Интересно, подумал я, действительно ли он умирает, этот бедный старик, возглавляющий Церковь, которую, судя по всем признакам, раздирают противоречия, или же это совсем другая история с неожиданно счастливой развязкой? Предсказать или предвидеть что-либо определенное было невозможно. На протяжении многих лет жизнь была столь скучна и рутинна, у меня на столе появлялись все новые папки с делами, мелькали лица клиентов с их тревогами и заботами, между отцом и мной продолжалась скрытая грызня. Ночами я просыпался в поту от увиденных во сне кошмаров, чаще всего снились иезуиты, болела нога, в том месте, где ее натерла цепь. Иногда снилась какая-нибудь женщина, встреченная на одном из благотворительных мероприятий, с которой я вступал в недолгие и ни к чему не обязывающие любовные отношения. Но теперь... теперь ничего предсказать было просто невозможно. Казалось, я вовсе утратил способность предвидения. Никогда еще в жизни не чувствовал себя таким растерянным и беспомощным. Кругом одни мертвецы. И вооружен я лишь игрушечным револьвером. Мне хотелось лишь одного, точнее, я был способен думать лишь об одном – о монахине.
Намерение держаться от нее как можно дальше, заниматься только своим делом, не думать и не вспоминать таяло на глазах. Что, наверное, было неизбежно. Авиньон перевернул все. Жить так дальше было невозможно. Да и как? Ведь я сказал этой женщине, что люблю ее. О чем я только тогда думал, выпалив это признание? Что ж, просто думал о том, что влюбился в нее. Это очевидно. Влюбился впервые в жизни. В монахиню. И вот теперь я вдруг забыл все страхи, что заставляли держаться как можно дальше от нее. Я вдруг увидел свет. И этому было одно объяснение. Неважно, что она монахиня. Важно, что она живая женщина и что я люблю ее.
Я позвонил ей, хотел извиниться, но не стал и вместо этого пригласил на прогулку в Сады Боргезе.
– Просто надо поговорить с тобой, а там посмотрим, как все сложится дальше, – сказал я. – Погуляем, и я прошу выслушать меня внимательно. Знаю, я должен извиниться перед тобой. Но дело не только в этом.
– Хорошо, – ответила она. И я уловил в ее голосе тень сомнения.
* * *
В Садах Боргезе я чувствовал себя в безопасности, народ валит валом, полно туристов, сроду не слышавших об ассасинах, а потому они смеются, болтают, сверяются со своими путеводителями. Здесь же гуляют женщины с детьми, толкают перед собой коляски. Сама вилла была построена в семнадцатом веке для кардинала Боргезе. А вокруг раскинулся огромный зеленый парк с пологими спусками, маленькими озерами, деревьями, цветами и лужайками. Под солнцем радостно сияла эспланада Пьяцца ди Сьенна. И сосны повсюду.
Мы шли прямо по траве, огибая одно из озер. Кругом смеялись и верещали дети. Элизабет не могла сдержать улыбки при виде их. Дети... Поглядывая на модников итальянцев в их тесно приталенных костюмах, солнечных очках, с плащами, небрежно перекинутыми через плечо, я чувствовал себя неуклюжим, нелепым, разбитым и вконец изможденным. Только утром разглядывал в зеркале свою физиономию. Под глазами круги, лицо осунулось, словно после тяжелой болезни. Ничего себе, хорош красавчик!...
– Итак, – сказала она, – что такого важного ты хотел сообщить мне, чтобы я слушала внимательно?
– Слушай, сестра, и услышишь... – Я попробовал выдавить улыбку, она смотрела вдаль, на гладь озера. – В Ирландии я понял несколько важных вещей и хотел бы с тобой поделиться. Они имеют отношение к нам обоим. Говорить об этом мне будет ох как непросто, и все же...
– Может, тогда вообще не стоит говорить, – заметила она. – Подумай хорошенько, Бен.
– Да думал, думал тысячу раз. Но легче не становится. Итак, первое... Там я сорвался. Увидел столько страшного и безобразного, и все это происходило прямо на глазах, и мне казалось, это происходит не со мной, а с каким-то другим, презренным и слабым человеком. Старину Бена Дрискила выпотрошили наизнанку. Я в этой жизни был бит не однажды, поверь, но ничего подобного тому, что было в Сент-Сикстус, со мной еще не происходило... – Мне хотелось раскрыться перед ней полностью и безоглядно, как раскрылась она передо мной тогда, в Авиньоне, хоть и понимал, что это делает меня уязвимым. Хотел показать, что я доверяю ей. В том и состояло мое извинение. – Я сбился с пути в тумане, океанские валы обрушивались на берег с такой силой, что содрогалась земля, и вот в пещере я нашел маленького человечка с перерезанным горлом и очень боялся выйти оттуда... но все-таки вышел.
Я знал, надо уносить ноги, и еще знал, что убийца подстерегает меня где-то в тумане. И его не видно... Хорстмана, я имею в виду. Он меня видит, а я его нет, и я понимал, что убить меня ему ничего не стоит. Понимал, что проиграл. И все равно вышел из пещеры, хоть и знал, что умру. Тогда я еще не сломался. Были силы посмотреть смерти прямо в лицо.
Я перевел дух, затем продолжил:
– И вот я блуждал в тумане, а потом увидел распятого на кресте брата Лео. Крест был перевернут вверх ногами, и сам он весь посинел, и повсюду кровь, и еще одна рука болталась и словно манила меня к себе. Я увидел, на что способен Хорстман, понял, что он меня переиграл, что мне ни за что его не остановить. Что я буду следующим... Это был не просто страх, Элизабет, нечто худшее. Я был опустошен. Чувствовал, что уже не могу бороться. – Мне так хотелось, чтобы она поняла меня. Хотелось, чтобы именно она освободила меня от этого невыразимо страшного греха – страха. – И мне начало казаться, что я стал с ним единым целым, с этим убийцей. Ведь убийца и жертва, они порой едины, точно между ними подписано обоюдное соглашение: один убивает, другой умирает.
И тогда я сломался и бросился бежать. Как испуганный мальчишка. Он был внутри меня, он сидел во мне, мой убийца... Я бежал и бежал, не мог остановиться и вдруг оказался в машине. И даже отъехав от этого места на многие-многие мили, никак не удавалось унять сердцебиение... До той поры я не знал, что человек может испытывать такой страх.
Я шагал вдоль озера, глубоко засунув руки в карманы и низко опустив голову, точно хотел остаться наедине со своей трусостью. А ведь тогда я был совсем один.
– Понимаю, – сказала она. – Не надо себя винить. Твоя реакция была вполне нормальной. – Она сделала едва уловимый жест, точно хотела прикоснуться ко мне. Но тут же отдернула руку.
– Я не просто боялся, – глухо произнес я. – Я потерял надежду и всякую волю к жизни. Не знаю, удастся ли обрести ее снова. Не знаю, где искать. Не уверен, что от меня будет какой-то толк дальше. Страх до сих пор сидит во мне, никак не удается от него избавиться...
– Ты обязательно найдешь себя, – сказала она. – И все с тобой будет в порядке. Ты сильный. Пошел в отца, такой же непобедимый. – Слова эти вылетели прежде, чем она спохватилась. Элизабет знала: с отцом меня лучше не сравнивать.
– Я понял еще одну вещь. Я действительно очень похож на отца. И неудивительно. Он создал меня, сформировал. Не любовью, не своим личным примером или одобрением... но тем, что меня презирал. Презирал за то, что считал моей слабостью, и превратил меня тем самым в черствого, злого, никого и ничего не прощающего сукина сына. Тут уж ничего не поделаешь. Я сын своего отца, и этим все сказано. И понял я это лишь после Ирландии... Меня от себя просто тошнило, зато я понял, чего хочу. Что должен делать, и сделаю это... Но внутри осталась лишь пустота. И есть только один способ заполнить эту пустоту...
– Послушай, – перебила меня Элизабет, – ты уже начал поправляться. Теперь ты знаешь, что делать дальше, а значит, обязательно соберешься. – Она пыталась улыбнуться, но не получилось. Предвидела, за всем этим последует нечто неприятное. Поняла, что встретился я с ней не только для того, чтобы извиниться за поведение в Авиньоне и восстановить дружбу. Она почувствовала, что внутренняя моя борьба продолжается, и посылала мне предупредительные знаки. – Ты ведь прекрасно понимаешь...
– Да, понимаю. В том-то и проблема. Есть только одно место в мире, где я хотел бы находиться...
– Пожалуйста, Бен, не надо, перестань. – Она даже отошла на несколько шагов, чтобы не слышать моего голоса. – Не стоит...
– Это ты, – сказал я. – Я хотел быть с тобой... Хотел выжить и быть с тобой. Хотел этого даже больше, чем убить Хорстмана. Проблема в тебе, Элизабет, и я ума не приложу, что мне делать. Все между нами пошло не так, но уже тогда я понял: если мы будем вместе, я еще смогу все исправить. И при этом я боялся тебя, опасался, как бы не сделать еще хуже, как бы не сказать чего лишнего, и я просто не находил выхода из этой ситуации. Католики...
Тут она развернулась и зашагала прочь.
– Черт! – крикнул я ей вслед. На миг показалось, точно я говорю на некоем незнакомом языке. – Я люблю тебя, Элизабет.
Элизабет на секунду обернулась. Показалось, она вот-вот заплачет. Лицо бледно, как мел, а слез не было. И еще оно выглядело каким-то опустошенным.
Я бросился следом, догнал ее, дотронулся до руки. Она отстранилась. И избегала смотреть на меня. С нами поравнялся какой-то одинокий священник, взглянул на наши лица, добродушно кивнул и прошел мимо, цепляя краями высоких черных ботинок за подол сутаны.
– Ты меня удивляешь, сестра, – сказал я. – Мне почему-то казалось, что ты к этому времени могла бы и сама догадаться... – И я медленно перевел дух.
Перед нами стоял на дорожке маленький мальчик с черной панелью управления в руках. По озеру медленно и картинно разворачивалась большая модель яхты, пытаясь поймать ветер в белые паруса. И вот они надулись, распрямились, и яхта полетела вперед.
Я присел на склоне холма, взял Элизабет за руку, притянул к себе, заставил сесть рядом. Говорить не было смысла. Я и так слишком много сказал. И терпеливо ждал. Она не сводила взгляда с белых парусов.
– Просто ты, наверное, знаешь, – выдавил я наконец. – И не замечать этого просто не имеет смысла. Объяснить, как это случилось, не могу. Просто влюбился в тебя, и все... Утратил всякую волю и силы, а потом вдруг понял, что я сын своего отца. И нашел тебя. Это все равно, что обрести надежду. Сокровище.
– Перестань, – глухим надтреснутым голосом произнесла она. – Пожалуйста, Бен. – Глаза ее блестели. – Это все неправильно, ты не должен говорить такие вещи. Я не для тебя, неужели не ясно? Да и как может быть иначе?... И ты не для меня тоже. Для меня вообще не существует мужчин. Ведь я все еще монахиня. – Тут она заплакала. – Господи, как же это больно!...
– Послушай...
– Нет, я не буду тебя слушать! – Заплаканные зеленые глаза так и вспыхнули гневом. – Если я хоть чуточку тебе дорога, ты должен прекратить все это. И никогда, слышишь, никогда, не смей больше так со мной говорить! Помни, кто ты и кто я... Ты просто обязан уважать меня!...
Она встретилась со мной взглядом, слезы на лице уже почти высохли. Никогда не забуду этот миг. Передо мной наконец-то была настоящая Элизабет. Но длилось это всего секунду, не больше. Она менялась, удалялась от меня, точно призрак. Я снова все испортил, довел ее до слез своим неловким прикосновением. Лицо ее побелело от напряжения, губы дрожали, в глазах читалась тревога. И тогда я не выдержал, притянул ее к себе и начал покрывать поцелуями это бледное лицо, мягкие, соленые от слез губы. Я ощутил, как решимость оставляет ее, как она трепещет в моих объятиях, и вызван этот трепет не только гневом и отрицанием, но и чем-то еще, более потаенным. Я целовал ее в губы и щеки, вдыхал запах ее волос. Элизабет...
И вот она отстранила меня, нежно, но твердо, и руки ее скользнули вниз, и прикрывали теперь груди, только что прижимавшиеся к моей груди. А потом она молча покачала головой. Нет, нет, нет. И вдруг я прочел на ее лице страх. Она меня боялась. В этот момент она словно превратилась в монахиню-еретичку, а на меня смотрела как на инквизитора, зная, что скоро сгорит, что языки пламени будут лизать ее, что конец уже близок.
Я все прочел на ее лице. Ее отказ. И тут же укорил себя. Я должен был предвидеть это с самого начала. Зря только доверился ей. Я прочел это в ее глазах, плотно сжатых губах. Она одна из них. Я доверился ей, сам виноват. Глаза ее смотрели словно сквозь меня, точно стали частью какого-то бесконечного кошмара о невозможности, бессмысленности любви. Она так и осталась монахиней, она не женщина, нет!
– Нам не о чем больше говорить, – прошептала она. – Ты ставишь меня в дурацкое положение.
Я тоже не знал, что сказать.
– Дрискил... – снова шепот, на сей раз еле слышный. – Пожалуйста, не смотри на меня так, Бен.
Я поднялся.
– Ну что, пошли? – И протянул ей руку.
Она отрицательно покачала головой. И тогда я двинулся прочь, мимо туристов и священников. Священников тут было множество. Еще бы, поворотный момент в истории. Папа умирает. В Рим приезжают все новые заинтересованные лица.
Ветер по-прежнему надувал паруса, мальчик визжал от радости. Отец смотрел на него с гордостью.
– Браво, Тони! Молодец, старина! – Англичане продолжали играть в свои игры.
Я обернулся и увидел, что Элизабет стоит у самого берета и плечи у нее вздрагивают. И что около нее стоит священник, видно, предлагает помощь или утешение.
* * *
Оставив ее, я слепо брел вперед, мне было все равно, куда идти и что делать. Главное теперь – взять себя в руки, и еще я изо всех сил старался понять, что у нас пошло не так на фоне этой идиллической обстановки. А потом напомнил себе, с какой целью приехал в Рим...
Разум подсказывал: не стоит обращать свой гнев против Элизабет, она такая, какая есть. Там, где у других женщин гнездились теплота и желание, у нее была лишь пустота и замкнутость. И я снова допустил ужасную ошибку, выставил себя круглым дураком. Прямо в привычку уже вошло.
Но самое странное заключалось в следующем. Тот факт, что она разом лишила меня всех глупых надежд и мечтаний, почему-то вызвал прилив бодрости. Вернул к той цели, которую я преследовал еще до появления в Париже. Терять мне снова было нечего. Осознав, какие чувства я испытываю к Элизабет, я как-то утратил решимость и последовательность. И страх я тогда испытывал лишь потому, что у меня вдруг появились самые веские причины жить. Еще бы, ведь я неожиданно понял, что влюбился. Но она нанесла удар в самое сердце, с той же жестокостью и резкостью, что и Хорстман, пытавшийся убить меня в Принстоне, и тем самым обрубила связывающие меня с ней и самой жизнью нити. Я ощутил, что свободен от нее. Возможно, тем самым она просто спасла меня. Теперь мне нужен был только Хорстман, никто больше.
Немного успокоившись, я вдруг понял, что одинок и что надо хоть с кем-то поговорить. Выбор был невелик.
Отца Данна я нашел в пансионе, где он снимал комнату; в отличие от меня он предпочел остановиться именно здесь, а не в роскошном номере отеля «Хэсслер». И мотивировал тем, что отель – это часть Ватикана.
– Да там из-под каждой двери несет предательством, неужели не чувствуете? Нет, Бен, «Хэсслер» не для меня, особенно сейчас. – Он сидел за простым столом у окна, оно выходило на узкую улочку. Курил сигару и разглядывал лежавший перед ним пакет в клеенчатой обертке. – Я видел, как вы подходите к дому, – сказал он и выпустил длинную струю дыма.
– Получили посылку? – Я кивком указал на пакет.
– Как видите. – Он развязал бечевку, снял клеенку, под ней оказалась тряпка, пропитанная смазкой.
На столе лежал пистолет-автомат 45-го калибра казенного образца. Серьезное оружие. Не игрушка.
– Что вы за священник такой?... – пробормотал я. Во рту у меня пересохло. Он взял пистолет, взвесил на ладони. Меня повсюду подстерегают одни неожиданности, подумал я.
– Священник, который собирается остановить их прежде, чем они остановят его. Я ведь вам уже говорил. Они убивают людей. Ваше оружие на Хорстмана впечатления не произвело. Может, и о моем подумает то же самое.
И он тихо засмеялся, завернул пистолет в тряпку и клеенку, а потом убрал сверток в чемоданчик и сунул его под кровать.
– Пошли прогуляемся, – сказал он. – Нам надо поговорить. Кстати, не люблю огорчать людей, но выглядите вы как после автокатастрофы. Может, расскажете, в чем дело, мальчик мой? Во всем люблю ясность. Повеселите меня.
* * *
Он неплохо знал путаную географию этого окраинного района. Я едва не испустил вздох облегчения, когда мы прошли по мосту и оказались в более людном месте. По пути он рассказывал мне о достопримечательностях, которые давным-давно перестали существовать.
– А вот это площадь Святой Аполлонии. Вон там, на том конце площади, некогда стояла церковь Святой Аполлонии. Теперь ее, разумеется, нет. Некогда там находили приют кающиеся женщины. В августе 1520-го к ним пришла дочь пекаря, девушка по имени Маргерита. Маргерита... теперь ее знает весь мир. Она была любовницей Рафаэля, с нее, дочери простого пекаря, он писал свое знаменитое плотно «Форнарина». Она же служила моделью при написании Сикстинской Мадонны. И «Женщины под вуалью». Дерзкие маленькие груди, соски, напоминающие бутоны розы. Через четыре месяца после смерти Рафаэля она стала монахиней... Она присутствует даже на последней его работе, «Преображение», что находится в галерее Ватикана. А писал он ее здесь, на этой площади. – Он продолжал шагать дальше, указывая то на одну достопримечательность, то на другую, и вот мы вышли на Виа делла Лунгаретта. Данн оказался прекрасным психологом, успокаивал и утешал меня неумолчной и занимательной своей болтовней.
Мы зашли в кафе выпить по стакану холодного белого вина. В центре площади плескал струями фонтан, играли ребятишки, и, выпив вина, я немного ожил.
– Смотрю, вы любите рассказывать разные истории, – заметил я. – Расскажите мне об этой вашей пушке.
– О, это нечто вроде талисмана. Сувенир, оставшийся после службы в армии. После войны я учился в Риме, ну и оставил пистолет одному своему другу. И буквально вчера заскочил к нему. Сидели, вспоминали старые добрые времена. Ну а потом я вдруг решил взглянуть на свой старый мушкетон. И обнаружил, что друг неплохо заботился о моем сувенире. – Он пожал плечами. – Да не придавайте этому значения, Бен. – Он жестом попросил официанта принести нам еще вина. Легкий ветерок обдувал площадь. Девочки заливались серебристым смехом, туристы бросали в фонтан монетки. – А теперь ваш черед. Расскажите, почему, придя ко мне, вы выглядели так, словно вас грузовик переехал. В чем проблема?








