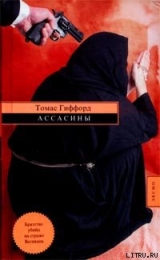
Текст книги "Ассасины"
Автор книги: Томас Гиффорд
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 46 страниц)
Тридцать лет тому назад, когда Папа Пий XII наконец умер, Каллистий был молодым и амбициозным монсеньером, служил в секретариате Ватикана и стал свидетелем церковных конвульсий и потрясений. Теперь и его ждет смерть, страшная, неотвратимая! В тишине комнаты, освещенной лишь луной, он вдруг услышал собственный смех. О Господи, что за времена то были!
Пий был последним из «старомодных» пап: надменный, властный, презирающий то, что другие называли простой человеческой порядочностью. И монсеньер Сальваторе ди Мона считал его морально ущербным, порой даже просто безумным человеком. Моральную нечистоплотность Пий проявил во время оккупации Парижа нацистами. А безумство проявлялось в «видениях», которые, как уверял Пий, часто посещали его последние годы.
И вот Папа Пий умер, и монсеньеру ди Мона по долгу своей службы пришлось вникать в порой просто смехотворные, порой ужасные подробности приготовлений к похоронам. Он никогда этого не забудет. Их было достаточно, чтоб у него возникло твердое убеждение: человек никогда не знает, как придется расплачиваться ему за грехи. В случае с Папой Пием этот счет пришел поздно, через несколько часов после того, как он испустил последний вздох.
В стенах Ватикана были прекрасно осведомлены о том, что так долго Пию удалось протянуть лишь благодаря неустанным усилиям выписанного из Швейцарии геронтолога, доктора Пауля Ниханса. Он был протестантом, и среди его пациентов были такие известные люди, как король Георг Пятый, Конрад Аденауэр и даже Уинстон Черчилль. Все они прошли терапию по восстановлению клеток, изобретенную доктором Нихансом, а заключалась она в курсе инъекций специальным раствором из высокоочищенных тканей новорожденных ягнят. В начале октября 1958-го Папа Пий доживал свои последние часы в замке Гандольфо, и иезуиты с Радио Ватикана непрерывно транслировали все подробности агонии в живом эфире, перемежалось это молитвами за умирающего. Той ночью монсеньер ди Мона слушал эти новости у себя в кабинете, никто в Ватикане не спал. Мало того, он с тремя своими друзьями-священниками открыли тотализатор и делали ставки на час смерти, который наступил в четыре утра девятого октября. Ди Мона проиграл, но ничуть не расстроился, уход Пия служил утешительным призом.
То был настоящий театр абсурда.
Тело понтифика забальзамировал в замке Гандольфо личный врач Папы, Галеацци Лизи, вместе с приглашенным для этой цели специалистом, профессором Оресте Нуцци. Затем его перевезли в Рим на муниципальном катафалке, украшенном четырьмя позолоченными ангелами, фестонами из белого Дамаска, более уместными на свадьбе, и весьма грубо сработанным деревянным дубликатом папской короны, которая могла сорваться с крыши при каждом толчке.
Монсеньер поджидал скорбную процессию у входа в базилику. И вот странный катафалк появился. Сам ди Мона и его друзья и единомышленники просто не знали, что им делать, плакать или смеяться. А потом вдруг услышали нечто напоминающее по звуку пистолетный выстрел. Первой мыслью было: ассасины! И еще монсеньеру хотелось крикнуть им: опоздали, идиоты! Папа уже мертв!
Но затем все поняли: никакой это не выстрел. Звук исходил из катафалка. Там что-то сломалось. Внутри гроба.
И тогда катафалк поспешили провезти через Рим к Ватикану, и гроб поместили в соборе Святого Петра. Монсеньер ди Мона, представляющий секретариат, прибыл туда же выяснить, что происходит. И вскоре вышел в полной растерянности. Погода в те дни стояла необычайно теплая, тело Пия XII начало разлагаться, испускать газы, давление в наглухо закрытом гробе резко поднялось и сорвало крышку. Пришлось Лизи и Нуцци вновь взяться за работу, они трудились всю ночь, чтобы придать телу пристойный вид и выставить его на всеобщее обозрение на траурной церемонии, которая должна была начаться с семь утра двенадцатого октября. Но, как выяснилось чуть позже, их проблемы только начинались.
В день траура проститься с покойным нескончаемым потоком шли скорбящие, мерцали свечи, останки Папы покоились в алом гробу, на голове красовалась золотая митра, и тут вдруг снова все пошло наперекосяк. В соборе Святого Петра было жарко. Слишком жарко. Мертвенно-белое лицо покойного позеленело. Окружающие ощутили тошнотворный запах. Ну, вот человек и показал истинное свое лицо, подумал ди Мона. Здравый смысл взял верх, гроб закрыли, затем поместили в свинцовый саркофаг, а затем захоронили в специально отведенной нише в одном из гротов под собором Святого Петра.
Причину своего позорного провала врачи Лизи и Нуцци объясняли тем, что использовали в бальзамировании старинные методы. Ни инъекций, ни хирургии, ни выемки внутренностей не производилось. Ранние христиане пользовались именно этим способом, и врачи сочли, что он соответствует святости Папы. Затем Лизи продал историю об агонии Папы журналистам, и кардиналы, возглавлявшие Церковь в период безвластия, запретили ему даже ступать на землю Ватикана. Короче говоря, смерть и похороны Пия сопровождались сплошными скандалами.
Так считал тогда монсеньер ди Мона, и теперешний Папа Каллистий IV не изменил своей точки зрения на этот вопрос. Время не повлияло на его взгляды. Он улыбнулся, вспоминая смешные и страшные события того давнего октября, вспоминая себя, еще такого молодого, и своих единомышленников, дружба с которыми зародилась еще раньше, в Париже, во время войны, где они вдруг поняли, каким чудовищем был Пий.
Париж. Одно это слово могло вернуть его в прошлое, заставить вспомнить старых друзей, дело, ради которого они готовы были умереть...
Каллистий потер шею у основания черепа, там, где гнездилась тупая боль, и медленно спустил ноги с постели. Действие обезболивающей таблетки подходило к концу. Доктор Кассони сказал ему, что это примерно то же самое, что и героин, и тогда Каллистий рассердился и сказал, чтобы он забрал свои гнусные таблетки себе. Но Д'Амбрицци прав: Кассони человек хороший.
Каллистий накинул поверх красной шелковой пижамы темно-синий махровый халат, сунул ноги в бархатные шлепанцы. Нашел на столе еще одну пилюлю, запил теплой водой. И закурил сигарету. Из приоткрытого окна тянуло ветерком, дым уносило за тяжелые портьеры. Он включил магнитофон, комнату наполнили звуки «Мадам Баттерфляй». Бедная Баттерфляй, сидит под цветущим деревом и ждет...
Он взял трость и вышел в приемную. Кивнул санитару, который сидел за письменным столом и читал в тусклом свете настольной лампы, затем вышел в коридор. Тросточка постукивала по полу, точно метроном. Недавние убийства вызвали беспокойство в Ватикане, и, отдав соответствующие распоряжения Инделикато и Д'Амбрицци, Папа Каллистий взял за правило обходить свои владения, когда позволяли силы, чтобы убедиться, что все тихо и спокойно и что охранники, он называл их ночным дозором, на месте. И только сделав этот небольшой обход, он успокаивался. Но до конца так и не верил, что все будет хорошо.
Он дошел до крайней двери в темном конце коридора и постучал в нее тростью. Человек за дверью не спал.
– Входите, ваше святейшество, – донесся оттуда скрипучий голос.
Каллистий нерешительно вошел.
– Я тебя не разбудил, Джакомо?
– Нет, нет. Я последние дни страдаю бессонницей.
Как какая-нибудь старая обезьяна. Входите. Буду только рад компании. А то в голову лезут разные дурацкие мысли.
Между ними не всегда существовали столь доверительные отношения. В свое время Джакомо тоже претендовал на папский престол; прошло много лет, но они никогда этого не обсуждали. Слишком многие кардиналы считали, что дело тогда не обошлось без Д'Амбрицци и что немало денег перешло из рук в руки. Этот Д'Амбрицци, говорили они, просто незаменим, в то время как кардинал ди Мона был вполне заменим. Такова была «официальная версия». Но Д'Амбрицци умел читать посланные ему знаки и бросил все свои силы на поддержку ди Мона, которого знал еще с младых ногтей. По иронии судьбы Д'Амбрицци дожил до времен, когда круг снова замкнулся.
– Что, болит? – Лицо Д'Амбрицци было скрыто в тени, что придавало ему таинственность.
– Да нет, не слишком. Я помолился перед сном. А потом проснулся, через час или два, и стал думать о смерти Пия.
Д'Амбрицци улыбнулся.
– Да, черный юмор. Какой-нибудь одаренный молодой богохульник мог написать очень смешную комедию.
Каллистий усмехнулся.
– А ты что думаешь о молитве? – С этими словами он осторожно опустился в мягкое кресло.
– Как говорит наш добрый старый друг Инделикато, вреда в любом случае не будет. Но вы наверняка смотрите на это по-другому. Что заставило вас молиться, Сальваторе?
Услышав старое свое имя, Каллистий повеселел.
– То же, что при любой другой молитве. Страх. Эти убийства... – Он беспомощно пожал плечами. – Откуда начать? Как их остановить? Почему эти люди умирают? Зачем? Вот что важно. – Он поерзал в кресле, устроился поудобнее. Обезболивающая таблетка начала действовать. Д'Амбрицци молчал. – Когда мы познакомились в Париже во время войны, ты был само непокорство. Нет, пожалуйста, выслушай меня, не перебивай. Наверное, именно этим и произвел на меня впечатление, потому как я понимал: непокорство – это не для меня. Я слышал, что говорили люди, знал все, что они о тебе рассказывали. У тебя были связи в движении Сопротивления, ты помогал евреям выбраться из Германии, ты прятал их от фашистов...
– Исключительно с помощью рейхсмаршала Геринга, – вставил Д'Амбрицци. – Его жена, актриса, была наполовину еврейкой...
– Ведь это ты придумал прятать евреев в ящиках с углем в церквях?
– Ну, не так уж часто я это делал, Сальваторе.
– Вот что я хочу спросить тебя, Джакомо. Ты когда-нибудь испытывал страх? Боялся так, что хуже просто не бывает? Продолжал ли верить во время приступов страха?
– Во-первых, всегда есть что-то хуже. Всегда. И когда случались приступы страха, о вере я почему-то не думал. Просто всегда был слишком занят, придумывал выход. Страх... С возрастом, конечно, память начинает подводить. Да и испытывал ли я когда-либо страх? Не знаю, не помню. Возможно, был просто слишком молод и силен, верил, что непобедим и бессмертен.
– А вот это уже кощунство, кардинал.
– Воистину так! Но это наименьший из моих грехов. Вспомните старого Пия и все эти инъекции, вспомните, как он пытался обмануть смерть... Нет, конечно, я боялся. Был там один немецкий офицер, знакомый Пия еще с довоенных времен. Совсем молодой человек, без особой власти и влияния, но мне приходилось заходить к нему время от времени в управление. По долгу службы. Он знал Пия, они познакомились в Берлине еще до войны, и часто рассказывал, что лично представил кардинала Пачелли герру Гитлеру. Послушай, Д'Амбрицци, говорил он мне, теперь Пачелли стал Папой, а фюрер помнит, кто их познакомил. Он почему-то страшно гордился этим. Всякий раз, когда он вызывал меня к себе в кабинет, кстати, из окна его была видна Триумфальная арка, меня охватывал ни с чем не сравнимый ужас, прямо тошнило от страха. Тошнило до и после нашей встречи. Я очень боялся этого человека.
– Ты боялся того, что он может сделать с тобой, Джакомо?
– У меня почему-то засело в голове, что этот герр Рихтер может в любой момент выхватить свой «люгер» из кобуры и пристрелить меня. Или наставить на меня ствол и заявить, что я пытался покуситься на его жизнь. Да, я боялся, что Клаус Рихтер может меня убить. – Кардинал вздохнул, потом откашлялся. – Просто ради спортивного интереса. Они подозревали меня в помощи подпольщикам, но казнить священника – это вам не шутки!... Вещь весьма непопулярная, тем более в такое время, когда священники представляли лояльное население в оккупированной стране... Позже я начал думать, что этот юный Рихтер был, должно быть, закоренелым лжецом. Ведь он был слишком молод, чтобы представлять Пачелли кому бы то ни было. Возможно, просто хотел произвести на меня впечатление. И да, я его очень боялся, Сальваторе.
– Тогда ты поймешь, что я чувствую. Ощущение такое, точно все мы оказались в списке подозреваемых в некой противоправной деятельности. Я в растерянности, Джакомо. Я не знаю, откуда начать, как найти выход... восемь убийств, ты только вдумайся!
Д'Амбрицци кивнул. Каллистий казался таким маленьким в этом длинном халате, таким больным и уязвимым. Таял просто с каждым днем.
– Вы не можете не бояться. Ведь это свойственно любому человеку.
– Я боюсь того, что происходит с Церковью. И за себя тоже боюсь... Боюсь умирать. Не все время, но иногда вдруг находит. Скажи, Джакомо, это постыдно, да? – Он на секунду умолк. – Только подумай, было время, когда ты хотел занять мое место.
– Это не совсем так, – ответил Д'Амбрицци. – Моя поддержка, должен признать, была чисто устной. А набрал я одиннадцать голосов. Это был мой потолок. Ну а когда начались разговоры о моей «незаменимости», поддержка резко упала. И я ничуть не жалею, честно. Я прожил хорошую жизнь, ваше святейшество.
– А как ты тогда голосовал, а, Джакомо?
– За вас, ваше святейшество.
– Почему?
– Считал, что вы этого заслуживаете.
Папа громко расхохотался.
– Ну, знаешь, эту фразу можно толковать двояко.
– Я в самом лучшем смысле, – улыбнулся Д'Амбрицци.
– Скажи-ка мне лучше вот что, только честно, – произнес после паузы Каллистий. – Что там затеял этот Дрискил? Что вообще он может? Знает ли об остальных жертвах?
– Нет. И вообще, чем меньше будет знать, тем больше у него шансов остаться в живых, верно?
– Разумеется. И потом, нельзя допустить, чтобы аутсайдеры влезали в дела Церкви. Если будет упорствовать, надо его остановить...
– Именно.
– Возможно, он устанет и сам оставит все это.
– Я тоже надеюсь. Но мне поначалу казалось, что это покушение убавит у него энтузиазма. Как выяснилось, я ошибался.
– Где он сейчас?
– В Египте, насколько мне известно.
– Мы ведь не знаем, когда они нанесут следующий удар, так?
– Нет, не знаем.
– Такое впечатление, словно ход времени остановился. Мы во взвешенном состоянии, едва сохраняем равновесие. Каков их замысел, Джакомо? Почему именно эти восемь человек?
Кардинал Д'Амбрицци задумчиво покачал головой. Каллистий отвернулся, взглянул в окно на сады Ватикана, залитые лунным светом.
– Скажи, ты боишься смерти?
– Я некогда знал одну женщину, она умерла совсем молодой. Незадолго до смерти мы говорили о том, что ее ждет. И это она утешала меня, ваше святейшество. Взяла за руку и сказала примерно так. Когда придет время, ты должен узнать в смерти своего лучшего и последнего друга. Никогда не забуду этих слов.
– Эта женщина была святой! Была наделена мудростью... а мне ее не хватает.
Папа медленно поднялся, по всему было видно, что мысли его блуждают где-то далеко. Кардинал бережно обнял его за плечи, подвел к окну, и они долго стояли, глядя в ночь. Слова им были не нужны. Внизу, среди деревьев, брел по тропинке одинокий священник, то выскальзывал из тени, то снова погружался в нее, двигался неслышно, то пропадая, то появляясь, как фантом, как убийца...
* * *
Уже лежа в постели, Каллистий снова принялся перебирать в памяти прошлое. Оно притягивало, точно магнит, и центром этого притяжения был Париж. Вечно этот Париж. Он больше не мог противиться неприятным воспоминаниям. На протяжении многих лет он старался не думать об этом, отказывался признавать, что это действительно происходило. До сих пор ему удавалось держать прошлое на коротком поводке, но теперь повод ослаб, сил противиться просто не было, ситуация вышла из-под контроля, точно зашифрованное послание, прошлое начало проступать на прежде чистом листе бумаги. Интересно, подумал он, помнят ли остальные? Помнит ли Д'Амбрицци или уже благополучно забыл? Забыл ли обо всем старый епископ Торричелли, или эти воспоминания преследовали его и на смертном ложе? И этот нервный аскетичный мужчина из Рима, который как-то пришел к нему в Париже, постучал в дверь, мужчина со страдающими глазами... Инделикато, инквизитор, помнит ли он все это до сих пор, теперь, когда находится всего лишь в шаге от папского трона?...
Каллистий вздыхал и ворочался в кровати, старался не вспоминать, но побороть импульс никак не удавалось. И вот он вновь сидел в маленьком церковном дворике холодной зимней ночью, сидел, скорчившись и дрожа всем телом, у черной металлической изгороди. Их было трое. Брат Лео, высокий белокурый священник и он, Сальваторе ди Мона, и, сидя там, они стали свидетелями убийства, которое произошло на небольшом церковном кладбище, среди старых покосившихся надгробий. Они сидели, затаив дыхание и стуча зубами от страха, а на кладбище один священник убивал другого, который предал их всех. Он убивал его голыми руками, ломал, точно спичку, и до них доносился леденящий душу хруст костей.
...Ночь у монсеньера Санданато тоже выдалась беспокойная.
Разговор с сестрой Элизабет на обеде у кардинала страшно его огорчил, хотя он старался не выдавать своих чувств. Она просто не понимает, во что ввязалась! Кто велел ей, кто дал ей право завершать работу, начатую сестрой Валентиной? Работу, из-за которой сестру Вэл убили. Что она собирается делать с результатами этих своих открытий? Итак, ей удалось установить восемь жертв, о гибели которых Церковь предпочитала умалчивать. Удалось также раскопать всю эту старую историю с ассасинами, но кому, скажите на милость, есть теперь до них дело? Особенно когда Церковь и без того сотрясают разные скандалы, связанные с Банком Ватикана, когда грядет раскол, выборы нового Папы и прочее?... Она думает, что очень умная, связала эти восемь убийств и ассасинов. И дальше что? Судя по тому, как развиваются события, она просто сама напрашивается на неприятности. Лезет на рожон. Ее тоже могут убить, а ему отчаянно этого не хотелось. Церковь не может позволить себе потерять еще и Элизабет. Кроме того, он испытывал к ней и другие чувства, о которых предпочитал не упоминать даже в разговоре с самим собой.
И еще была проблема Бена Дрискила.
Санданато уже собирался на обед к кардиналу Д'Амбрицци, когда ему в офис позвонил отец Данн из Нью-Йорка. Данн хотел знать, слышали ли они что-нибудь о путешествии Дрискила.
– Нет, – нетерпеливо рявкнул в трубку Санданато. – И вообще, к вашему сведению, я вовсе не намерен тратить время и беспокоиться о нем. У нас и без Бена Дрискила, который шастает по Египту, дразнит людей, которых подозревает в причастности к убийству сестры, хватает хлопот и поводов для беспокойства. Должно быть, у него просто жажда смерти! На спине рана длиной в два фута, которую получил две недели назад... Скажите, отец, может, он сумасшедший? Неужели не понимает, что это дело Церкви? Так почему бы не предоставить Церкви заняться им?
– Вы хотите сказать, что Церковь занимается этим делом? – прозвучал в трубке насмешливый голос Данна. – Знаете, на вашем месте я бы этого вопроса не поднимал. – И Данн злорадно хихикнул, понимая, какое раздражение это может вызвать у Санданато. – Я вот что скажу. Очевидно, расследование, которое ведет Церковь, если таковое вообще имеет место, не произвело впечатления на Бена Дрискила. К тому же он богат, упрям, у него на все свой взгляд, все Дрискилы всегда были такими. Он непреклонен, он ни за что не отступится, такой уж характер. Я тут порасспрашивал разных людей о нашем друге Бене и теперь более или менее представляю, что он за человек. И знаете, что мне кажется? Думаю, он и сам способен убить. И раз уж вы так беспокоитесь о Бене Дрискиле, то вот вам мой совет – побеспокойтесь лучше о других ребятах.
– Вы что же, хотите сказать, он полностью вышел из-под контроля и нам его уже не удержать?
– Вы уловили самую суть, монсеньер.
– И все же, что бы вы там о нем ни думали и ни говорили, – холодно возразил Санданато, – его могут убить.
– Я беспокоюсь о нем не меньше вашего. Именно поэтому и звоню, узнать, может, вы слышали что-то от него или о нем...
– Я вам уже ответил, нет. Так вы говорите, остановить его невозможно?
Данн холодно усмехнулся.
– Лично я считаю, что нет.
– И что, по-вашему, мы должны предпринять, отец?
– Ответ однозначен. Молиться, мой друг, молиться.
* * *
От Ворот Святой Анны до спартански обставленных апартаментов монсеньера было минут десять ходьбы. Санданато вошел в комнату и уселся за шаткий столик у окна, выходящего на тихую боковую улочку. Налил в плошку пальца на три виски «Гленфиддич», поболтал, наблюдя за тем, как лижет внутренние края посуды янтарная жидкость. Как-то Санданато посещал семинар в Глазго, где его и познакомили с настоящим солодовым виски. Итальянцы никогда не были любителями этого напитка, но монсеньору из Ватикана он очень понравился. И «Гленфиддич» стал одним из любимых его сортов. Он отпил глоток, потом блаженно закрыл глаза, ощущая, как приятное тепло разливается по гортани и желудку. Потер костяшками пальцев веки, чтоб снять усталость. Новости не слишком приятные, все идет наперекосяк, что еще остается, как не напиться? Затем он включил запись оперы «Риголетто», где главные партии исполняли Каллас, ди Стефано и Гобби. Он ждал, когда Каллас запоет свою знаменитую арию «Cara nome», при звуках ее божественного голоса по коже пробегали мурашки. Просто удивительно, что женщина столь хрупкого телосложения может легко брать такие высокие ноты.
Все свою жизнь он проводил в борьбе с частыми приступами депрессии. И всегда проигрывал эту борьбу. Везде, куда ни глянешь, тьма так и манит тебя. Когда он видел, что творится с Церковью, то испытывал адские, почти физические муки, словно в него тыкали раскаленной кочергой. Теперь над Церковью сгущаются новые тучи, ее необходимо спасать. Он видел страх в глазах самого Папы, чувствовал его смятение, неспособность справиться с ситуацией. К тому же скоро Папой станет другой человек...
Санданато открыл глаза и наблюдал за тем, как соседская проститутка пристает к мужчине на улице. Она зазывно хохотала визгливым неестественным смехом, такие визги может издавать только драная мартовская кошка, затем повисла на руке мужчины. И утащила его к себе, в гнездышко, на грязные простыни, где пахло потом, высохшей спермой и дешевыми духами. Он отчетливо помнил этот отвратительный запах, так пахло у шлюхи, которая однажды заманила его к себе. Санданато глотнул обжигающе крепкого виски, чтоб прогнать воспоминание об этой вони.
Потом подлил еще виски из бутылки и долго смотрел на свое отражение в оконном стекле. Не мешало бы побриться. Изо рта воняет, наверное, съел что-то неподходящее за обедом, хотя вроде бы к блюдам почти не прикасался. Где Дрискил и чем он занимается? Он резко встал, отодвинул кресло к стене и принялся нервно расхаживать по маленькой комнате. Одиночество давило на него. Надо было остаться ночевать в Ватикане. Там его настоящий дом. Там вся его жизнь. В Церкви.
Он понимал, куда могут завести такие мысли, но слабо противился им. Одиночество и отчаяние – вот что заставляло его думать о сестре Элизабет.
Он не совсем понимал, почему это происходит, да и особого значения это не имело.
Однако в одном он был твердо уверен: он никогда не знал подобной женщины прежде. Ум, свежесть восприятия, сила воли – вот что составляло ее притягательность. Она привлекала его не только чисто человеческим обаянием, но и тем, что тоже являлась служительницей Церкви. Он сидел здесь один, но хотел быть с ней, в какой-то другой комнате, где нет боли, тоски, одиночества и отчаяния, которые наполняли скромное его обиталище.
Ему хотелось слышать ее голос, спорить с ней, соревноваться с ней в остроумии. Он чувствовал: ему редкостно повезло, он нашел женщину, равную ему по силе духа, к тому же еще единомышленницу. Он знал, она разделяет его взгляды, как и он, считает, что Церковь всегда должна быть на первом плане. Он не сомневался: она верна своим взглядам и убеждениям.
И еще он был уверен, что сестра Валентина была любовницей Локхарта. Кардинал Д'Амбрицци высказался на этот счет весьма недвусмысленно. Ну а сестра Элизабет? Он понимал, что ведет себя иррационально, но мысль о том, что между Беном Дрискилом и Элизабет может что-то быть, просто сводила с ума. При этом у него не было ни малейших доказательств, все это чистой воды домыслы, и он это прекрасно понимал. Но он видел их вместе, он наблюдал... Он помнил последние слова Бена Дрискила при расставании, тогда на секунду он даже ощутил нечто сродни радости или злорадству. И моментально успокоился. Решил, что между Беном и Элизабет все кончено. Он понимал, как обижен и рассержен Бен. Но если вдуматься, такая реакция говорит о многом. Хотя бы о том, что он к ней явно неравнодушен, иначе с чего бы ему так заводиться?
Его страшно мучила мысль о том, что между ними что-то могло быть. Злоба разрасталась, как раковая опухоль. Это нехорошо, недостойно, но ничего поделать с собой он не мог. К тому же Дрискил рассказывал, как познакомился с Элизабет, как она понравилась ему, как Вэл любила эту девушку... Неужели Элизабет могла проделывать с Дрискилом то же самое, что Вэл с Локхартом?
Господи, он просто ненавидел себя за это! Глупость, подлость! Вэл убивают, Элизабет тут же летит в Принстон и наверняка тут же оказывается в постели с Дрискилом! Параноидальные юношеские бредни, страх одиночества – вот что движет им. А ведь он священник, ему совсем не к лицу влюбляться в монахиню, которая едва его замечает. Ведет он себя, как полный болван, и потом, это так пошло и не ново, ему не раз доводилось сталкиваться с такими случаями в церковной среде, и он от души презирал этих священников.
Только она может успокоить его и внести ясность. Так просто... Но он никогда не спросит ее, не посмеет. Он страшно тосковал по ее облику, голосу, только она могла придать смысл всей его жизни. Так хотелось довериться ей, постоянно быть рядом. Одна она может вытащить его из темной пропасти одиночества.
Но стоит ли она того?
Сам этот вопрос казался дурацким и подлым. Но от него так легко не отмахнешься.
Он допил виски, он больше не мог сдерживаться.
Снял трубку, набрал ее номер, долго слушал бесконечные гудки...
* * *
Отец Данн стоял у окна кабинета и смотрел на крышу Карнеги-холла, Пятьдесят Седьмую улицу и Центральный парк. Все было затянуто серой туманной дымкой. Листва с деревьев облетела, вода в прудах и озерах отражала свинцово-серое небо, даже коричнево-серых уток, что во множестве водились здесь, не было видно: или попрятались по своим домикам, или улетели в теплые края. Он вздохнул, опустил бинокль, налил себе еще одну чашку кофе из термоса, что стоял на столе. Спал он сегодня всего часа три, не больше, и отчаянно зевал. Письменный стол и журнальный столик были завалены бумагами с заметками и набросками. Он сочинял сюжет под названием «Дело Дрискилов». Это семейство было повсюду! Все сходилось на них. Просто удивительно!
Да и само дело было весьма необычным, превосходило по затейливости все написанные им романы. Чего, к примеру, стоит одна совершенно дикая готическая история которую поведала ему сестра Мария-Ангелина. Старая маленькая монахиня с удивительными огромными глазами, нашедшая последний приют в провинции, в заброшенном монастыре. Она так спокойно – или почти спокойно – рассказывала ему о том, что произошло почти полвека тому назад. Он внимательно выслушал и поблагодарил. А что еще он мог сказать? В какой-то момент ему даже захотелось, чтобы она замолчала – такие воспоминания не каждый день услышишь. И потом, он не знал, верить ей или нет. Хотя вроде бы рассуждала старушка вполне здраво, но кто их разберет... По опыту он знал: на свете не так много людей в здравом рассудке, которые могли бы так долго хранить подобную тайну, а потом, в конце жизни, вдруг выложить ее за здорово живешь. Он не знал, что и думать, а потому просто поблагодарил ее и заехал по дороге в Принстон в гостиницу «Нассау», перекусить. Туда, где, собственно, и началась вся эта заварушка примерно месяц тому назад. И, жуя бургер, вдруг решил, что необходимо получить хоть какое-то подтверждение этой истории. А это будет непросто, потому как Мэри Дрискил уже давно на том свете, отца Говерно тоже нет в живых, а сам он просто не может заставить себя войти в палату к Хью Дрискилу и начать расспрашивать его о сестре Марии-Ангелине и всей этой истории.
Так к кому же обратиться? Должен же быть какой-то иной способ.
Он вернулся в Нью-Йорк уже затемно, сел за стол и начал прикидывать, как ввести факт смерти отца Говерно в сюжет, разработкой которого занимался. Правда, пока что то был еще не сюжет, а какая-то каша, и Данн не знал, с чего лучше начать. Нужно упорядочить его, выстроить четко, как во всех остальных романах.
И вот наконец он повалился в постель и проспал часа три без сновидений. Проснулся в семь и включил телевизор, посмотреть выпуск новостей. Корреспондент «Эн-би-си» сообщал из Рима: во-первых, в Ватикане продолжается скандал, связанный с банком, что, по его мнению, должно привести к массовым самоубийствам. И второе: слухи о пошатнувшемся здоровье Папы Каллистия можно считать сильно преувеличенными. Да, на людях он все лето появлялся мало, но весь последний месяц никаких сообщений об ухудшении состояния не появлялось. Официальный диагноз, острое респираторное заболевание верхних дыхательных путей, вызывал у корреспондента язвительный комментарий. Данн тихо застонал, но не мог не улыбнуться. Римской курии придется считаться с действительностью. Странно, что им так долго удавалось морочить людям голову.
Попив кофе, он ожил, мысль снова работала четко. И ответ на один вопрос он нашел. Ему нужен некто, кто мог бы подтвердить историю Марии-Ангелины. Он понял, кто. Дрю Саммерхейс. Если уж он не знает правды, тогда ее не знает никто. Дрю всегда был наставником, советчиком и другом Хью Дрискила.
Данн узнал номер компании «Баскомб, Люфкин и Саммерхейс» и поговорил с секретарем великого человека. Нет, сегодня его уже не будет, но завтра в два – добро пожаловать. Данн согласился.
Звоня по телефону, он мельком отметил про себя, что слишком замотался и не удосужился проверить вчера вечером автоответчик. Заинтересовало его лишь одно сообщение, от Персика О'Нила из Нью-Пруденса, поступившее два дня тому назад. Затем он послал еще два, в тот день, когда Данн ездил в монастырь под Трентоном. Наверное, Персик зол на него, и, не став тратить времени даром, Данн позвонил ему домой.
Они договорились пообедать в «Джинджер Мэн», ресторане неподалеку от Линкольн-центра, назначили встречу на час дня. Отец Данн сидел за столиком и попивал сухой мартини, когда с улицы, где правили бал дождь, холод и ветер, дующий с Гудзона, вошел Персик. Дождь хлестал в окна, от крупных капель пузырились лужи. Персик вошел, отряхивая плащ и шмыгая покрасневшим от холода носом.








