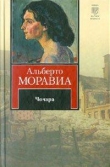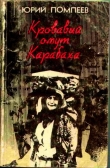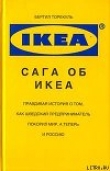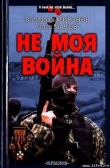Текст книги "Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной"
Автор книги: Томас де Ваал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
Сумгаитские погромы породили целый букет теорий. Многие обвиняли КГБ, утверждая, что спецслужбы инициировали эту вспышку насилия. Так, согласно одной из версий, КГБ организовал погромы, чтобы "напугать армян" и заставить их свернуть кампанию политического протеста. По другой версии, это было сделано для того, чтобы посеять семена межэтнической вражды и позволить Москве укрепить свое властное влияние в Армении, и в Азербайджане. Согласно третьей версии, КГБ спланировал резню в Сумгаите, чтобы дискредитировать Горбачева и его перестройку (26).
У КГБ, разумеется, хватило бы и возможностей, и цинизма, чтобы спровоцировать взрыв межэтнического насилия. Однако нет никаких данных: ни в архивных, ни в неофициальных источниках, которые бы подтверждали эту гипотезу. Если же допустить, что КГБ действительно подготовил и осуществил эти погромы, то придется сделать вывод, что в 1988 году госбезопасность уже действовала совершенно независимо от Горбачева и имела собственную радикальную долгосрочную политическую программу (которая чуть позже бумерангом ударила по ней же). Кроме того, придется приписать тогдашнему председателю КГБ Виктору Чебрикову – хмурому партийному функционеру, который, судя по всем его цитируемым выступлениям по карабахской проблеме, неизменно выступал за сдержанность, – роль великого интригана, этакого советского Яго. Но это вряд ли шекспировский герой соответствует его реальной роли. Судя по деятельности спецслужб в тот период, КГБ оказался в не меньшей степени растерян и бессилен, чем другие советские ведомства.
В Азербайджане появились еще более экстравагантные теории заговора, цель которых заключалась в попытке снять с азербайджанской стороны ответственность за совершенные акты насилия. Одна из версий муссировалась особенно упорно: якобы армянские заговорщики загодя установили скрытые камеры в местах будущих погромов, и отснятая пленка незамедлительно распространялась по информационным агентствам всего мира. Однако этот якобы снятый фильм никто никогда не видел.
В мае 1989 года историк Зия Буниятов, бывший тогда президентом республиканской Академии Наук, самый известный азербайджанский армянофоб, предложил очень экзотичную версию погромов. В статье, озаглавленной "Почему Сумгаит?", он сделал вывод, что армяне сами спланировали сумгаитские погромы с целью дискредитировать Азербайджан и подстегнуть армянское националистическое движение. "Сумгаитскую трагедию тщательно подготовили армянские националисты, – писал Буниятов. – За несколько часов до ее начала армянские фоторепортеры и съемочные группы телевидения тайно въехали в город и будучи в состоянии полной готовности стали дожидаться развития события. Первое преступление было совершено неким Григоряном, выдавшим себя за азербайджанца, который убил в Сумгаите пятерых армян" (27).
К началу 1990-х годов, когда Азербайджан покинули все армяне, а война с Арменией окончательно отравила отношения между двумя народами, кинорежиссер Давуд Иманов предложил еще более изощренную версию сумгаитских событий. Его хаотичная кинотрилогия под названием "Эхо Сумгаита" – это крик отчаяния, где автор бросает обвинения одновременно и армянам, и русским, и американцам, якобы вступившим в тайный сговор против Азербайджана. В целом, Иманов представил Сумгаит как арену международного заговора, подготовленного ЦРУ с целью развала Советского Союза (28).
Буниятов и Иманов выстроили свои теории на фундаменте одних и тех же разрозненных и бессвязных фактов. Вот один такой факт: накануне событий сумгаитские армяне сняли со своих счетов в местном сберегательном банке около миллиона рублей. Даже если это и так, то тут нет ничего удивительного, потому что конфликт между армянами и азербайджанцами тлел довольно продолжительное время.
Еще один факт, на который ссылаются оба, – это участие в кровопролитии армянина Эдуарда Григоряна. Сумгаитский рабочий Григорян действительно участвовал в ряде массовых актов насилия и групповых изнасилованиях (хотя нельзя утверждать, как это делает Буниятов, что он самолично "убил пятерых армян"). Впоследствии Григоряна приговорили к двенадцати годам тюремного заключения. В Азербайджане расцвела целая мифология, связанная с "этим армянином", который якобы стоял за всеми сумгаитскими погромами. Впрочем, Григорян оказался в числе восьмидесяти четырех арестованных по обвинению в кровопролитии, из которых восемьдесят два были азербайджанцы и один – русский (29).
Григорян был обыкновенным подонком. Уроженец Сумгаита, он после смерти отца-армянина, воспитывался матерью-русской. У него было три судимости. Судя по одной версии, во время беспорядков он подстрекал других к бесчинствам, а по другой версии, Григоряна принудили примкнуть к погромщикам его фабричные приятели-азербайджанцы. В целом, Григорян вполне соответствует типу погромщика: бандитского вида парень непонятно какой национальности и с богатым уголовным прошлым, готовый махать кулаками по любому поводу. Но все же в нем трудно увидеть зловещую фигуру политического заговорщика, не говоря уж о том, чтобы он был архитектором коварного армянского заговора.
Если и существовал некий план массового насилия, то он мог возникнуть только внутри города. Когда погромы прекратились, кое-кто из местных руководителей лишился своих постов, а руководитель городского комитета КПСС Муслим-заде был исключен из партии (30). Некоторые армяне-очевидцы погромов говорят, что они своими глазами видели среди участников митинга на площади Ленина партийных руководителей Сумгаита, которые призывали местное армянское население покинуть город. А кое-кто из армян даже утверждает, что представители городской власти мелькали в толпе погромщиков. Многие из них, утверждается в армянских источниках, получили устные инструкции и списки с именами и адресами армян и были вооружены самодельным оружием (31).
Возможно, местные руководители сознательно манипулировали толпой, в надежде вынудить армян уехать из Сумгаита и тем самым добиться решения острейшей жилищной проблемы. Но даже если кто-то сознательно планировал направить на сумгаитских армян стихийную силу разгоряченной толпы, непредвиденное развитие событий, вышедших из-под контроля, смешало все эти планы.
В каком-то смысле сторонники теории заговора просто ставят изначально неверные вопросы. Кровопролитие возникло не в вакууме, и даже если в Сумгаите поработали тайные провокаторы, им тем не менее все равно требовалась аудитория, подготовленная для провокаций. Писатель и журналист Анатоль Ливен писал, что в 1990 году видел в Риге переодетых в гражданское советских военных курсантов, которые пытались затеять драку с латвийскими полицейскими – но безуспешно, потому что флегматичные прибалты так и не применили в ответ на эти провокации чрезмерную силу. К несчастью, на Кавказе толпа куда более взрывоопасна (32).
Возможно, правильнее было бы задаться вопросом о том, как можно было избежать кровопролития в Сумгаите, городе очень неблагополучном, где тысячи беженцев оказались в отчаянной и крайне неопределенной ситуации. Ведь удалось же в те дни избежать антиармянских погромов в других крупных городах Азербайджана – Баку и Кировабаде. Но в Сумгаите смешение элементов оказалось значительно более взрывоопасным. Волна насилия поднялась так стремительно, что остается лишь удивляться, почему жертв среди армян не оказалось еще больше. И то, что этого не произошло, хотя местная милиция бездействовала, а армия прибыла в город с опозданием на сутки, позволяет предположить, что некие советские гражданские ценности все же сыграли роль тормоза в кровавом межэтническом столкновении. Как ни ужасны были эти погромы, список жертв в Сумгаите оказался куда короче, чем после резни в Баку в 1905 и 1918 годах.
Азербайджанцам, думающим о себе как о толерантной нации, было бы легче осмыслить погромы, если бы они поняли, что подобного рода насилие в человеческой истории не такая уж большая редкость. "Одна важная причина быстрого увеличения численности бесчинствующей толпы заключается в том, что это не сопряжено с риском", – пишет Элиас Канетти в классическом исследовании психологии толпы "Толпа и власть". "Убийство, в котором участвуют многие, которое не только безнаказанно и дозволено, но и по сути рекомендовано, для подавляющего большинства людей является непреодолимым искушением" (33).
Вскоре после Сумгаита ужасные погромы произошли в советской Средней Азии – в Оше и Душанбе. Другая страна, имеющая репутацию мирной и спокойной, Великобритания, в 1915 году стала ареной уже почти забытых ныне этнических погромов в лондонском Ист-Энде. После того, как английское пассажирское судно "Лузитания" было потоплено немецкой подводной лодкой, на улицы Лондона вылились разъяренные толпы и начали крушить немецкие магазины и избивать торговцев-немцев (36). Более двухсот человек тогда получили увечья. Общая картина сумгаитских событий не была бы такой черно-белой, если бы широкую огласку получили факты насильственного выселения азербайджанцев из Армении. Вспышки насилия в сельских районах Армении не приобрели столь ужасающих масштабов, как в Сумгаите, но на протяжении 1988 года от рук армян пострадали сотни проживавших в Армении азербайджанцев.
Так случилось, что и в Советском Союзе, и за его пределами, Сумгаит стал символом межэтнического насилия, где армяне были пострадавшей стороной. В Армении сумгаитские события вызвали большой резонанс, отозвавшись гневом и болью. В коллективной памяти армян эти события вызвали ассоциации с массовой резней 1915 года, "геноцидом". Были возведены мемориалы в память жертв сумгаитской трагедии. В Ереване прошли массовые демонстрации, участники которых несли транспаранты с двумя датами: 1915 и 1988. Многие армяне стали считать, что они должны дать отпор нарастающей волне агрессии. Аркадий Гукасян, нынешний лидер Нагорного Карабаха, говорит, что Сумгаит сделал военный конфликт с Азербайджаном "неизбежным". "После Сумгаита мы все задумались, к чему все это может привести, но маховик уже был запущен. Сумгаит был попыткой нас запугать, пригрозить нам: "Смотрите, то же самое случится и с вами!" (34)
Примечания:
1. Russian Archives Project, фонд 89, рол. 1003, 89/42/18. Багиров умер в октябре 2000 г. в возрасте 68 лет.
2. Это был Григорий Харченко.
3. Интервью с Мусаевым 14 ноября 2000 г.
4. По словам Мусаева и Зардушта Ализаде, это произошло в июле и декабре 1988 г. Два московских собеседника Вячеслав Михайлов и Григорий Харченко также отметили Мусаева.
5. Первые две цифры привел советский министр внутренних дел Виктор Власов на заседании Политбюро 29 февраля 1988 г.; третью цифру назвали Гасан Садыхов и Рамазан Мамедов в кн. "Армяне в Сумгаите" (Баку: Шур, 1994), стр. 31-32.
6. В этом изложении событий использованы три интервью с прежними и нынешними жителями Сумагита: Эльдаром Зейналовым в Баку 9 ноября 2000 г., Эйрузом Мамедовым в Сумгаите 24 ноября 2000 г. и Рафиком Хачаряном в Армении 15 декабря 2000 г.
7. За исключением особо оговоренных случаев, следующее ниже изложение основано на трех источниках: беседах в самом Сумгаите 24 ноября 2000 г., беседах в Касахе, Армения, с сумгаитскими армянами 15 декабря 2000 г. и книге "Сумгаитская трагедия в свидетельствах очевидцев" под ред. Самвела Шахмурадяна.
8. Двое участников беспорядков, позднее представших перед судом по обвинению в убийстве, Закир Рзаев и Азер Турабиев были выходцами из Гугаркского района на северо-западе Армении, о чем пишет В. Саркисян в статье "Настал ли час расплаты?" – "Коммунист", 30 октября 1988 г., перепечатанной в кн.: "Нагорный Карабах глазами независимых наблюдателей", стр. 68
9. Константин Пхакадзе в кн.: Сумгаитская трагедия в свидетельствах очевидцев.
10. Информация предоставлена Григорием Харченко.
11. "Заместитель Генерального прокурора СССР: два жителя Азербайджана "стали жертвой убийства", – Бакинское радио (18:45 по бакинскому времени) 27 февраля 1987 г. Высказывались разные предположения относительно того, с какой целью Катусев упомянул об этих двух убитых. Возможно, он пытался запугать армян и заставить их прекратить акции протеста. Катусев покончил с собой 21 августа 2000 г. По сообщению агентства Интерфакс, он находился в состоянии депрессии после гибели жены и сына.
12. Зинаида Акопян в кн.: Сумгаитская трагедия в свидетельствах очевидцев.
13. Константин Пхакадзе в кн.: Сумгаитская трагедия в свидетельствах очевидцев.
14. Интервью с Тагиевой 24 ноября 2000 г.
15. Самвел Шахмурадян и группа исследователей под его руководством готовили к изданию второй том рассказов очевидцев, говорящих о примерах сопротивления, но книга так и не увидела свет.
16. Решение не трогать телевизоры объяснялось тем, что они представляли ценность для грабителей. Возможно также, что советские телевизоры не трогали из-за их печального свойства взрываться.
17. Сумгаитская трагедия в свидетельствах очевидцев.
18. Информация предоставлена сумгаитским журналистом Фамилем Исмаиловым. Он отметил, что руководитель сумгаитского комсомола Эльдар Мамедов был тем не менее исключен из партии вместе с другими руководителями.
19. Ignatieff, Blood and Belonging, p. 14.
20. Интервью с Харченко 4 декабря 2000 г.
21. Из цитировавшейся выше стенограммы заседания Политбюро от 29 февраля 1988 г.
22. По словам главного консерватора в Политбюро Егора Лигачева, тот факт, что сдержанность властей привела к массовому кровопролитию в Сумгаите, послужил оправданием применения силы во время кризиса в грузинской столице Тбилиси в апреле 1989 г. В Тбилиси войска были задействованы почти сразу же после начала демонстраций, и в ходе операции погибли двадцать безоружных людей.
23. Angus Roxburgh, "Gorbachev in Desperate Dash to Resolve Armenian Crisis", The Sunday Times, 6 March 1988.
24. The Caucasian Knot, p. 150.
25. "Теперь я знаю, что чувствовали евреи Германии в 1938 году" – "Круг", Тель-Авив, 23 июля 1989 г., перепечатано в кн.: "Нагорный Карабах глазами независимых наблюдателей", стр. 93-96. Армянский источник цитирует передачу Бакинского радио от 27 февраля 1993 г., в которой говорилось, что комиссия по расследованию сумгаитских событий посмертно возвеличила Ахмедова, назвав его "героем". Арутюнян, "События", том V, 30.
26. Эти версии принадлежат, соответственно, Людмиле Арутюнян, Исе Гамбару и Александру Яковлеву. Яковлев, который как член Политбюро должен был быть хорошо информирован, сказал, что у него нет твердых доказательств, и поведал о том, как КГБ организовал вильнюсские события 1991 года. Представляется, что он соединил оба этих события и интерпретировал события 1988 года в свете того, что произошло в 1991 году.
27. Цит. по еженедельнику Академии Наук Азербайджанской ССР "Элм" от 13 мая 1989 г.; перепечатано в кн.: The Caucasian Knot, p. 188-189. Следует отметить, что статья была настолько одиозной, что армяне перепечатали ее в своих целях.
28. Я встретился с Имановым в Баку в июне 2000 г. и посмотрел его фильмы, ошибочно полагая, что это объективная документальная хроника. Иманов фактически обвинил меня в том, что я шпион. Поэтому я решил не использовать материалы из его фильмов.
29. Данные приведены в отчетном докладе Секретариата Центрального Комитета от 11 июня 1988 г. Russian Archives Project, фонд 89, рол. 1003, 89/33/11.
30. Муслимзаде в настоящее время – успешный бизнесмен. Он отказался от интервью, сославшись на нежелание "возвращаться в прошлое".
31. 10 мая 1988 года Сумгаитский горком партии осудил руководство и рабочих азербайджанского трубопрокатного завода за то, что "в течение всех дней сложной ситуации, в цехах завода осуществлялось производство топоров, ножей и прочих предметов, которые могли быть использованы хулиганствующими элементами". Сообщение в газете: "Коммунист Сумгаита" от 13 мая 1988 г. Перепечатано в кн. "Сумгаитская трагедия в свидетельствах очевидцев".
32. См. Anatol Lieven, The Baltic Revolution (New Haven: Yale University Press, 1994), p. 188-201.
33. Canetti, Crowds and Power, pp. 55-56.
34. Интервью с Гукасяном 7 октября 2000 г.
Глава 3. Шуша. Рассказ о соседях
Альберт и Лариса Хачатурян пьют чай в своем саду среди склонившихся к земле цветов и смотрят на развалины старой школы. Они похожи на людей, спасшихся после землетрясения (1).
Дом Хачатурянов в верхней части Шуши – одно из немногих уцелевших зданий в этом городе. Гуляя в тени яблонь и дубов, которыми засажены улицы этого некогда процветающего города, я проходил мимо обгоревших каркасов пустующих старых особняков с балконами. Шуша (армяне называют ее Шуши), расположенная над ущельем высоко в горах в центральной части Карабаха, когда-то была одним из крупнейших кавказских городов и славилась своими театрами, мечетями и церквами. Теперь в разрушенном почти полностью городе живет лишь горстка людей; вдоль опустевших улиц стоят разоренные дома. И разрушения эти принесло с собой не землетрясение, они – дело рук человеческих.
Хачатуряны – из немногих оставшихся в Шуше коренных жителей. Это было небольшое армянское меньшинство в преимущественно азербайджанском городе. В феврале 1988 года, когда карабахские армяне начали кампанию протеста, шушинские азербайджанцы испугались. "Никто не спал," – вспоминал Захид Абасов, работавший тогда в горисполкоме. Шушинские армяне, такие, как Лариса и Альберт Хачатуряны, испугались вдвойне. Они были учителями, и при советском режиме им жилось довольно неплохо. У них было много друзей и коллег-азербайджанцев.
Но в 1988 году Хачатуряны вдруг оказались членами особенно уязвимой социальной группы: говоря точнее, они были армянами, живущими в азербайджанском городе, расположенном в преимущественно армянской области на территории Азербайджана. От кого им можно было ждать защиты? Их история – да и история Шуши в целом – это рассказ о том, как советские соседи сначала стали бояться друг друга, а затем и воевать друг с другом.
Шуша не знала социально-экономических проблем Сумгаита. И поначалу между обеими этническими общинами города не было вражды. Но сумгаитские погромы февраля 1988 года немедленно привели к росту напряженности, которая стала быстро нарастать, когда в Нагорный Карабах начали прибывать беженцы – сначала армяне из Сумгаита, а затем азербайджанцы из Армении.
В Шуше пламя вражды разгоралось медленнее, – возможно, в силу годами укреплявшегося взаимного доверия. Взрыв произошел в сентябре 1988 года, когда все армяне в считанные дни были изгнаны из Шуши, а все азербайджанцы – из Степанакерта. В разговоре со мной Альберт вспоминал тот день, когда он вернулся домой и застал толпу, топчущую его сад и крушащую имущество:
"Мы думали, что все решится мирно. Было очень трудно, потому что Шуша город небольшой. Мы все друг друга знаем, мы все приятели, мы ходили друг к другу на свадьбы и похороны. Я вхожу и вижу, как портной Гусейн крушит мою веранду. Я спрашиваю: "Гусейн, что ты делаешь?" А я ведь устроил в партию его зятя. Он, не сказав ни слова, развернулся и ушел".
С конца 1988 до начала 1992 года, уже после того, как армяне покинули город, Шуша оставалась непокорным азербайджанским форпостом в самом сердце Нагорного Карабаха, оказавшегося под контролем армян. Когда в 1992 году, уже после развала Советского Союза, в регионе развернулись полномасштабные боевые действия, армянские войска в конце концов овладели Шушой. Шушинские армяне, подобно Хачатурянам, вернулись в город, который вновь стал их родным домом – хотя и полностью разоренным.
Когда Хачатуряны пьют чай в своем саду, им видно разрушенное здание, в котором оба проработали много лет. Неоклассическое реальное училище, Realschule, являет собой печальное зрелище. В этом трехэтажном здании, построенном в 1906 году, когда-то училось четыреста детей, ее заканчивали все отпрыски местной буржуазии, а выпускники уезжали в Москву и Санкт-Петербург учиться в университетах. Сегодня величественный фасад школы с тремя рядами выжженных окон похож на пустой блок таблеток с выдавленными ячейками. Когда мы вошли в здание, в глаза бросилась сохранившаяся на мраморном полу у входа надпись: латинское приветствие "Salve". Полукруглая лестница из розового мрамора вела наверх, к засыпанным щебенкой лестничным площадкам и коридорам, где сквозь каменные плиты пола пробивалась трава.
Чтобы воссоздать историю Шуши, мне пришлось ездить туда и обратно между самим городом в контролируемом армянами Карабахе и Шушой в изгнании – азербайджанской общине города, нашедшей пристанище в других городах Азербайджана. Две части древнего города оказались насильственно разлучены, – сначала боями, а потом линией прекращения огня.
Я начал свое исследование на каспийском побережье Азербайджана, в санатории, на ступеньках которого большими белыми буквами было выведено слово "ШУША". Между окнами были протянуты длинные веревки, на которых сушилось белье. В 1992 году тысячи шушинских азербайджанцев были выброшены войной в этот старый приморский курорт, расположенный к северу от Баку в засушливой песчаной местности. Лишь несколько высоких сосен напоминают им родные карабахские леса.
Семья Джафаровых живет в темной комнате с грудой подушек и одеял. Они рассказали мне, что их сын Чингиз был убит армянами 8 мая 1992 года во время штурма Шуши. Когда я спросил у них о жизни в советское время, то услышал слова, которые слышал десятки раз от людей с обеих сторон: "Мы раньше с армянами жили нормально". Разрушительный вирус ненависти проник в их души извне, а не зародился внутри.
Лучший друг Чингиза Заур – приятный мужчина с густыми усами и фигурой регбиста – вошел в комнату Джафаровых хромая и опираясь на палку. Он рассказал, что весной 1992 года служил в милиции и в числе других азербайджанцев защищал город. За шесть недель до решающего штурма Шуши армянскими войсками, рядом с ним разорвался снаряд "Града", и ему осколками изувечило ноги. Зауру ампутировали левую ногу, и, прежде чем встать с больничной койки, он перенес двадцать две операции. У него нет постоянной работы, и большую часть времени он проводит в переполненном санатории. "Приближается лето, и месяца через три-четыре мы будем умирать от жары. Мы же горцы, мы не привыкли к такой жаре. Вот когда мы начинаем сильно тосковать по родным местам".
У Заура когда-то было два близких друга-армянина. Они выросли вместе на одной улице, которая бежит вниз от мечети. Они вместе играли в волейбол и футбол, помогали друг другу покупать вещи на черном рынке. Когда Заур пошел в армию, один из его армянских друзей заплатил за его стрижку в парикмахерской, в знак пожелания ему удачи. "Я все время боялся увидеть Вигена или Сурика в прицел моего автомата. Я даже видел кошмары по ночам", – вспоминает он.
Заур ввел меня в круг шушинских азербайджанцев в изгнании. Известие о том, что я собираюсь совершить поездку в их родной город, взволновало их. Среди моих новых знакомых оказался адвокат Юсиф. Ему было лет тридцать-сорок, и во всем его облике: тихом голосе, тонких черных усах, грустных глазах, – ощущалась какая-то чеховская печаль. Он был более замкнутым и ожесточившимся, чем Заур. Юсиф признался, что только совсем недавно нарушил данный им обет не жениться до тех пор, пока его город не будет освобожден от армян. Юсиф просил меня узнать, что сталось с его домом. На клочке бумаги он нарисовал план и подробно объяснил, как найти его дом в городе.
Весной 2000 года в полуразрушенной Шуше проживало менее трех тысяч человек – примерно одна десятая часть его прежнего населения. Большинство составляли неимущие армянские беженцы из Азербайджана. Возле облицованного мрамором источника в очереди за водой стояли люди с ведрами в руках. Среди них было лишь два местных старожила, которые знали город.
Я подумал, что, скорее всего, друзей Заура в городе не осталось. Однако вскоре меня подвели к четырехэтажному дому рядом с церковью, где представили коренастому мужчине с густыми усами и большими черными глазами. Это был друг Заура Виген. Пока я объяснял цель своего появления, его жена приготовила нам кофе.
Поначалу Виген был озадачен, но потом очень обрадовался, узнав, что я принес ему привет от Заура, с которым он не виделся уже десять лет. "Как там его семья? – спросил Виген. – У него, кажется, отец умер". Война на мгновение была забыта, поскольку его интересовали новости и сплетни о старой Шуше, но я не мог сообщить ему ничего особенного. Он уже знал, что его старый друг потерял ногу: "Я воевал в районе Мартакерта", – сказал Виген. Я услышал по рации голос одного знакомого из Шуши. Я настроился на их частоту, мы разговорились, и он рассказал, что Заура ранили". Шушинский "уличный телеграф" заработал через линию фронта. Некоторые "враги" по-прежнему оставались друзьями.
Я рассказал ему, как Заур боялся увидеть в прицел своей винтовки лицо друга, и Виген с улыбкой заметил: "И я боялся того же". Будущее он оценивал достаточно трезво. Ведь он все-таки тоже прошел войну и теперь работал на правительство сепаратистского квази-государства в Нагорном Карабахе. Смогут ли шушинские азербайджанцы вернуться в город? Кивнув в сторону своего шестилетнего сына, Виген сказал: "Думаю, его поколение успеет повзрослеть, прежде чем такое случится".
Мое следующее задание представлялось более сложным. У меня было мало надежды найти в разрушенном городе дом Юсифа. И тем не менее, через несколько дней я вместе с двумя приятелями-журналистами отправился на поиски. Мы разыскали бывшего соседа Юсифа, который вспомнил его и проводил нас к четырехэтажному жилому дому. Почти все квартиры в доме были сожжены, но в пяти-шести жили люди. Квартира 28, где раньше жил Юсиф, оказалась среди уцелевших. С балкона второго этажа (наверно, это был его балкон) смотрела темноволосая армянка.
Ее звали Ануш. Она позвала нас наверх. Извиняясь, мы стали объяснять причину нашего прихода. Наш неожиданный визит ее сильно взволновал – что неудивительно – но она все равно пригласила нас войти. Ануш работала учительницей, ей было столько же лет, сколько и Юсифу – чуть за тридцать. Пока мы, сидя на диване, слушали рассказ Ануш о том, каким образом она оказалась в этой квартире, ее дочка сварила нам кофе. Это была еще одна история жизни, исковерканной войной. Шуша еще горела, когда она приехала сюда 10 мая 1992 года, то есть меньше, чем через двое суток после того, как Юсиф с отцом покинули город.
Новые власти Карабаха убеждали людей, оставшихся без крыши над головой, перебираться в Шушу, и надо было действовать быстро, потому что мародеры могли спалить весь город. Ануш была идеальным кандидатом на получение нового жилья: три месяца назад она лишилась квартиры в Степанакерте, когда в ее дом попал снаряд "Града", выпущенный из Шуши, а перед этим ее дом в родной деревне был сожжен во время наступления азербайджанцев. Вот она и заняла квартиру номер 28, которая стала ее единственным домом. "Дверь была не заперта, все вещи вынесены", – объяснила она. Мы поспешили успокоить ее, сказав, что пришли вовсе не за тем, чтобы предъявить права прежнего владельца или оспорить ее право здесь жить. Но тяжелый и не имевший ответа вопрос: "Кому принадлежит этот дом?" – все равно повис в воздухе.
Всю стену от пола до потолка в гостиной новой квартиры Ануш занимала огромная фоторепродукция русского осеннего пейзажа. Это была типичная картина, которую можно встретить в миллионах советских квартир: группа серебристых березок с красными и золотыми листьями на фоне северного леса. Ануш обратила наше внимание на оторванный с одной стороны край картины, и рассказала, что им с дочкой пришлось дорисовать краской отсутствующие деревья. Реставрационная работа была проведена так тщательно, что не сразу бросалась в глаза. Ануш нервно улыбалась, как бы давая понять, что это знак ее привязанности к дому.
Фотообои с березками были самым убедительным доказательством того, что мне удалось найти квартиру Юсифа. Вернувшись, я разыскал его в шумной адвокатской конторе в центре Баку и показал несколько снимков, которые я сделал в Шуше. Когда мы дошли до фотографии с березками на стене, он глубоко вздохнул и сказал: "Да, это мой дом". Мы вышли на шумную улицу и продолжали разговаривать, а потом зашли в кафе на Площади Фонтанов, где нам подали кебаб. Постепенно Юсиф стал терять нить разговора, по-видимому, погружаясь в свои мысли. Возможно, я поступил неправильно. Одно дело, когда он, до некоторой степени отвлеченно, говорил о том, что жил в квартире комер 28 в Шуше, и совсем другое – когда он убедился, что его квартира все еще цела, но в ней проживают враги.
Потом Юсиф стал пристально рассматривать другую фотографию, на которой был запечатлен его сад. От многоквартирного шушинского дома к небольшому садику была протянута водопроводная труба. А рядом, в нескольких шагах, тянулись выложенные плиткой дорожки, росли фруктовые деревья и смородиновые кусты, – в общем, это был крохотный зеленый оазис. "Когда мы увидели, откуда проложена труба, мы решили, что этот садик принадлежит хозяевам этой квартиры", – пояснила Ануш. Она выращивала там овощи. А Юсиф в Баку рассказал мне, что этот садик был предметом гордости и радости его отца. "Не знаю, смог бы отец выдержать все это?" – пробормотал он, внимательно разглядывая фотографию своего сада во всем великолепии майского цветения.
В Баку я встретился со многими "шушалылар" – шушинскими изгнанниками. Кроме хромого милиционера Заура и адвоката Юсифа, я познакомился с журналистами Керимом и Хикметом и художником Арифом. Тот факт, что я посетил их родной город, ныне для них недосягаемый, в их глазах придал мне некий особый статус талисмана. Фотографии вновь пробудили в них горечь утраты Шуши, но и открыли двери в потерянный мир воспоминаний, служивший им отдушиной. Они подолгу рассматривали эти фотографии, не упуская ни одной даже самой мелкой детали. "На какой это улице он стоит?" – спрашивал один из них, разглядывая снимок маленького мальчика на углу. Или: "Если посмотреть за мечеть налево, можно увидеть дом Гусейна".
Однажды ветреным июньским днем "шушалылар" повели меня обедать в кафе рядом с озером на окраине Баку. Во время нашего четырехчасового разговора они вновь и вновь возвращались к одной и той же теме – своих армянских друзей-врагов. Керим, который был редактором шушинской газеты, имел хорошее чувство юмора и несколько раз ироничной шуткой разряжал возникавшее напряжение. Заур, одетый в темно-синий блейзер и смахивающий на профессионального регбиста в выходной день, был настроен наиболее миролюбиво. Он с видимым удовольствием рассказывал истории из жизни своих приятелей и отзывался об армянах без всякой неприязни, хотя и не верил в положительный итог мирных переговоров.