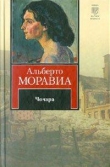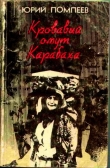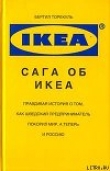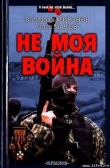Текст книги "Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной"
Автор книги: Томас де Ваал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Смена правящего режима осуществлялась быстро и жестко. Многие наблюдатели полагали, что Алиев действовал вместе с Гусейновым, чтобы сбросить правительство Народного фронта и захватить власть. Однако последующие события доказали, что Гусейнов и Алиев стали союзниками лишь в силу обстоятельств. Второй мятеж в другой части страны свидетельствовует, что был задуман иной сценарий развития событий. Вскоре после мятежа Гусейнова командир Аликрам Гумбатов поднял сепаратистский мятеж в Ленкоранском районе на юге Азербайджана и провозгласил новую "Талыш-Муганскую республику". Гумбатов, заручившись поддержкой бывшего министра обороны Рагима Газиева, присягнул на верность бывшему азербайджанскому президенту Аязу Муталибову. Этот мятеж, почти бескровно подавленный в августе, по-видимому, был, подобно мятежу Гусейнова в Гяндже, составной частью крупной политической интриги.
Можно предположить, что Гусейнов, при поддержке своих друзей среди российских военных, в действительности планировал вернуть к власти Муталибова, но его план был сорван неожиданно возникшим альянсом между Алиевым и азербайджанским парламентом.
Армяне безжалостно воспользовались разразившимся в Баку политическим кризисом, из-за которого карабахский фронт оказался почти беззащитен. Вскоре после мятежа Гусейнова было предпринято наступление на Агдам. 27 июня армяне вновь овладели городом Мардакерт и большей частью территории северного Карабаха, сильно пострадавшей и разоренной в ходе вооруженного конфликта. 23 июля, почти не встречая сопротивления, они заняли имеющий важнейшее стратегическое значение город Агдам. Спустя месяц, армянские войска двинулись на юг и захватили Физули и Джебраил. В конечном итоге за четыре месяца боев, пока в Баку происходила смена власти, азербайджанцы утратили пять районов, а также всю северную часть Нагорного Карабаха. Азербайджан лишился территории общей площадью около 5 тыс. кв. км.
Каждое свое наступление армяне упреждали пропагандистской кампанией, настаивая, что действуют в целях самообороны против хорошо вооруженного противника. В действительности же в большинстве случаев они входили в обезлюдевшие города и деревни уже после того, как азербайджанцы их покидали. Один очевидец язвительно назвал это "военным туризмом". Вспоминает Габиль Ахмедов, житель одной из деревень Физулинского района:
"Наши солдаты не защищали нашу землю. Армяне просто занимали оставленные ими позиции. 18 августа армяне за три или четыре часа продвинулись на двадцать километров. Ленкоранская бригада ничего не делала. Они просто собрали свое оружие, гранатометы и ушли. У нас равнинный район, воевать там легко, но солдаты сразу оставили нашу деревню, а последними ушли мирные жители" (36).
Эта наступательная операция вызвала один из самых массовых в Европе со времен второй мировой войны исход беженцев. Около 350 тысяч человек лишились крова. Томас Гольц стал свидетелем этой человеческой трагедии:
"Издалека их можно было принять за цыганский табор, следующий на местный блошиный рынок или сельскую ярмарку. По дороге громыхали побитые машины с колесами без покрышек, доверху нагруженные коврами, чайниками и кастрюлями. Задыхаясь в клубах выхлопных газов и сгибаясь под тяжестью матрасов и железных кроватей, люди пытались обогнать трактора с кузовными прицепами для перевозки хлопка, в которых среди сваленной в кучу одежды сидели чумазые ребятишки и крякающие утки. Замыкали колонну обычно мужчины, которые или сидели верхом на ослах, или вели в поводу впряженных в повозки мулов, а босоногие пастухи сгоняли на обочину перепуганных овец, коров и бычков, которые норовили попасть под колеса проезжающих мимо грузовиков" (37).
За беженцами по пятам следовали части карабахских армян, которые методично сжигали дома, грабили и брали в плен тех, кто не успел вовремя сбежать. Тысячи беженцев переправились через реку Аракс на территорию Ирана. Многие при этом утонули, не добравшись до спасительного берега.
Примечания
1. Из фильма Цветаны Паскалевой "Дорогие мои, живые и мертвые", 1993, повторно выпущенного в Ереване студией "TS Film" в 1996 г.
2. Интервью с Али 4 апреля 2000 г.
3. Павел Фельгенгауэр. Накануне решающих сражений. – «Независимая газета» 18 июля 1992 г.
4. Интервью с западным дипломатом.
5. Интервью с Кочаряном 25 мая 2000 г.
6. Интервью с Саркисяном 15 декабря 2000 г.
7. Human Rights Watch, Azerbaijan, Seven Years of Conflict, p. 87
8. Интервью с Левоном Эйрамджанцем 28 сентября 2000 г.
9. Отчасти в этом виноваты сами армяне. Армянские политики резко возражали против создания в 1989 г. крупного склада боеприпасов вблизи озера Севан, поэтому склад был размещен недалеко от города Агдам на территории Азербайджана.
10. Интервью с Юнусовой 20 ноября 2000 г.
11 Интервью с Гаджизаде 28 марта 2000 г.
12. Dmitry Danilov, "Russia's search for an international mandate in Transcaucasia" [Россия стремится получить международный мандат в Закавказье] – In: Coppieters, Contested Borders in the Caucasus, note 161.
13. Интервью с Тер-Петросяном 24 мая 2000 г.
14. По оценкам Рохлина, вооружений было поставлено на общую сумму в 720 млн. долл. Цифра 1 млрд. долл. включает также транспортные расходы, стоимость запчастей и горючего. Фельгенгауэр считает, что армяне возместили какую-то часть расходов. В июле 1992 г. Фельгенгауэр также писал, что армянам передали вооружение Ереванской дивизии 4-й армии (см: там же). Наиболее полный анализ распределения вооружений дан в статье: Лев Рохлин. "Спецоперация или коммерческая афера?" – "Независимое военное обозрение", №13, 1997. Рохлин был убит в июле 1988 г., но предположений о том, что это убийство как-то связано с его разоблачениями, не возникало.
15. Интервью с Фельгенгауэром 6 декабря 2000 г.
16. Интервью с Нефталиевым 28 ноября 2000 г.
17. Касатов. "Сама не своя", стр. 1.
18. Интервью с Гаджизаде 15 ноября 2000 г.
19. Армянское телевидение, 1-й канал, Ереван (на армянском языке), 5 марта 2001 г.
20. Интервью с Казимировым 1 декабря 2000 г.
21. Интервью с Зульфугаровым 9 ноября 2000 г.; сообщение информационного агентства "Туран" от 28 сентября 1992 г. Приношу благодарность Лоре Ле Корню за информацию о Сочинской встрече.
22. Интервью с Ованисяном 15 декабря 2000 г.
23. Интервью с Мелконяном 7 мая 2000 г.
24. Интервью с Бояджяном 26 сентября 2000 г.
25. Интервью с Садыковым 6 апреля 2000 г.
26. Агаджанов. Светлая сторона войны, стр. 33.
27. Интервью с Азадом Исазаде, бывшим пресс-секретарем министерства обороны, 21 ноября 2000 г.; интервью с Давидом Петросяном 25 мая 2000 г.
28. Lee Hockstader, "Armenians Winning with Creativity, Aid" [Армяне побеждают благодаря творческому подходу и внешней помощи] – Washington Post, 12 September 1993. Серж Саркисян утверждает, что за годы войны карабахские армяне захватили 156 танков противника.
29. Интервью с Манукяном 3 октября 2000 г.
30. Западный дипломат, встречавшийся с Эльчибеем вскоре после его бегства из Баку в июне 1993 г, вспоминает, что он спросил Эльчибея, почему тот так долго терпел инакомыслие Газиева и Гусейнова. На это Эльчибей ответил, что эти двое были единственные, кто мог с легкостью приобрести у русских оружие.
31. Интервью с Аскеровым 20 ноября 2000 г.
32. Сергей Баблумян. Кельбаджар в огне. – "Известия", 6 апреля 1993 г.
33. Human Rights Watch, Azerbaijan, Seven Years of Conflict, p.16.
34. К примеру, азербайджанцы захватили датированную 1 апреля 1993 г. военную карту, которая принадлежала майору С. О. Барсегяну. Даты на карте указывали на то, что 2 марта Барсегян находился на берегу озера Севан, 27 марта в 16:30 пересек армяно-азербайджанскую границу и направился к Кельбаджару. У Азада Исазаде, бывшего сотрудника азербайджанского министерства обороны, сохранилась копия этой карты. Что касается предполагаемого участия российских военных, то Шамиль Аскеров утверждает, что он видел в небе над Кельбаджаром шесть самолетов, которые могли быть только российскими. Азербайджанское министерство безопасности позднее обнародовало аудиозапись перехваченных радиопереговоров между офицером, говорящем на чистом русском языке, и армянином, говорящим по-русски с сильным акцентом. Все армянские официальные лица категорически отрицали участие российских военнослужащих в боевых действиях.
35. Наиболее подробное и авторитетное описание мятежа Гусейнова содержится в кн. Thomas Goltz, Azerbaijan Diary (pp. 356-392).
36. Интервью с Ахмедовым 19 ноября 2000 г.
37. Goltz, Azerbaijan Diary, p. 399.
Глава 14. Сабирабад. Детская республика
Из большого зала под рифленой железной крышей доносилась музыка: слышались режущие ухо звуки какого-то струнного инструмента, топот ног, переливы аккордеона, барабанная дробь. Посреди зала в такт мелодии скользила шеренга держащихся за руки девочек в розовых и зеленых платьицах. Хореограф хлопнул в ладоши – сидящие в углу музыканты перестали играть, и девочки со смехом вернулись в исходное положение.
Этот танцевальный зал, где царит жизнерадостное веселье, находится в лагере беженцев недалеко от города Сабирабад, на засушливой равнине центрального Азербайджана. Каждый уик-энд просторный двор посреди лагеря преображался, становясь местом необычного проекта. В помещении по соседству с танцевальным классом группа ребятишек разучивала текст оперетты Узеира Гаджибекова, а на пустыре, где сквозь трещины в засохшей грязи кое-где пробивалась трава, проходил футбольный матч. Между занятиями пробегавшие мимо возбужденные дети подходили ко мне поболтать. И хотя я был в лагере беженцев, этот двор показался мне самым обнадеживающим среди всех прочих мест, которые я посетил на Кавказе.
Шестьсот или семьсот детей, живущих в лагере С-1, с радостью согласились стать участниками необычного эксперимента. Несколько лет назад группа азербайджанских педагогов-психологов пришла к выводу, что даже спустя годы после окончания войны в Карабахе, многие дети из семей беженцев все еще не избавились от комплекса страха и тревоги. Старшие все еще не забыли ужасных событий, связанных с изгнанием из домов летом и осенью 1993 года. У младших проблемы другого рода: они уже не помнят своего родного дома, они росли, не имея особых целей в жизни, в атмосфере полного безразличия, царящей в лагерях для беженцев.
Психологи решили, что этим детям, пока они еще не соскользнули в пучину депрессии, нужна срочная помощь. Азад Исазаде, один из психологов-основателей детского лагеря С-1, стал моим гидом. Он сказал мне: "Дети, конечно, не понимают, что происходит, но получившие специальную подготовку учителя наблюдают за ними и распознают их нужды".
Они разработали четыре программы занятий для детей: народные танцы, театр, изобразительное искусство и спортивные игры – и все это своеобразная форма терапии. "Это процесс, – говорит Азад, худощавый мужчина, обладающий пытливым и изобретательным умом. – Так, к примеру, в музыке: сначала им нужно было слушать грустные мелодии, потом нейтральные, а потом веселые. Или возьмем рисование. Мы раздали детям по листу бумаги и попросили нарисовать самый печальный день в их жизни, а потом дали им много бумаги и попросили нарисовать самый радостный день в жизни".
Я убедился, что программа оказывает на детей поразительное действие. Однако жаль, что еще очень много детей-беженцев – не говоря уж об их родителях – в Азербайджане не получают такой же помощи или просто внимания.
Азербайджан, возможно, сейчас единственная в мире страна со столь высокой долей перемещенных лиц на душу населения. В абсолютных цифрах, возможно, их значительно больше в Афганистане или Конго, но в Азербайджане каждый десятый житель был лишен крова в результате карабахской войны. Сначала, в 1988-1989 годах, около 200 тысяч человек бежали из Армении в Азербайджан. Затем, между 1992 и 1994 годами, перемещенными лицами стали все азербайджанцы из Нагорного Карабаха и жители семи районов вокруг Карабаха – более полумиллиона человек. В 2000 году, спустя шесть лет после подписания соглашения о прекращении огня, около 80 или 90 тысяч человек все еще проживали в лагерях для беженцев. Сотни тысяч продолжали обитать в огромном архипелаге, состоящем из домов отдыха, студенческих общежитий и временных квартир. И все они останутся жить в ужасных условиях, при полной неопределенности, до тех пор, пока конфликт не будет урегулирован (1).
Двух основных факторов, необходимых с точки зрения детских психологов для работы программы психологической реабилитации, а именно – много свободного времени и неиспользуемая энергии, – в лагере для беженцев оказалось в избытке: учителя из числа беженцев, музыканты и спортсмены работали бесплатно и постепенно взяли на себя все обязанности педагогов. Позже, летом 1999 года, психологи создали "Детскую республику" с мини-правительством, в котором работали исключительно дети – и в интересах детей. Дети избрали "парламент" в составе 12 членов, который принимал коллективные решения. "Министерство экологии" разбило сад, "министерство информации" выпускало газету, дети из двух лагерей, в которых работали психологи, устраивали конкурсы и соревнования, выезжали на музыкальные и танцевальные фестивали, на которых, к радости своих учителей, они оказывались среди наиболее уверенных в своих силах.
На футбольном поле мальчик в желтых тренировочных штанах криком подбадривал игроков своей команды: "Мы избрали его в парламент, – пояснил Азад, – чтобы направить его агрессию в творческое русло". Он обратил мое внимание на кроссовки, в которые были обуты юные футболисты. Эти кроссовки стали зримым плодом политики "суровой любви", которой могли бы гордиться Тони Блэр и Билл Клинтон. "Мы не покупаем детям подарки, – сказал Азад. – Они должны добиться каких-то достижений. Дети получают спортивную обувь только в том случае, если они участвуют в соревнованиях". Но такая политика создавала свои проблемы. Родители, привыкшие к бесплатной раздаче гуманитарной помощи, ожидали получить кроссовки в подарок, и те, чьи дети не принимали участие в субботних и воскресных занятиях, были вынуждены уйти ни с чем.
Работа в детском лагере изменила и жизнь педагогов. Во время войны Азад работал в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, но после перемирия 1994 года вернулся к своей прежней профессии, клинической психологии. Я спросил, что заставляет его на протяжении последних четырех лет каждую субботу приезжать сюда, в Сабирабад, находящийся в четырех часах езды на машине от Баку. Ответ, который я услышал от него, человека, привыкшего видеть в обществе цинизм, был впечатляющим: "Я чувствую свою ответственность за этих людей. Я же не смог их защитить".
В лагерях беженцев, развернутых в этом районе, проживают более 20 тысяч человек. В основном это жители Физулинского, Джебраильского и Зангеланского районов, завоеванных армянами летом и осенью 1993 года. "Хорошо, что это случилось летом, – сказал мне Наги Тадыров, чиновник, ответственный за беженцев. – Зимой все было бы гораздо хуже. Некоторые даже забыли свои документы. Жители Джебраила и Зангелана перебрались через реку Аракс в Иран".
Жизнь в лагере С-1 трудная и скучная. Лагерь стоит на месте бывшего хлопкового поля, там, где встречаются течения двух серых, мелководных рек – Аракса и Куры. Зимой поле превращается в море грязи, а летом покрывается иссохшей и растрескавшейся под палящими лучами солнца коркой. Мы приехали сюда в самый благодатный сезон – ранней весной. Такое было впечатление, что тут разбили лагерь участники великого библейского исхода. На солнце подсыхали слепленные из глины и соломы кирпичи. Самодельные домики были возведены из всего, что попадалось под руку: соломы, глины и даже целлофана. Азад обратил мое внимание на трактор, сонно глядевший куда-то вниз с глинистой кучи. "Аккумулятор сел – вот он и стоит теперь без движения. Нет денег на покупку даже самых простых вещей".
Мы подошли к низкой хибарке, крытой рифленым железом. Перед хибаркой на лавочке сидела Зохра с мужем. Они пригласили нас присесть. На Зохре было зеленое домашнее платье, стоптанные туфли, на голове – цветастый платок Они постарались придать своему дому более или менее жилой вид. Дверные панели были сделаны из жестянок из-под растительного масла с надписями "FINAL". В саду росли одна или две чахлые розы. Зохра с мужем мучаются от безделья. От голодной смерти их спасает только гуманитарная помощь, но работы у них нет. Все тут получают одинаковую пенсию или зарплату – 25 тысяч манатов в месяц, что составляет около пяти долларов. Помимо этого они получают гуманитарную продовольственную помощь: пять кило муки, кило семян, кило гороха и литр растительного масла.
Зохра говорит, что в Зангеланском районе у них был двухэтажный дом с садом, где росли тутовые деревья. Армяне пришли в октябре 1993 года. "Мы спаслись, переправившись через Аракс. Нам удалось забрать с собой тридцать человек соседей, – она указала на стоящий в дальнем конце двора грузовик. – Мы взяли с собой только матрасы. Наши бойцы продержались три дня, а потом тоже сбежали".
Мое появление вызвало некоторый интерес. Кое-кто из соседей Зохры подошел к заборчику, чтобы поглядеть на меня и поделиться своими мыслями. Армяне, говорили они, "вели себя хуже фашистов, сжигали все на своем пути, отрезали людям носы и уши". Как объяснил мне мужчина в серой кепке-"аэродромке", проблема восходит ко временам Петра Первого и империалистических замыслов России в отношении Кавказа. А Горбачев был армянским агентом, который просто продолжил дело русских царей. "Как вы тут живете теперь?" -спросил я. "Как?– горько рассмеялся он. – Как овцы!"
У этих людей было много времени. Они могли вести беседы круглые сутки, но едва ли понимали, какую судьбу готовят им политики и участники международных мирных переговоров. Они жаловались на "сатгынлык" – что по-азербайджански значит "продажность". Никто не защитил их от армян в 1993 году, – говорили они – и никого теперь не заботила их судьба. "Богатые в Баку разъезжают на "мерседесах", -заявил один мужчина. – О войне они не думают. Все бремя войны упало на нас". Я спросил Зохру, кто, по ее мнению, сможет изменить их жизнь к лучшему. "Только Аллах", – ответила женщина.
Парадокс в том, что руководство Азербайджан при любом удобном случае поднимает вопрос о беженцах, при этом постоянно твердит о "миллионе беженцев" в стране. Однако предпринимаемые на протяжении нескольких лет правительством меры носят лишь кратковременный характер. До сих пор нет государственной программы трудоустройства или профессионального обучения беженцев. В итоге многие встали на путь преступления или занялись контрабандой – или же опустили руки, и теперь полагаются лишь на скудную гуманитарную помощь.
Бывший работник по оказанию помощи рассказал мне, какое недовольство у правительственных чиновников вызвали его предложения по вовлечению беженцев в местное хозяйство. Подтекст был такой: в этом случае они перестанут быть беженцами и объектом сострадания, а правительству, возможно, выгоднее иметь их как символ страданий Азербайджана, а не как людей с реальными проблемами.
Тем временем международные агентства по предоставлению гуманитарной помощи переключили свое внимание на другие проблемы. "Несколько лет назад у меня отбоя не было от журналистов, – вспоминает Вугар Абдусалимов, сотрудник пресс-службы бакинского представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. – А теперь хорошо, если зайдут один или два. И потом у нас всегда трудности, стоит только где-то возникнуть новому кризису с беженцами – как, например, в Конго или Косово. В 2001 году, когда планировалось распространить опыт "Детской республики" на другие лагеря, финансирование проекта бакинских психологов сократилось, и программу пришлось сворачивать.
"Я оставил все свои книги, – сказал Габиль Ахмедов. – А некоторые произведения теперь просто не найти, например, Фенимора Купера. Мне очень нравился его "Последний из могикан".
Чтобы пережить унизительное изгнание из родного дома, требуется недюжинная сила характера. В лагере С-3 в окрестностях Саатлы я встретил человека, обладающего такой силой. Я искал кого-нибудь, кто мог бы сказать мне нечто, не похожее на те стандартные ответы и чужие мысли, которых я наслушался от других. Учитель азербайджанского языка и литературы Габиль имел собственное мнение. Ему, высокому мужчине с угольно-черными бровями и щетинистым подбородком, было тесно в хижине из тростника и валунов, в которой он обитал вместе с женой.
Габиль снаружи утеплил стены старыми газетами, одеялами и мешками. Все пространство "гостиной" занимали керосиновая печурка, ковер, телевизор, на котором лежал венок из искусственных роз, и книжный шкаф. Жена Габиля Аджият, обрадовавшись появлению в доме гостя, пожарила нам яичницу и принесла блюдо с сухофруктами. Они приехали сюда из поселка Юхары-Абдурахманлы Физулинского района, расположенного в предгорьях южнее Нагорного Карабаха. По словам Габиля, из окон их двухэтажного дома на холме открывался вид на двадцать километров: "А здесь такое ощущение, что живешь в колодце или в яме. Ничего вокруг не видно". Он тосковал по своему саду, где росли гранаты, айва, орехи, вишни, яблоки и шелковица. "Когда мой старший сын женился, он заснял на видеопленку наш дом и сад, – вспоминал Габил. – Моя семья видела этот фильм три или четыре раза. А я не могу смотреть, потому что я своими руками построил этот дом и вырастил этот сад".
Жизнь Габиля омрачена двумя войнами. В Великую Отечественную его отец воевал в Крыму, где пропал без вести. Его мать была вынуждена одна растить четверых сыновей в ужасающей нищете. В семье вечно не хватало хлеба, и им приходилось воровать колоски с полей. У детей не было обуви, и они ходили в школу босыми. Габиль вспомнил, как люди носили одежду, сшитую из марли. "Тогда еще хуже было", – вздохнул он.
После войны Габиль и его братья добросовестно отучились и устроились на хорошую работу. Он сам стал школьным учителем и уже собирался выйти на пенсию, когда началась война из-за Нагорного Карабаха. Они быстро лишились всего, что сумели заработать за всю свою жизнь. В середине августа 1993 года, в условиях наступившего в Азербайджане политической хаоса, когда второй президент страны Абульфаз Эльчибей ушел со своего поста, а Гейдар Алиев еще не стал президентом, армянские войска в результате молниеносного наступления вторглись в Физулинский район. Азербайджанская армия просто бросила Юхары-Абдурахманлы, и многие жители поселка не успели убежать. Армянские солдаты, сказал Габиль, хладнокровно убили двенадцать ни в чем не повинных сельчан и сожгли поселок. "Через месяц один наш сосед вернулся после обмена пленными, – продолжал он, – и рассказал, что весь поселок сожгли. Уцелело только три дома".
Я спросил его о будущем. "Мне уже 66. Как же мне не печалиться, если я не знаю, что с нами будет дальше!" – хриплым басом сказал он, скорее с обреченностью, чем с отчаяньем. Он твердо повторял, что не испытывает к армянам злобы – разве что глубокое сожаление. У него, школьного учителя, было немало коллег-армян. "Многие годы мы жили с армянами душа в душу", – сказал Габиль, который много ездил по Нагорному Карабаху и имел немало друзей в Степанакерте. И, поразмыслив, добавил: "Это все ужасно, просто ужасно. Мне стыдно – и за них и за нас".
Изменения на карте военных действий в Нагорном Карабахе навсегда меняли судьбы людей. Поздним летом 1993 года, армяне взяли Физулинский район. В январе 1994 года азербайджанцы развернули контрнаступление и отбили две трети территории района. К несчастью для Габиля, наступление выдохлось буквально за несколько километров до его родной деревни, и его дом так и остался за линией фронта, у армян.
Спустя несколько дней после встречи с Габилем я побывал в отвоеванных местностях Физулинского района. По ним можно судить о том. с какими огромными проблемами столкнется Азербайджан, если ему суждено будет когда-нибудь вернуть себе все "оккупированные территории". За три месяца оккупации армяне превратили весь этот регион в пустыню. Равнинный пейзаж, испещренный руинами, напоминал поле боя времен Первой мировой войны. То там, то здесь на глаза попадались по-средиземноморски яркие пятна восстановленных домов, выкрашенных на манер итальянских вилл розовой краской. Используя деньги Всемирного банка и ООН, азербайджанцы отстроили разрушенные дома, но создавалось впечатление, что восстановительные работы только начинаются.
Железнодорожный разъезд в Горадизе был уничтожен. Уцелевшему составу некуда было ехать по рельсам, тянувшимся на запад, в сторону Нахичевани и Армении. Азербайджанская районная администрация разместила своих сотрудников в здании бывшего управления мелиорации. "Всюду были проблемы, – вспоминал Магеррам Назаров, вернувшийся сюда в 1994 году – Все было сожжено. В домах не было ни дверей, ни крыш. Кушать тоже было нечего". По его мнению, люди вернулись сюда слишком быстро. Работы для них не было, и несколько человек подорвались на минах – так что большинство были вынуждены возвратиться в лагеря беженцев. "Это было жизненным уроком, – сказал Назаров, – если мы освободим другие территории, мы постараемся не дать населению вернуться, пока не будут созданы нормальные условия".
Как рассказали мне в Баку, с 1996 года было восстановлено в общей сложности около полутора тысяч домов, на что ушло около 6 миллионов долларов, причем размах коррупции был настолько велик, что часть денег вообще не дошла до Физулинского района. А ведь это лишь малая доля той огромной территории площадью 7 тысяч квадратных километров которую захватили армяне. Для Габиля и его товарищей по несчастью это был дурной знак. Даже если после заключения мирного соглашения они смогут вернуться в свои дома, на этом их мытарства не закончатся.
В двух километрах от линии фронта чета стариков сидела перед своим кое-как сколоченным домиком, в окружении коробок от гуманитарной помощи. Пустые желтые и белые мешки из-под риса и муки из Дубаи, Таиланда и Соединенных Штатов покрывали стены их недавно отремонтированного дома. Из садика доносилась какофония собачьего лая и куриного кудахтанья.
Курбан и Сайят Абиловы, прежде чем вернуться сюда, провели два года в лагерях Саатлы. Они рассказали, что все их восемь детей теперь живут в Баку. Старики едва сводили концы с концами – но с куда большим оптимизмом относились к своему положению, чем многие в лагерях беженцев. Старуха вскочила и побежала отгонять бычка от дерева, по пути шуганув цыплят с крыльца, а ее муж продолжал сыпать шутками и все рассказывал, рассказывалї Казалось, у этих стариков был один бесценный ресурс – и это их роднило с ребятишками из "Детской республики" в Сабирабаде – вера в будущее. Сотни тысяч бездомных азербайджанцев скорее склонны перепоручать заботу о своем будущем воле Всевышнего.
Примечания
1. Данные о перемещенных лицах см. в Приложении 1. В этой главе я употребляю общий термин "беженцы" для обозначения лиц, которые в строгом смысле являются "вынужденными переселенцами" или "перемещенными лицами", так как они были изгнаны из своих домов, но остались в своей стране.