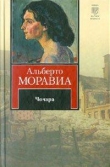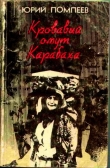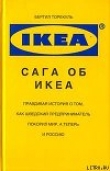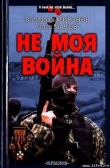Текст книги "Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной"
Автор книги: Томас де Ваал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
Глава 9. Противоречия. Сюжет двадцатого века
На границе между Советской Арменией и Азербайджаном, между городами Иджеван и Казах, к югу от Грузии, некогда стояла скульптура в виде дерева. На самой его верхушке расцвел гигантский цветок, чьи лепестки символизировали дружбу трех братских республик Советского Закавказья.
В советскую эпоху никто, наверное, не обращал особого внимания на этот экзотический древоцвет, но разве лишь потому, что, по-видимому, для большинства людей его смысл был очевиден. Большинство жителей Кавказа сегодня говорят, что вплоть до конца 1980-х годов они жили в дружбе с соседями всех национальностей и считали себя лояльными советскими гражданами. В течение семи десятилетий почти не было случаев массового насилия между армянами и азербайджанцами. Они жили бок о бок и торговали друг с другом. Межнациональные браки не были редкостью.
Тем не менее, распря между армянами и азербайджанцами в 1988 оказалась чем-то большим, чем просто непонимание. Это был глубокий раздор, который расколол оба народа и сыграл важную роль в распаде Советского Союза. Но почему и каким образом мирное сосуществование двух народов внезапно обернулось конфликтом?
Возможный ответ на этот важнейший и тревожный вопрос следует начать с того, что хотя между армянами и азербайджанцами раньше существовали и добрососедские отношения, и торговля, и межнациональные браки, между ними, как ни удивительно, практически отсутствовал живой диалог. Если послушать лидеров обеих сторон, рассуждающих об источниках армяно-азербайджанского конфликта, то становится ясно, что это две разные повести, герметически запечатанные и не имеющие между собой почти ничего общего.
Многие азербайджанцы, к примеру, в принципе отвергают идею наличия некоего "карабахского вопроса". Они говорят, что стали жертвой опасной армянской идеологии, которая почти никакого отношения не имела к Нагорному Карабаху как таковому. Азербайджанский оппозиционный деятель Иса Гамбар, к примеру, утверждает, что события февраля 1988 года в Карабахе стали проявлением ирредентистского движения, импортированного из Армении, и его можно было бы подавить путем своевременных действий бакинского руководства:
"Инициатива принадлежала армянской стороне. Они начали выдвигать территориальные претензии к Азербайджану. Они стояли за вспышкой сепаратистского движения в Нагорном Карабахе. Так что нет сомнений, что вся ответственность в этом вопросе лежит на армянских ультранационалистах. В то же самое время мы считаем, что тогдашнее руководство Азербайджана несет свою долю ответственности в том смысле, что оно не заняло более жесткую и решительную позицию -ведь тогда эту проблему можно было разрешить в течение первых нескольких дней" (1).
Армянский лидер Роберт Кочарян предлагает совершенно иные аргументы полагая, что конфликт в Карабахе был исторически неизбежен: "В 1917 году произошла революция. Когда центральная власть в [царской] России перестала существовать, эта проблема встала с предельной остротой. Три года шла война, и в итоге советские войска насильно присоединили Карабах к Азербайджану. Так что эта проблема была всегда, и было совершенно очевидно, что как только центральная власть ослабеет или исчезнет вовсе, случится то, что мы имеем сейчас. Это было совершенно очевидно для всех карабахских армян. В этом ни у кого не возникало сомнения – и мне кажется, что это было также очевидно и для самих азербайджанцев" (2).
Противоречащие друг другу взгляды на недавнюю историю показывают, как в советскую эпоху Армения и Азербайджан двигались разными политическими, экономическими и культурными курсами, которые редко пересекались. Это выросло во взаимное неуважение и страх.
Спор двадцатого века
Пытаясь выявить корни карабахского конфликта, мы должны, прежде всего, отвергнуть идею, что это был "извечный конфликт". Как по форме, так и по содержанию армяно-азербайджанские разногласия возникли чуть более ста лет назад. Нагорный Карабах, ставший яблоком раздора и причиной войн в 1905 и 1918-1920 годах, был передан Азербайджану в 1921 году, а его нынешние границы были окончательно установлены в 1923 году. Как заметили два американских историка, "можно сказать, что причины нынешнего конфликта скрыты в туманах двадцатого столетия" (3).
Идеологический контекст спора имеет вполне современный характер. Националистическая идеология – убеждение, что тот или иной этнос обладает исконным правом государственности на определенной территории – не играла сколько-нибудь существенной роли в регионе вплоть до конца девятнадцатого века. Так что нижеследующее описание затрагивает уже историю века двадцатого.
Корни этого спора восходят к тому периоду, когда Оттоманская и Российская империи находились в стадии умирания, а армяне и азербайджанцы открыли для себя идею национального самоопределения. Армян вдохновил пример движений за независимость на Балканах и в Восточной Европе. Ведущая националистическая партия в Армении, Армянская Революционная Федерация, больше известная под названием "Дашнакцутюн" (или "дашнаки"), была основана лишь в 1890 году. В то же самое время азербайджанцы, обратив свой взор на "тюркских братьев", начали укреплять связи с Турцией и встали на путь вооруженной борьбы за отделение от России.
Катастрофа 1915 года изменила и ускорила этот процесс. Крах Оттоманской империи и массовая резня армянского населения положили конец вековому проживанию армян в Турции и превратили российскую Армению в страну беженцев. Затем, с падением Российской империи в 1917 году, народы Кавказа неожиданно обрели независимость. В мае 1918 года три больших нации Кавказа образовали независимые государства. Наибольшую выгоду от независимости получила Грузия, потому что ни армяне, ни азербайджанцы не обладали всей полнотой власти в своих государствах. 28 мая Азербайджан провозгласил независимость с временной столицей в Гяндже, так как Баку все еще находился под властью большевистской Коммуны. Армяне объявили о своей независимости в тот же день и сделали это, с большой неохотой, в грузинской столице Тифлисе. Они только что остановили войска турок в битве при Сардарабаде и должны были через несколько дней подписать унизительный мирный договор.
Два националистических режима во главе с партиями Дашнакцутюн в Армении и Мусават в Азербайджане, взявших в 1918 году власть, заспорили о том, где пройдут границы между двумя государствами. Камнем преткновения стали три области с этнически смешанным населением: на карте они выстроились друг за другом с запада на восток, подобно опирающимся друг на друга костяшкам домино, – Нахичевань, Зангезур и Карабах. Азербайджану удалось при поддержке Турции взять под свой полный контроль самую западную область, Нахичевань, изгнав оттуда тысячи армян. В Зангезуре, расположенном восточнее, за горным массивом, беспощадный командир армянских партизанских отрядов Андраник смерчем пронесся по всему региону, сжигая азербайджанские деревни и изгоняя жителей. Ситуация в горах Карабаха была более сложной: местная ассамблея карабахских армян предприняла попытку провозгласить независимость, но у нее почти не было связи с находящейся по другую сторону гор Республикой Армения.
Когда в ноябре закончилась Первая мировая война, Турция капитулировала перед Антантой и вывела свои войска из Азербайджана. В республику вошли войска Великобритании, и Азербайджан провел первый год в качестве независимого государства под британским мандатом. Заинтересованные в Азербайджане как оплоте против большевиков и источнике нефти, англичане предприняли вялые попытки разрешить территориальный спор. В декабре в Шуше была учреждена британская миссия, просуществовавшая там восемь месяцев (где-то за городской стеной похоронены два британских солдата – ланкаширский пехотинец и патан с северо-западной границы).
Генерал Уильям Томсон, возглавлявший экспедиционный корпус, назначил в Карабахе крайне непопулярного среди армян губернатора-азербайджанца доктора Хосров-бека Султанова и уговорил командира армянских партизанских отрядов Андраника вернуться в Армению. Томсон говорил, что это лишь временная договоренность, и все оставшиеся вопросы будут разрешены на предстоящей Парижской мирной конференции (4).
Но Парижская мирная конференция так и не разрешила спор о границах. Англичане ушли из Азербайджана в августе 1919 года, оставив после себя обманутые ожидания и неурегулированные раздоры. В Карабахе вековая дилемма – сотрудничество или конфронтация? – стала причиной раскола армянской общины. Одни – в основном это были дашнаки и жители сельских районов – хотели воссоединения с Арменией. Другие – в основном большевики, торговцы и ремесленники – по словам армянского историка Ричарда Ованнисяна, "считали, что экономически область связана с западным Закавказьем, и искали возможности примирения с правительством Азербайджана, видя в этом единственный путь спасения Нагорного Карабаха от полной разрухи". Эта группа главным образом концентрировалась в Шуше, однако сторонники обеих групп были убиты или изгнаны в ходе жестокого подавления армянского мятежа в марте 1920 года, когда погибли сотни шушинских армян. Британский журналист С. И. Беххофер, путешествуя по Армении в апреле 1920 года, был потрясен картиной хаоса, экстремизма и насилия:
"Невозможно убедить партию ярых националистов, что два минуса не дают в сумме плюс. Соответственно, ни дня не проходило без того, чтобы обе стороны, армяне и татары, не выставляли друг другу целые списки взаимных обвинений – в неспровоцированных нападениях, убийствах, поджогах деревень и тому подобного. Налицо был порочный круг: каждое новое нападение татар или армян вызывало ответное нападение. Побуждаемые страхом, оба лагеря шли на все новые эксцессы. Дашнаки оставались у власти благодаря сложившейся ситуации, а ситуация была именно такой не в малой степени из-за того, что у власти были дашнаки" (5).
Предложенное Беххофером решение получило неожиданный резонанс восемьдесят лет спустя: он был убежден, что единственный способ разрубить узел состоит в том, чтобы всеми были признаны границы Армении и чтобы состоялся взаимный переход армян и азербайджанцев через новую границу – как это и случилось в 1988-1990 годах. Однако вскоре после поездки Бехховера в регион вновь вернулась старая имперская власть – Россия, надевшая новую военную форму. Большевики захватили Баку и свергли мусаватистское правительство. В мае 1920 года XI Красная Армия вошла в Карабах, и спустя полгода захватила власть в Армении.
Большевики поначалу решили отдать Армении все спорные территории, по-видимому, в награду за ее обращение в большевизм. В декабре 1920 года коммунистический лидер Азербайджана Нариман Нариманов приветствовал "победу братского народа" и объявил, что все три спорных района, Карабах, Нахичевань и Зангезур, отныне становятся частью Советской Армении. Это обещание, сделанное явно под давлением Москвы, никогда не было выполнено.
Весной 1921 года баланс сил изменился, и антибольшевистский мятеж в Армении сразу испортил отношения между Москвой и Ереваном. Все прошлые договоренности утратили силу. К тому моменту судьба Зангезура и Нахичевани уже была решена с помощью военной силы. Лидер дашнаков Нжде захватил Зангезур, изгнав оттуда остатки азербайджанского населения и добившись, как эвфемистически выразился один армянский автор, "реарменизации" региона (6). Азербайджанцы получили Нахичевань, и его статус был подтвержден Московским договором, подписанным в марте 1921 года между Советской Россией и Турцией. По этому же договору Карс, регион, ранее в основном армянский, отошел к Турции.
После этого под вопросом осталась лишь судьба Нагорного Карабаха. Окончательное решение относительно его статуса должны были принять шесть членов "Кавбюро", большевистского комитета по делам Кавказа, чья деятельность находилась под неусыпным наблюдением комиссара по делам национальностей Иосифа Сталина. 4 июля 1921 года бюро проголосовало за присоединение Карабаха к Советской Армении, против чего решительно возражал Нариманов. Спустя сутки, бюро решило, что "исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами и экономической связи между верхнего и нижнего Карабаха, его постоянной связи с Азербайджаном, Нагорный Карабах оставить в пределах Аз ССР, предоставив ему широкую областную автономию с административным центром в г Шуше, входящим в состав автономной области" (7).
В июле 1923 года советские власти создали Нагорно-Карабахскую автономную область и через месяц утвердили ее административные границы. Армянский поселок Ханкенди стал областным центром и был переименован в Степанакерт, в честь одного из бакинских комиссаров, Степана Шаумяна. Область, населенная преимущественно армянами -94% от общей численности населения – получила новые границы, но оказалась оторванной от Армении. Десятки литров чернил было изведено на споры о том, почему Нагорный Карабах в 1921 году стал частью советского Азербайджана.
Аргументы за и против этого решения отражают самую суть политической подоплеки карабахской проблемы: экономические интересы и географические особенности Азербайджана сталкиваются с доводами армян, апеллирующих к демографической ситуации и исторической преемственности. Проще говоря, регион, который населен преимущественно армянами и в котором сильны традиции армянского самоуправления, был расположен восточнее естественного рубежа между Арменией и Азербайджаном, и экономически был интегрирован с Азербайджаном.
В 1921 году позиция большевиков отчасти изменилась в силу конъюнктурных стратегических соображений. Для них тогда приоритетной задачей было укрепление своей власти в Азербайджане, который только благодаря нефтяным месторождениям представлял куда большую важность, чем Армения. Кроме того, в 1921 году Азербайджан был формально независимым большевистским государством, близким союзником Турции.
Республика имела свой комиссариат иностранных дел, дипломатические представительства в Германии и Финляндии, консульства в Карсе, Трабзоне и Самсуне. Большевики в Москве надеялись, что новая мусульманская советская республика станет, по словам бакинского большевика Султана Галиева, "красным маяком для Персии, Аравии и Турции", способствуя их присоединению к мировой революции. Коммунистический лидер Армении Александр Мясникян позднее жаловался на угрозу Нариманова, заявившего, что "если Армения будет претендовать на Карабах, мы перестанем поставлять туда керосин".
Образование Нагорно-Карабахской автономной области внутри Азербайджана часто приводится в качестве примера политики "разделяй и властвуй", когда Москва натравливала один подвластный себе народ на другой, чтобы упрочить свою власть. Но это упрощенный взгляд. Разумеется, большевики восстанавливали империю всеми имеющимися у них средствами. Однако если бы они хотели только "разделять и властвовать", то было бы куда логичнее передать нагорно-карабахский анклав Армении, создав причудливый островок суверенной Армении внутри Азербайджана.
На самом деле, вероятно, решение Кавбюро было продиктовано далеко идущими соображениями как экономического, так и колониального характера. Ленин и Сталин сделали Нагорный Карабах элементом новой запутанной мозаики автономных областей и республик, которая шла на смену старой царской системе однородных губерний. Новые области должны были стать экономически жизнеспособными территориями, и все прочие соображения отходили при этом на второй план.
Так, скажем, на Северном Кавказе жителей равнинных и горных районов – таких, как кабардинцы и балкарцы, – воссоединили в границах одной автономной республики. Эти народности ранее не имели этнических связей, но планировалось, что они станут работать плечом к плечу на новых стройках социализма и поведут отсталые горные племена к светлому будущему. Решение оставить Карабах в составе Азербайджана было продиктовано той же экономической логикой.
Особенно на руку это было тысячам азербайджанских и курдских пастухов-кочевников, которые регулярно перегоняли отары овец на высокогорные пастбища Карабаха летом и спускались на равнины Азербайджана в зимнее время (8). В этом смысле образование Нагорного Карабаха точнее было бы назвать результатом политики "объединяй и властвуй". Причем советская разновидность подобного объединения сама по себе таила в себе немалую опасность, потому что стимулировала острую конкуренцию между новыми партнерами.
Маленькие империи
Непредвиденным побочным продуктом изобретенного Лениным нового административного устройства страны стало то, что новая система, привязав национальность к территории проживания, консервировала внутри себя национализм в скрытой форме. СССР был образован как федерация республик, названных по национальности. Каждая "союзная республика" (в 1922 году их было четыре, а после 1956 года – пятнадцать) сохраняла элементы суверенитета, включая формальное право выхода из состава Советского Союза. Все они имели свой флаг, герб, гимн и политические институты.
Большинство атрибутов суверенитета имели, впрочем, чисто декоративный характер и мало что значили в условиях жестких ограничений однопартийной системы авторитарного государства. Но при этом они подчеркивали и без того очевидные национальные различия, формализованные самой системой. Советский Союз (в отличие, например, от США), не был "плавильным котлом". Достигнув шестнадцати лет, каждый советский гражданин должен был заявить о своей национальной принадлежности, закрепленной в печально известном "девятом пункте" внутреннего советского паспорта.
Это означало, что все люди в СССР принадлежали, по крайней мере, к двум группам, а некоторые национальные меньшинства, вроде азербайджанцев и курдов, проживавших в Армении, например, или армян, лезгинов или русских в Азербайджане, к трем. Они принадлежали, во-первых, к национальности, указанной в их советских паспортах (курды, армяне, азербайджанцы и т. д.), во-вторых, они были гражданами союзной республики – России, Армении или Азербайджана, и, наконец, гражданами Советского Союза – то есть частью "советского народа" в целом.
Уже в послевоенные годы Советский Союз обрел свой стандартный серый внешний вид. Его граждане могли вступать только в одну партию, покупать только три вида сосисок, читать только "Правду", "Известия" и "Труд". Армянину или азербайджанцу многое было привычно – будь то одинаковые жилые дома или одинаковое мыло – и в Ташкенте и в Таллинне, равно как и в Баку и Ереване. Тем не менее, подспудно существовала масса различий. После смерти Сталина, баланс экономической власти начал смещаться от центра вовне – от России к союзным республикам. Кое-кто из русских даже жаловался, что бремя империи становится слишком дорогим. Говорит реформатор горбачевской эпохи Александр Яковлев:
"[В 1970-1980-е годы] Политбюро уже не обладало такой властью, как при Сталине. Во-вторых, появилось понимание того, что нам необходимо дать республикам некоторую степень свободы. В итоге они обрели бы определенную ответственность и перестали бы вечно клянчить: "Дайте денег, дайте денег, постройте то, постройте это". Все чаще звучала идея заставить республики платить за себя – ведь они работали, они зарабатывали свои собственные средства. Понимаете, советская империя была очень странной империей. Россия доминировала политически, но экономически она страдала, все делалось вопреки экономическим интересам России" (9).
Три кавказские республики постепенно упрочивали свою значимость, и ряд ярких атрибутов их нового статуса как мини-государств был закреплен в новой "брежневской" Конституции 1977 года. Так, в каждой республике язык титульной нации – грузинский, азербайджанский и армянский – стал официально считаться "республиканским языком" (в случае с Грузией Москва согласилась пойти на такой шаг после массовых уличных выступлений протеста). 72-я статья Конституции подтвердила, пусть только на бумаге, право союзных республик на выход из состава СССР, а статья 78-я гласила, что "территория союзной республики не может быть изменена без ее согласия" – это и стало конституционным козырем Азербайджана в карабахском споре.
Растущая уверенность доминирующих этносов союзных республик – армян, грузин и азербайджанцев – вынуждала национальные меньшинства чувствовать шаткость своего положения. Ситуация, позволившая Андрею Сахарову назвать союзные республики "маленькими империями", нашла отражение в демографической статистике. В Армении, численность армянского населения в период между двумя переписями 1970 и 1979 годов выросла на 23%, а численность азербайджанцев в этой республике за тот же период увеличилась лишь на 8%.
Это свидетельствовало о том, что азербайджанцы, у которых темпы роста рождаемости были весьма высоки, покидали Армению. В результате армяне составили более 90% населения Армении, что сделало ее самой гомогенной республикой Советского Союза. За тот же период в Азербайджане численность этнических азербайджанцев выросла на четверть, а вот численность армян и русских фактически упала. К 1979 году в Нахичевани армяне составляли лишь 1% населения или три тысячи человек. Карабахские армяне приводили этот факт как пример медленной "деарменизации" Нахичевани на протяжении двадцатого века и как пример того, что может случиться с ними.
Еще более малочисленные народности Кавказа, как, например, курды, также жаловались на ассимиляцию. В 1920-е годы азербайджанские курды имели свою национальную автономию к западу от Нагорного Карабаха – Красный Курдистан. В 1930 году ее упразднили, и большинство курдов постепенно стали считаться "азербайджанцами". По подсчетам одного из лидеров курдской общины, в настоящее время в Азербайджане проживает около 200 тысяч курдов, хотя официальная статистика говорит только о 12 тысячах (10).
Российский эксперт по национальному вопросу Валерий Тишков комментирует: "[Союзные республики] обращались со своими национальными меньшинствами куда жестче, чем Москва. При обсуждении причин распада [Советского Союза] основное внимание уделяется политике Москвы, но крупнейшими ассимиляторами были Грузия, Азербайджан и Узбекистан (Армения в меньшей степени, только потому, что там было меньше национальных меньшинств)" (11).
Феодальные первые секретари
В 1960-1970-е годы к власти в трех кавказских республиках пришли представители нового поколения первых секретарей ЦК местных коммунистических партий. Эдуард Шеварднадзе в Грузии, Карен Демирчян в Армении и Гейдар Алиев в Азербайджане были у власти более десяти лет и создали разветвленную сеть, основанную на безусловном подчинении вышестоящему начальнику. По сути дела, они были своего рода феодальными князьями, платившими дань Москве и единолично правившими дома.
Это наследие впоследствии помогло и Шеварднадзе, и Алиеву вернуться во власть в качестве президентов независимой Грузии и независимого Азербайджана в 1992 году и 1993 году. И никого особенно не удивляло, что при одной системе оба были преданными ЦК партийными боссами, а при другой в одночасье стали служащими народу национальными лидерами. В 1998 году в Армении Демирчян едва не последовал их примеру, но потерпел поражение во втором (спорном) туре президентских выборов.
Занимая с 1969 по 1982 годы пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Азербайджана, Гейдар Алиев был, вероятно, наиболее успешным руководителем союзной республики в СССР. Он поднял престиж некогда непривилегированной советской республики, постоянно продвигал азербайджанцев на высокие посты в стране и мастерски льстил Брежневу. Брежнев трижды посещал Азербайджан, где его всякий раз осыпали щедрыми подношениями и устраивали ему грандиозные приемы. Однажды Алиев преподнес ему кольцо с огромным бриллиантом,– Брежнев -,обрамленом пятнадцатью бриллиантами меньшего размера – союзные республики. Говорят, кольцо обошлось в астрономическую по тем временам сумму – – 226 тысяч рублей (12). Правда, и Брежнев отплатил не менее щедро.
В 1995 году, в одном из интервью Алиев рассказал, как ему удалось убедить Брежнева профинансировать строительство в Азербайджане нового завода по производству кондиционеров. И все потому, что во время партийной конференции в Ташкенте у советского лидера разыгралась бессонница:
"Утром [Брежнев] пошутил, что в его комнате всю ночь как будто какой-то трактор работал, и только под утро он понял, что это кондиционер. Кто-то ему сказал, что этот кондиционер выпущен в Баку. А мы действительно наладили выпуск кондиционеров на одном заводе, но конечно, не имея никакой технологии. Он ужасно шумел и не особенно охлаждал воздух, но ничего другого не было. И когда Брежнев удивился, как это в нашей стране не производятся кондиционеры, я предложил построить завод кондиционеров в Баку. Он согласился. После этого я стал проталкивать, то есть буквально проталкивать решение по этому вопроса. Потом я стал выбивать финансирование. И когда средства были выделены, министр электротехнической промышленности Антонов решил построить завод в Запорожье [на Украине], потому что он там когда-то обучал рабочих, и там легче было начать производство. Его логику можно было понять, но я пошел к Брежневу, и он сдержал свое обещание" (13).
Этот рассказ многое проясняет: почему советские люди на Кавказе и в Средней Азии каждое лето страдали от жары; как командная экономика оказалась не в состоянии обеспечить производство необходимых товаров: насколько оторваны были советские руководители от повседневных проблем советской жизни; как важно было иметь доступ к Брежневу; как принимались в стране важные решения.
Рассказ Алиева служит иллюстрацией того, как советская система, при всех разговорах о гармонии и братстве республик, способствовала конкуренции и соперничеству. Это особенно ощущалось именно на Кавказе, где региональное экономическое сотрудничество было на удивление слабо развито и, в силу абсурдности системы централизованного планирования, завод в Армении мог с таким же успехом иметь смежников в Минске или Омске, как и в соседнем Азербайджане.
В политической сфере брежневский авторитарный режим хоть и ограничивал полномочия местных руководителей, но зато не возлагал на них почти никакой ответственности: вместо разделения власти, между Москвой и регионами шел бесконечный торг за распределение благ и льгот. Будучи политически полностью подчинены центру, республиканские лидеры в Баку, Тбилиси и Ереване ревниво лелеяли свою личную власть и не имели ни малейшего стимула для взаимного сотрудничества.
Как следствие, отношения между руководителями трех закавказских республик оставались неважными. Говорили об острейшем соперничестве между Алиевым и Шеварднадзе, хотя впоследствии они наладили взаимоотношения в 1990-е годы, возглавив независимые Азербайджан и Грузию. Но самые плохие отношения установились, вероятно, между Алиевым и Демирчяном.
В 1970-1980-е годы Алиев и Демирчян враждовали по поводу распределения бюджетных ресурсов. Их самая знаменитая размолвка была вызвана планами строительства трассы, которая должна была пройти по территории Армении и соединить азербайджанский анклав Нахичевань с республикой, причем этот вопрос вновь был поднят в 1999 году, хотя и в совершенно ином виде. Как азербайджанский партийный руководитель, Алиев, уроженец Нахичевани, активно лоббировал идею строительства трассы союзного значения в Нахичевань через армянский Мегрийский район.
Это был престижный дорожно-строительный проект, причем трасса должна была пролегать только по советской территории, что могло бы принести номинальную выгоду всем заинтересованным сторонам. Однако Демирчян решительно выступал против проекта и в конце концов ему удалось его заблокировать. Он очевидно был убежден, что то, что хорошо для советского Азербайджана, – плохо для советской Армении.
Когда встал вопрос о прокладке шоссе через Мегри, Игорь Мурадян, впоследствии зачинатель движения карабахских армян, работал в республиканском Госплане – комитете государственного планирования. По его словам, ему дали задание: найти аргументы против строительства магистрали. "Нам нужно было доказать, что грузопоток в Нахичевань является незначительным".
Как мы уже видели, Мурадян, хотя и был активистом националистического движения, пользовался негласной поддержкой Демирчяна в своих кампаниях по дискредитации Алиева и Азербайджана. Отвечая на вопрос, почему глава Коммунистической партии республики оказывал помощь ему, диссиденту, Мурадян со смехом объяснил, что он просто оказался полезным оружием во внутренней борьбе за власть. "Дорогой мой, Советский Союз перестал существовать уже в начале семидесятых! – сказал он. – Существовали разные республики. Одна республика воевала с другой и так далее. Их совершенно не интересовали общечеловеческие идеалы" (14).
Три первых секретаря республиканских компартий пошли еще дальше по пути создания экономической самостоятельности и суверенности своих республик. Они активно выступали за возрождение "национальных культур", что давало им возможность узаконивать их власть внутри и укреплять имидж своих республик за их пределами.
Хрущевская оттепель 1960-х годов стимулировала всплеск интеллектуальной и культурной жизни во всех национальных республиках. Любое проявление нелояльности к России или коммунистической партии все еще было недопустимо, но писатели и историки теперь могли обращаться ко многим аспектам культуры и прошлого, которые до той поры находились под запретом. Это была своего рода мягкая деколонизация, совершаемая без жесткой политики. Размышления двух поэтов, азербайджанца и армянина, поразительным образом схожи. Вот что сказал Сабир Рустамханлы, известный азербайджанский поэт:
"Этот период – шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые годы – был периодом маленького возрождения в Советском Союзе. В разных республиках начался процесс самоидентификации, национальное самосознание рослої Несмотря на то, что в студенческие годы нас заставляли изучать литературу, связанную со сталинизмом и тому подобное, наше поколение полностью отрицало это. В наших стихах, в наших произведениях, не было ни слова о советской идеологии, о братских узах с Москвой" (15).
А это рассказ армянки Сильвы Капутикян: "Руководство не подавляло наши национальные чаяния. Выходили совершенно необычные книги. Когда я была в Америке в 1964 году, я подарила одну из своих книг, посвященную целиком Армении, армянским проблемам, армянским трагедиям и тому подобное, одной женщине-дашначке. Она была поражена тем, как такое могло быть напечатано. Я объяснила ей, что у нас более или менее либеральное руководство – в хорошем смысле слова" (16).