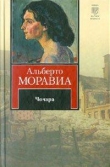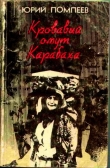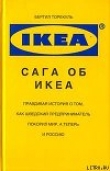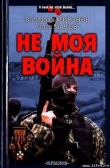Текст книги "Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной"
Автор книги: Томас де Ваал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
Другой военачальник, бывший министр обороны Азербайджана Таджеддин Мехтиев, сначала разразился воинственной речью, а затем неожиданно продемонстрировал искреннее добродушие. Мехтиев является одним из лидеров "Организации освобождения Карабаха", которая ратует за возвращение Карабаха силой. "Мы выгоним армян из Карабаха, – гремел Мехтиев, – а затем пойдем дальше и выгоним их из нашей исторической территории – Зангезура". После интервью генерал отдвез меня в своем "мерседесе" к центру Баку. Услышав, что я собираюсь в Армению, потенциальный завоеватель Карабаха и Зангезура попросил: "Если будете в Ереване, разыщите Михаила Арутюняна и передайте ему от меня большой привет. Он сейчас начальник Генерального штаба. Мы вместе с ним учились в академии Генштаба [СССР]" (6).
Я был поражен тем, что часто добросердечными оказывались именно те люди, которые больше всего потеряли в этой войне. Например, азербайджанка Наиля работала учительницей под Сабирабадом. Как и ее соседи, она была беженкой, чей дом захвачен армянами. Но с какой теплотой она вспоминала о двух армянских девушках, с которыми подружилась на курсах повышения квалификации учителей в Баку, о том, как они делились едой и разучивали друг с другом песни! Наиля сказала, что беспокоится о своей дочери, у которой формируется противоположный взгляд на жизнь. "Когда по телевизору показывали резню в Ходжалы, дочка спросила меня: "А армяне – люди?" Она не могла поверить, что люди способны на такие вещи, на убийство. Я ответила ей: "Да, они люди". А потом по российскому телевидению была передача с ведущей-армянкой, и я сказала дочке: "Смотри, вот армянка. У нее есть семья, дети".
Воспитывая свою дочь в таком духе, Наиля противостоит ежедневным атакам официальной пропаганды. В Азербайджане, потерпевшем поражение в этой войне, официально распространяемая ненависть особенно сильна. 9 мая 2001 года, спустя всего лишь месяц после серьезного обсуждения мирного соглашения в Ки-Уэсте, президент Алиев возложил венок к памятнику жертвам второй мировой войны и провел параллель между вторжением нацистов на территорию Советского Союза и оккупацией армянами азербайджанских территорий. В своей речи он сказал, что "агрессор обязательно должен быть наказан" (7).
Рассказывая о своей жизни в годы конфликта, и армяне, и азербайджанцы обязательно выставляют себя жертвами агрессивности противной стороны, а свое собственное насилие называют вынужденными мерами самообороны. Армянская версия событий начинается с погромов в Сумгаите, переходит к событиям в Баку в январе 1990 года, операции "Кольцо", обстрелам Степанакерта и захвату Шаумяновского района. Азербайджанцы начинают рассказ с принудительной высылки азербайджанцев из Армении в 1988 году, вспоминают, как они сами пострадали в Баку в январе 1990 года, переходят к массовым убийствам в Ходжалы и заканчивают эту скорбную хронику воспоминаниями об оккупации территорий к востоку от Нагорного Карабаха. Эти однобокие толкования современной истории теперь есть и в школьных учебниках.
В этих рассказах часто возникают темы деколонизации и независимости. Выслушивая их снова и снова, я начал замечать на заднем плане тени двух врагов – России и Турции. Идея о том, что Россия и Турция представляют реальную угрозу, очень широко распространена в обеих странах. Привожу здесь два комментария, взятых почти наугад из проведенных мной интервью. Арам Саркисян, в прошлом первый секретарь Компартии Армении, сказал мне: "Сегодня Армения – это всего лишь маленький барьер на пути намерения Турции объединиться со всеми тюркоязычными странами: ведь мы не даем им соединиться с Азербайджаном" (8).
Иными словами, Азербайджан является пособником Турции, которая лелеет историческую мечту об уничтожении Армении. В этой армянской истории, основанной на памяти о геноциде, пережитом в 1915 году, упускается тот факт, что азербайджанцы и турки – не одна и та же нация; что Азербайджан никогда не был частью Османской империи; что в истории ХХ века есть столько же случаев зверств, совершенных армянами против азербайджанцев, сколько и азербайджанцами против армян. Фактом является и то, что армяне жестоко обошлись с азербайджанцами на их собственной территории.
Точка зрения многих азербайджанцев на роль России в истории Кавказа является зеркальным отражением армянской версии. Я слышал, что требования карабахских армян на отделение являются всего лишь частью глобального плана России поработить и окончательно развалить Азербайджан. Бывший помощник азербайджанского президента Вафа Гулузаде писал:
"Когда мы называем конфликт, в который втянуты, "армяно-азербайджанским", мы вводим в заблуждение и себя, и других. В действительности, это последняя фаза давнего российско-турецкого противостояния. Армения – лишь исполнитель воли своего господина, а Азербайджан – лишь небольшая помеха на пути к достижению глобальной цели. Общеизвестно, что даже в начале ХХ века, во время Первой мировой войны, Россия использовала Армению в противостоянии с Турцией. Видимо, история повторяется" (9).
Как видим, теперь уже не Армения является "маленьким препятствием" на пути Великого Турана, а Азербайджан стал "небольшой помехой", сдерживающей наступление русского империализма. По версии азербайджанцев, они всего лишь невинные жертвы русско-армянской агрессии. При этом игнорируется тот факт, что Москва время от времени считала Азербайджан не противником, а стратегическим союзником, и что Армения в данном случае выглядит марионеткой, подчиняющейся указаниям России, а не активной стороной со своими собственными устремлениями. В обоих случаях маленькая страна оправдывает свою агрессию по отношению к своему столь же маленькому соседу, ссылаясь на угрозу, исходящую от грозной "сверхдержавы".
Никто из участников, в том числе и "сверхдержавы", не вышел с честью из. печальной истории карабахского конфликта. Американские, российские и турецкие политики, должно быть, имеют весьма слабое представление о том, как дотошно изучаются и интерпретируются их комментарии по поводу ситуации на Южном Кавказе. Даже самые пустячные высказывания о ситуации в регионе раздуваются местными комментаторами до вселенских масштабов.
Сам по себе этот регион имеет небольшое стратегическое значение. Совокупный ВВП трех закавказских республик составляет около десяти миллиардов долларов (для сравнения – оборот British Petroleum – крупной западной компании, работающей в Закавказье, – в 2000 году составил 148 млрд. долл.). Южный Кавказ представляет ценность для остального мира в основном потому, что здесь сталкиваются интересы великих держав, а также из-за стратегического нефтепровода для транспортировки каспийской нефти.
Маленькие государства и окружающие их могучие соседи находятся в неравных весовых категориях, и потому великие державы несут больше ответственности. Их вклад необходим для благоприятного разрешения армяно-азербайджанского конфликта. И в 2002 году в этом плане наметились сравнительно обнадеживающие перспективы.
Политику России на Южном Кавказе искажало имперское наследие и традиционные амбиции военного истеблишмента. Российские генералы поддерживают тесные отношения с Арменией, и многие из них предпочли бы, чтобы армяно-азербайджанский конфликт не был разрешен, так как это привело бы к ослаблению их влияния в регионе. Но после отставки Павла Грачева с поста министра обороны России в 1996 году, роль российских военных начинает постепенно снижаться. Похоже, при президенте Путине этот процесс продолжится. В 2002 году, хотя политика России по отношению к Грузии оставалась враждебной, значительное потепление наметилось в отношениях между Россией и Азербайджаном. Более того, на переговорах Минской группы Россия заняла в целом позицию, согласованную с Францией и Соединенными Штатами.
Политика Соединенных Штатов в регионе искажается в результате влияния со стороны местных лоббистских групп, которые едва ли не приватизировали политику США в отношении Армении и Азербайджана. Действия армянского лобби в американском конгрессе привели к принятию одного из самых аномальных законодательных актов в области внешней политики – 907-й поправки к Акту о защите свободы, согласно которой правительству США запрещалось оказывать помощь Азербайджану.
Другие же политики, отстаивающие интересы Азербайджана, настойчиво выступают за прямо противоположный подход, предусматривающий оказание Азербайджану правительственной помощи до тех пор, пока он противостоит России и Ирану – и, следовательно, также изолирует Армению. Противоборство этих двух позиций сильно затрудняет работу госдепартамента США в переговорном процессе по проблеме Карабаха. Впрочем, в январе 2002 года наметились положительные сдвиги: Конгресс США отменил 907-ю поправку.
На роль Турции в кавказской политике падает тень спора о геноциде армян. В 2000 году армяно-турецкие отношения не только не улучшились, но даже ухудшились, поскольку парламенты нескольких европейских стран приняли резолюции о геноциде. Но и здесь не все было плохо. Группа непокорных – армян и турок – создала Армяно-турецкую комиссию по примирению (TARC), а губернаторы Карса и Гюмри провели переговоры о перспективах делового и торгового сотрудничества. Во многом, что весьма парадоксально, учитывая соизмеримый исторический резонанс событий 1915 и 1988 годов, будущие отношения Армении с Турцией представляются более многообещающими, чем с Азербайджаном.
Нападение на США 11 сентября 2001 года обозначило резкую смену приоритетов. В результате Соединенные Штаты, Россия, Турция, Армения, Азербайджан и даже, в известной степени, Иран оказались членами единой коалиции против общего врага. Однако в начале 2002 года, когда пишется эта книга, еще слишком рано говорить о том, какой эффект в долгосрочной перспективе может иметь эта переориентация.
Трагедия последствий армяно-азербайджанского конфликта в том, что даже если все споры будут закончены уже завтра, прогнозы на ближайшее будущее региона все равно останутся мрачными. Открытие границ Армении с Турцией и Азербайджаном является необходимым, но уже не достаточным условием для экономического возрождения. В опубликованном в 1999 году исследовании Ричард Бейлок, экономист из Университета Флориды в США, утверждает, что если откроются все закрытые границы, затраты на транспорт между Турцией и Арменией сократятся на треть, или может быть, вдвое, при этом ВВП Армении увеличится на 180 миллионов долларов (10).
Ряд зарубежных компаний могли бы использовать Армению как промежуточный пункт на пути к обширным рынкам на востоке Турции. Это поможет экономике Армении, но понадобятся годы и годы, чтобы она приблизилась к уровню относительно скромной российской экономики. Между тем, Армения уже упустила возможность проведения по ее территории каких-либо каспийских трубопроводов. Таково скромное будущее Армении – если, конечно, мир будет заключен. Если же нет, то будущее республики безрадостно. До полного краха вряд ли дойдет: могущественные друзья Армении, Россия и Соединенные Штаты, слишком сильны, чтобы это допустить. Однако Армения рискует постепенно превратиться, как едко выразился западный дипломат, "в заповедник для армянской диаспоры".
Конечно, перспективы развития экономики Азербайджана более оптимистичны. В 2002 году наконец сдвинулся с мертвой точки проект прокладки трубопровода Баку-Джейхан, и с 2006 года экспорт нефти, как ожидается, принесет Азербайджану около 500 миллионов долларов стабильного ежегодного дохода. Стремительное обогащение за счет поставок нефти – проект довольно рискованный и может привести к так называемой "голландской болезни". Львиная доля вырученных средств может осесть в карманах узкого круга элиты и подпитывать коррупцию, уже принявшую угрожающие масштабы, что окончательно разрушит секторы экономики, не связанные с нефтью. Впрочем, часть этого богатства все-таки пойдет на повышение уровня жизни, так что новый нефтяной бум поможет Азербайджану стать более открытой для внешнего мира страной.
Однако пока неясно, как экономическое процветание поможет Азербайджану разрубить карабахский узел. Перспективы социально-экономического развития страны на в среднесрочной перспективе остаются туманными. В стране огромное количество беженцев, и, даже если будет подписано мирное соглашение, они не исчезнут. На отвоеванных территориях Физулинского района восстановительные работы ведутся медленными темпами – все указывает на то, что понадобится от пяти до десяти лет, чтобы вернуть к жизни такие города, как Агдам и Зангелан. Тем временем, имущественное расслоение в Азербайджане усиливается, что может привести к обострению социальной напряженности и политической нестабильности.
Более зажиточный и уверенный в себе Азербайджан неизбежно начнет рассматривать варианты возобновления войны и возврата утраченных территорий. "Организация освобождения Карабаха" Таджеддина Мехтиева уже пользуется общественной поддержкой. Однако призывы к "освобождению Карабаха", пока не столь близки широкой общественности, как может показаться, если судить по средствам массовой информации.
Сейчас, в 2002 году, все говорит о том, что Азербайджан будет совершенно не готов к ведению военных действий еще, по меньшей мере, лет пять-десять, а, может быть, и дольше. Гейдар Алиев намеренно ослабил армию, чтобы предотвратить любые попытки военного переворота. Западный военный эксперт, оказавшийся в 2000 году в зоне прекращения огня вблизи Карабаха с азербайджанской стороны, рассказывал мне, что воинские части, которые он посетил, были небоеспособны. На линии фронта, по его словам, стояли четыре дивизии, укомплектованные личным составом всего лишь на 40 процентов. Их моральный дух был подорван безденежьем, плохим питанием и общим отсутствием дисциплины. По оценке этого эксперта, для достижения успеха в условиях данного рельефа местности атакующей стороне требуется от трех– до шестикратного перевеса в численности личного состава и военной технике.
Около двадцати тысяч армянских военнослужащих, противостоящие азербайджанцам вдоль карабахской линии фронта, подготовлены, пожалуй, не так блестяще, как утверждают их командиры, но они хорошо вооружены российским оружием и у них отличная система укреплений. Даже если Азербайджан начнет тратить много средств на модернизацию своего вооружения, это не обеспечит ему победу. Как сказал один из моих азербайджанских знакомых, "Азербайджан не готов ни к миру, ни к войне".
Перевооружение Азербайджана повысит степень вероятности того, что военные действия развяжет противник. Это может стать чем-то вроде "четвертого раунда" конфликта, который предсказал Самвел Бабаян. В этом раунде, как предполагал Бабаян, силы карабахских армян предпримут молниеносную атаку, захватят новые территории и попытаются добиться полной капитуляции Азербайджана.
Согласно этому сценарию, они, вероятно, постараются разрушить нефтепровод Баку-Джейхан, проходящий в пятнадцать километрах к северу от Карабаха. Но и это относится к области фантастики. Линия фронта не случайно проходит там, где сейчас. Ее можно будет еще больше вытянуть только ценой тяжелых потерь и во имя весьма сомнительных целей. Эту военную кампанию придется вести армянским солдатам срочной службы, которые никогда не бывали в сражениях. И в этом случае поражение более вероятно, чем победа.
Война станет катастрофой – ни одна война еще ни разу не закончилась так, как планировали развязавшие ее люди. Однако не следует исключать "фактора глупости" (это слова российского ученого Валерия Тишкова о Чечне). Однако можно точно сказать, к каким последствиям гарантированно приведет возобновление военных действий.
Это будут: человеческие потери, причем гораздо большие, чем в 1991-1994 годах, поскольку обе стороны будут использовать оружие большой разрушительной мощи для поражения хорошо укрепленных позиций противника. Это будет гневная международная и дипломатическая реакция. Война приведет к развалу и без того слабой экономики обеих стран. Нельзя исключить и еще один, более ужасный, вариант развития событий: открытое вмнешательство дислоцированных в Армении российских вооруженных сил, с армянской стороны, и – турецких (а Турция является членом НАТО), – со стороны Азербайджана. Следует сделать все возможное, чтобы избежать даже отдаленной вероятности развязывания на Кавказе третьей мировой войны.
Если не война, то мир. В какой-то момент в 2001 году перспектива заключения мира казалась более реальной, чем за многие предшествующие годы. Однако к концу года надежды на успех Ки-Уэстской инициативы рухнули. Парадоксальность процесса мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта заключается в том, что в частных беседах лидеры обоих стран выражали серьезную готовность к взаимному компромиссу, однако в публичных выступлениях все время допускали агрессивные высказывания.
В октябре 2001 года приводилось высказывание Алиева, предупреждавшего посредников: "Либо Минская группа ОБСЕ займет принципиальную позицию в этом вопросе, либо мы освободим свои земли военным путем" (11). Отвечая на вопрос, почему они ничего не предпринимают, чтобы сделать обсуждение возможности заключения мира достоянием общественности, оба президента создавали впечатление, что они, скорее, считают свои народы податливым материалом, из которого можно вылепить все, что угодно, нежели гражданами, которые должны участвовать в политическом диалоге.
Когда, к примеру, в мае 2001 года у Кочаряна спросили, почему он не подготовил армян к возможности диалога с Азербайджаном, тот заявил: "Разочарование и несбывшиеся надежды в данной ситуации могут привести к худшим последствиям, чем определенная осторожность в подаче информации" (12). В сущности, он заявил, что простых людей лучше держать в неведении.
Для такой странной скрытности, проявляемой обоими президентами, есть несколько причин. Ни Алиев, ни Кочарян по своей природе не являются демократами и в 1993-1994 годах оба пытались одержать военную победу друг над другом. Ни тот, ни другой не были готовы к диалогу. Для обоих лидеров оставаться у кормила власти было почти наверняка важнее, чем добиваться мирного урегулирования – сколь бы желанным ни был мир.
Более того, неуступчивостью и жесткостью своей политики они подогревали друг у друга азарт власти. Видимо, оба боялись, что любое публичное проявление готовности к компромиссу будет расценено как проявление слабости и приведет к тому, что противоборствующая сторона займет на переговорах более жесткую позицию.
Однако непримиримость, демонстрируемая лидерами двух стран, явно загоняет их самих в тупик. Например, когда карабахские армяне, продолжающие смотреть азербайджанское телевидение,,видят, что в вечерних выпусках новостей их называют "фашистами" и "террористами", у них пропадает всякое желание снова становиться гражданами Азербайджана.
Как искренне сказал один демократично мыслящий азербайджанец об этой ситуации с телепропагандой: "Если бы я был карабахским армянином, я бы ни за что не захотел объединяться с Азербайджаном". А между тем дефицит сторонников мирного урегулирования как в Армении, так и в Азербайджане ограничивает возможности обоих президентов в поисках компромисса, необходимого для заключения мирного договора.
Любое справедливое решение проблемы Нагорного Карабаха приведет к тому, что обеим сторонам придется смириться с болезненными уступками. Нужно будет также сбалансировать диаметрально противоположные принципы территориальной целостности и национального самоопределения. Международное сообщество неохотно одобрит соглашение о легитимизации отделения Нагорного Карабаха, ведь оно станет прецедентом, – и на это есть веские основания – опасение, что отделение может привести к дестабилизации обстановки в других "горячих точках". В основном поэтому почти во всех вариантах разрешения проблемы, обсуждавшихся до Ки-Уэста, Нагорный Карабах, пусть только де-факто, вновь признавался частью суверенной территории Азербайджана.
Но если территориальная целостность является мощным фактором международных отношений, реальное положение вещей в регионе остается непоколебимым. А реальность такова, что Нагорный Карабах отделился от Азербайджана, и уже более десяти лет карабахские армяне не имеют никаких отношений с Баку. Однако было бы крайне опасно позволить вооруженным сепаратистам завладеть отвоеванной ими территорией: это узаконит депортацию сотен тысяч людей и узаконит также право Азербайджана силой отвоевать Карабах, что вызовет бесконечную череду насилия.
Но при мирном разрешении конфликта следует уважать силу народного волеизъявления – если не силу оружия – которое привело к отделению. Мирное урегулирование будет невозможно, если за карабахскими армянами не будет фактически закреплено право на самоуправление, которое у них есть сейчас, и если они не получат серьезных гарантий безопасности.
Взаимопонимание по этим вопросам ничтожно мало. Многие азербайджанцы воспринимают территориальную целостность как своего рода "священное право" и считают, что они вовсе не обязаны делить суверенитет даже с такой провинцией, как Карабах. С 1994 года в Азербайджане почти не понимали последствий отделения Карабаха. Как-то вечером в Баку известный азербайджанский журналист совершенно серьезно сказал мне: "Не понимаю, почему нам просто не вернут наши земли? Если карабахские армяне не хотят жить вместе с нами, пусть отправляются жить в Армению".
Со своей стороны, многие армяне отказываются понимать, почему они должны отдать то, что завоевали на поле боя – и совершенно упускают из виду права карабахских азербайджанцев. "Нам не нужен Азербайджан, мы не желаем иметь отношений с Азербайджаном, – заявил в 1997 году армянский лидер Карабаха Аркадий Гукасян, как будто можно жить в полной изоляции от своего ближайшего соседа. – Это Азербайджану нужны отношения с нами".
Основные вопросы, которые необходимо решить, серьезны, но, возможно, их важность преувеличивают. Самая большая проблема заключается в отсутствии их разумного обсуждения. Странным и неконструктивным является нежелание Азербайджана вести переговоры напрямую с карабахскими армянами, – людьми, которых он считает своими гражданами. Многие армяне, со своей стороны, тоже делают совершенно невозможные заявления, словно Азербайджан – это не реальная страна и его притязания со временем просто развеются.
С этой точки зрения, самая большая проблема заключается не столько в неготовности к компромиссу, сколько в неготовности рассматривать любую возможность будущего мирного сосуществования. Гукасян рассказал историю, наглядно это подтверждающую. В 1995 году он был в составе армянской делегации, приглашенной в Финляндию для ведения переговоров о модели Аландских островов. Этот архипелаг, населенный шведами, входит в состав Финляндии, но имеет широкое самоуправление. В какой-то момент, вспоминал Гукасян, финны, представители принимающей стороны, отозвали его в сторонку и обратили внимание, на то, что подобная модель очень подходит для Нагорного Карабаха. "Они мне говорят: "Вот хорошая модель!" – а я им отвечаю: "Я готов, если хотите, хоть сейчас войти в состав Финляндии! Но мы говорим об Азербайджане" (13).
Эта история с Гукасяном наводит на мысль, что формат ведения переговоров между президентами Армении и Азербайджана изначально был непродуктивен. Оба президента сосредоточились на возможности заключения всеобъемлющего, или "пакетного", соглашения, в рамках которого все вопросы были бы решены сразу. Подобный подход к решению карабахской проблемы они избрали отчасти из-за дефицита времени: здоровье президента Алиева резко ухудшилось. Но есть еще одна причина: оба лидера находились во власти своих авторитарных инстинктов и не желали выпускать ситуацию из-под личного контроля.
После провала попытки заключения всеобъемлющего мирного договора, единственным логичным выходом из положения могло бы стать претворение в жизнь поэтапного, "пошагового" соглашения, в рамках которого, благодаря маленьким шажкам, таким как открытие границы между Арменией и Нахичеваном, возвращение какой-то части оккупированных территорий, процесс мирного урегулирования сдвинулся бы с мертвой точки. Подобные символические, но со временем все более смелые шаги связаны с определенным риском, но они могут побудить общественность обеих стран к началу мирного сотрудничества, а не к взаимной враждебности и цинизму.
И, может быть, лед начнет таять.
Даже в условиях мира лидеры Армении и Азеобайджана почти не сотрудничали дру с другом на протяжении последних ста лет. В советскую эпоху все свои дела они вели в Москве или посредством Москвы. С начала 1990-х годов Южный Кавказ превратился в запутанный клубок проблем – с боевыми действиями, закрытыми границами, тупиковыми транспортными магистралями и изолированными анклавами. В реальном политическом и экономическом понимании Кавказ не является регионом в буквальном смысле слова.
Но не всегда так было. Армянский поэт-ашуг XVIII века Саят-Нова писал на трех языках – грузинском, армянском и азербайджанском. Причем азербайджанский язык был лингва франка того времени (некоторые его азербайджанские стихотворения даже записаны армянскими буквами)., Саят-Нова чувствовал себя "своим" среди любого народа и в любом месте на Кавказе. Он считал себя строителем мостов. В одном из своих азербайджанских стихотворений поэт пишет о своей посмертной судьбе.
Из состраданья к старику, который строит мост,
Положит путник камень в основанье.
За свой народ отдам и душу, и дыханье,
Могильным камнем брат украсит мой погост* (14).
Биограф Саят-Новы Чарльз Доусетт размышляет по поводу значения слова "народ" в этом четверостишье: "О каком народе здесь идет речь? Если об армянском или грузинском, то почему стихотворение написано по-азербайджански? Похоже, поэт мыслит гораздо шире, и подразумевает единое кавказское сообщество, в котором армяне, грузины и азербайджанцы жили бы вместе в мире и согласии, под милосердным оком мудрого правителя, такого, как Ираклий II. И азербайджанский, как язык межнационального общения, оказался для поэта наиболее предпочтительным средством передачи его мыслей" (15).
В нескольких строках Саят-Нова описывает иное будущее для армян и азербайджанцев, находящихся сегодня в плену саморазрушительного страха и враждебности: более благополучное будущее, построенное на фундаменте более гармоничного прошлого.
Печально, что глас поэта не был услышан.
Лондон, январь 2002 года
Примечания
1. "Голос Армении", Ереван, 27 марта 2001 г.
2. Интервью Гулиева для "Эхо" (Баку) от 20 июня 2001 г.
3. Данные социолога Геворка Погосяна, приводимые в: John Daniszewski, "A Desperate, Destitute Nation Deserts Itself" [Отчаявшийся обнищавший народ махнул на себя рукой] – Los Angeles Times, 30 April 2001.
4. Интервью с Шахвердиевым 31 октября 2000 г.
5. Интервью с Саркисяном 15 декабря 2000 г.
6. Интервью с Мехтиевым 31 марта 2000 г.
7. Передача телекомпании АНС, Баку, 9 мая 2001 г.
8. Интервью с Саркисяном 4 мая 2000 г.
9. «Зеркало», Баку, 26 декабря 1998 г.
10. Beilock. What is Wrong with Armenia.
11. Turkish Daily News, 25 October 2001.
12. Интервью с Кочаряном 21 мая 2001 г.
13. Интервью с Гукасяном 7 октября 1997 г.
14. Dowsett, Sayat-Nova, p. 427.
15. Ibid., p. 434.